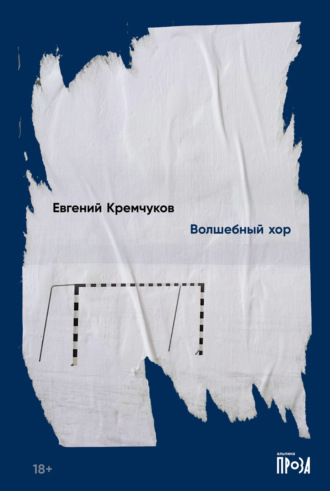
Евгений Кремчуков
Волшебный хор
Глава 3
Место, которого нет
Всех она переживет: и отца, рожденного в последний год золотого столетия и сложившего свою рано полысевшую честную голову в перестрелке с уголовниками дождливой осенью тридцать пятого в должности замначальника райотдела НКВД, каковая птица-перестрелка, конечно, одним-то крылом срезала год-другой его собственной жизни, однако крылом вторым – оберегла и жену его, и двух маленьких дочерей-погодок, благодаря той предрассветной засаде на складах ж/д станции переживших конец тридцатых в статусе и с пенсией семьи героя Гражданской войны и борца за установление советской власти в Энской губернии, а не с позорным, как обжигающий плевок, клеймом ЧСИР – членов семьи изменника родины; переживет она и старшего сына, погибшего молодым аспирантом под лавиной во время восхождения на Адай-Хох; переживет непутевого, но доброго своего мужа, уснувшего за рулем по дороге от озер с рыбалки; и младшего сына с невесткой, проводивших поздний летний отпуск восемьдесят шестого года на юге и навсегда ушедших в ночное море на «Адмирале Нахимове»; переживет она и мать, выжившую на старости лет из ума, воображающую себя гимназисткой и уверенно путающую дочь с давным-давно почившей собственной бабкой; и сестру, с которой их разделили полжизни и полмира и которая окончила земной свой путь в обратном полушарии, в маленьком хосписе на окраине Уоллонгонга, Новый Южный Уэльс, Австралия; переживет наконец и себя саму, когда, ближе к середине десятого десятка, обнаружит собственное иссушенное тело внутри загустевшего, остывшего, остановившегося времени, похожего на маленькую полость в темном янтаре, где не осталось от жизни ее вообще почти ничего, за исключением этого сложносочиненного перечня утрат, который, словно доисторическое и дочеловеческое длинношеее, извиваясь в слышном ей одной половичном шуршании, ежедневно и ежевечерне медленно, неотвязно ползет за нетвердыми уже, шаркающими старушечьими шагами – стелясь вдоль плинтусов и заполняя извивами глухие пыльные комнатки ее ветхого дома в частном секторе.
Но в протасовском и бавринском детстве она оставалась еще старушкой бодрой и строгой, крепко держащей дом и прилагавшийся к нему участок – небольшой палисадник перед окнами на улицу и огородик в три сотки во дворе – в нерушимом, искони и навек установленном порядке. Для соседей она была Наташей Петровной, учителкой, и они ее не то странно любили – с нутряной своей, природной, крестьянской простотой, не то от той же простоты побаивались, но неизменно и искренне уважали. Для Миши же, которого лет, наверное, с пяти ежегодно отдавали ей на воспитание на все три летних каникулярных месяца, была она просто баб Ташей. Отец и мама навещали их по выходным, а он жил в своей городской «деревне» безвыездно с июня по август, греясь жарче послеполуденного солнца в лучиках баб-Ташиного добра, тепла и света. С третьего же класса остался у бабушки навсегда.
Там же, в одном из баб-Ташиных лет, Протасов составил знакомство с Митей Бавриным. В команду того привел с собой Лехман, Леша Манченко, живший в панельной пятиэтажке на 3-й Советской и оттого считавшийся меж них «городским». Он отрекомендовал смуглого полноватого новичка как своего с недавних пор соседа и доброго хлопца. Баврин, похожий на какого-то южанина: не то болгарина, не то грека, не то молдаванина, – не старался нарочно понравиться, не плел небылиц, на вопросы отвечал кратко и дельно; это вызывало симпатию. Вопреки экзотической внешности, оказался он, возможно, самым местным из них. Предки его, рассказал Митя, обитали в этих краях издревле, с тех пор как царь Алексей Михайлович за верную службу и ратные подвиги пожаловал казачьего атамана Власа Никитича Баврина землей и деревенькой в одном из здешних уездов.
Тем утром Протасов с Боцманом сидели на штабе в дальней стороне оврага, когда Лехман привел своего цыганенка. Штаб они обустроили еще в незапамятные времена и подновляли каждый май. Сюда приносили все обретенные ими по огромному и таинственному детскому своему миру сокровища, здесь пекли в углях картошку, ставили юннатские опыты на лягухах, жарили на сковородке «сухарики» из свежих дождевых червяков, играли в ножички или в подкидного дурака растрепанной боцманской колодой, строили планы на будущее. Теперь их стало больше – но пообвыклись быстро, поболтали; затеяли – кажется, не без мысли о «проверке на дорогах» – пострелять из самострелов, которых имелось три штуки на четверых; новенький, получалось, оставался пока без собственного оружия, но они пообещали дать ему испытать свои. Самострелы у них были конструкции Манченко – на аптечном жгуте с прищепкой, для стрельбы вишневыми косточками. Лешка привез идею в конце прошлого лета из пионерлагеря – потом они уже все вместе собирали прототип, испытывали, дорабатывали конструкцию. Весной начали иногда постреливать в овраге, а как пошла зеленка – тут уж наступило для их партизанских засад раздолье! Впрочем, июнь и недельку июля забрал себе футбол – они собирались пораньше и с утра до ночи гоняли мяч за школой. Далекий мексиканский чемпионат мира – первый на их сознательном веку – дотянулся и сюда, накрыв отчаянную команду волной священного безумия: Дасаев против Марадоны, Платини против Линекера, Беланов и Бурручага крутили финты, носились до изнеможения по школьному полю, лупасили видавший виды мяч; прерываясь ненадолго на обед, возвращались опять, передохнувшие, злые до новых побед той сияющей, жгучей злостью, унять которую могла одна лишь ночь – когда уже невозможно становилось разглядеть в темноте ни мяч, ни ворота, ни соперника. Тогда расходились до следующего света, бежали домой – в голове ветер, в волосах песок, – чтобы поутру, подзарядившись и включившись, наново приняться за старое. Но июньское волшебство, увы, закончилось, как кончается все на свете. Наши вылетели в одной восьмой, Платини не смог ничего поделать со сверхчеловеческой немецкой машиной, Линекер наколотил больше всех, но не дотянулся даже до полуфинала, и только величайший из аргентинцев на стотысячном стадионе под бело-голубым небом Мехико поднял над головой Кубок мира. Все кончилось, футбол уступил место иным забавам.
В тот день, собравшись основательно, не спеша выдвинулись на позицию в густом кустарнике вдоль центральной дороги. Устроились попарно, но недалеко, шагах в десяти друг от друга: чуть выше – Боцман с Лехманом, чуть дальше – Митя Баврин с Мишей Протасовым. Лехман, он, конечно, и взял бы соседа своего в напарники – кабы не необходимость делить с ним дорогой руке и сердцу личный самострел… поэтому новичок достался Протасову. Пока Баврин обустраивал себе местечко между кустов, ворочался, шуршал в ветках, Миша тихо сел на корточки и взглянул вверх. Оттуда, сверху, сквозь просветы в листве, которую, будто приоживляя колдовством, беззвучно пошевеливал в себе горячий воздух, оттуда наблюдало за ними полуденное солнце. Вот он – бог контрразведки, всевидящее око, где в мире возможно от него по-настоящему укрыться?
– Эй, Миш, – отвлекая, шепотом позвал его Баврин. – Чему смеешься?
Протасов обнаружил, что действительно улыбается, сидя с запрокинутой головой. Не решит ли новый его товарищ, что он тут с ним чеканутый?
– Кусты густы, – таким же ответно таинственным шепотом быстро сказал он. Потом чуть подвинулся вприсядку к недоумевающему Мите, выпучил жутко глаза, резко моргнул, заговорщицки подмигнул и продекламировал:
– Густы кусты и не пусты.
Митя изменился в лице, зримо побледнев, и Протасов понял, что хватит.
– Ладно, хорош ломать комедию! Дело впереди, брат. – Подмигнув еще раз, уже по-простому, без кривляний, он ободрительно хлопнул друга по плечу. – Не время для дрейфа!
Достал из кармана сухую косточку, осторожно натянул резинку, закрепил в прищепке. Они были готовы.
Сверху по пустынной улочке быстро ехала ярко-красная «Комби». Ближе, ближе. Вот уже совсем около их кустов. Здесь. Т! т! – Баврин услышал распавшийся на две половинки костяной стук метких попаданий первой группы. Т! – отжав прищепку, поставил собственную точку его напарник.
Место для засады выбрали они очень удачно. Узенькая «деревенская» дорога не была заасфальтирована, кроме того, летним днем здесь почти всегда безлюдно и никакого встречного движения – так что водители гнали, не стесняясь. Высокий кустарник рос прямо вдоль дороги, пешеходные тропинки лежали с тыльной его стороны, вдоль дощатых заборов. Легкие стуки по кузову – даже если водитель их вдруг случайно и услышит в салоне, не пропустив мимо ушей в общем шуме, – могли издавать отлетевшие из-под колес кругляши гравия, щебенка. Партизанской диверсии в тех звуках-стуках никто на свете бы не заподозрил.
– А у меня сестра стрельбой из лука занимается, – сказал Митя, когда машина скрылась вдалеке.
– Да ну?.. – протянул Протасов. – Не врешь?..
– Нет, конечно! Она кандидат в мастера спорта, знаешь, как здорово стреляет! И все время ездит по соревнованиям. Ее, может быть, даже в сборную возьмут! – В доказательство, что ли, всего сказанного Баврин раскрыл на ладони извлеченное из кармана сокровище – значок со спортивной фигуркой стрелка, какой-то аббревиатурой, цифрами и подписью «Алушта-86».
– Ого! Дай поглядеть. – Протасов покрутил свеженький разноцветный значок в пальцах, рассмотрел внимательно и бережно вернул владельцу. – А мои родичи, кстати, в конце августа тоже на юг едут по путевке, в Одессу и потом еще в какой-то круиз в Крым. Меня не берут – потому что школа. Тоже, наверное, значки привезут!..
Зашуршали кусты сзади – это Лехман, акробатически изгибаясь в четыре погибели, пробирался между веток в их укрытие.
– Эй, второе отделение! – негромко окликнул их. – Как дела, бойцы?
– Порядок, – отрапортовал Протасов. – Держим сектор обстрела. Ты знал, что у него, – он кивнул в Митину сторону, – сестра – мастер спорта по стрельбе из лука?
– Кандидат, – скромно отредактировал товарища Баврин.
– Ну, кандидат – это тоже вещь! – Лехман покивал с уважением. – Да нет, я не знал. Слушай, а ты можешь у сестры спросить, чтобы нам из спортивного лука как-нибудь пострелять, получится?
– Попробую, – подумав, ответил Митя. – Обещать не могу. Но попробую.
– Было бы здорово, – сказал Протасов.
– Да, будет здорово, если срастется. – Манченко покрутил головой, оглядев дорогу сверху вниз и обратно. Взглянул на большие свои командирские часы, водонепроницаемые, противоударные, гордяцкие. – Ну что, ждем еще? Или на обед? Кстати, пошли после обеда в город, а? У меня бутылки есть – сдадим, газировки попьем или в кафе-мороженое.
Они одобрили эту идею. Решили подождать еще минут десять, потом разойтись по обеденным квартирам, а через час собраться наверху и двинуть в город.
– Бывайте, мужики! – Лехман пожал им руки и так же по-цирковому ловко выбрался обратно на тропинку. – Держим связь.
Минут через пять они услышали шум – сверху опять ехала машина, в этот раз грузовик – повидавший всякие виды, дребезжащий и обшарпанный зилок.
– Держи! – Протасов протянул Баврину предварительно взведенный самострел. – Про упреждение не забудь, знаешь?
Но Митя отказался:
– Давай лучше пока ты. Я потом, в другой раз, мне бы сначала для тренировки просто по банкам в штабе пострелять.
– Ну, смотри сам. – Времени на споры не было, да и чего спорить. Протасов усмехнулся. – И учись!
Цель приближалась. Поравнялась с местом первой засады. Т! т! – знакомо стукнули по деревянному борту машины пульки Лехмана и Боцмана. Пора! Миша прицелился по кабине. Вдох – выдох – пауза – спуск. И – ничего. Как же? Ничего не отозвалось с той стороны выстрела. Промазал?!
Проехав еще полтора десятка метров грузовик вдруг резко, рывком каким-то, затормозил. Протасов заметил, что ветровое стекло с их стороны опущено. Прихоть траектории, геометрия воздуха, совпадение невидимых звезд именно туда и направили злополучную вишневую косточку. Из кабины выбрался огромный страшный мужик в тренировочных штанах и майке. Он дико громыхнул дверью, быстро оглядел улочку и резким шагом направился в их сторону.
Мальчишки, что вспугнутые воробьи, порхнули сразу из обеих засад, раздирая кусты сполохом безоглядного бегства. Громила в майке с воплем «Стоять!» бросился за ними. У Боцмана с Лехманом, стартовавших с большей форой, нашлось время перемахнуть через изгородь у заброшенного дома и чесануть по заросшему участку в сторону соседнего переулка. У второй пары партизан времени забираться на забор не оставалось, и они летели ополоумевшими зайцами прямо вверх по улице, надеясь, что мужик устанет, отстанет, машину бросать не станет, да что угодно, только бы ноги унести!.. Но он нагонял их неотвратимо, как… Да все равно как что, не до того, не до сравнений было! Митя, на удивление легконогий для своей комплекции, прилично вырвался вперед, а Протасов отчего-то начал задыхаться и отставать. Он попытался вскользь оглянуться и ускориться, но вдруг запутался в собственных ногах, шагах и неровностях планеты и кувырком полетел в пыльную щебенку. «Умри и сдохни, как Лехман говорит», – мелькнуло в голове красным цветом, похожим на выносящий вердикт под домашкой учительский почерк. Неумолимая и настигающая, дышащая ужасом, их неудачная жертва была уже совсем рядом, когда едва успевший привстать на колени, совершенно беспомощный Протасов увидел, как между ним и погибелью ниоткуда возьмись очутился запыхавшийся цыганенок.
– По-дждите!.. – глотая звук, выдохнул в сторону отмщения побелевший Баврин.
Но разъяренный водитель ждать ничего не стал. Он сгреб Митю за шкирку и тряхнул так, что мироздание вокруг провалилось, а потом подскочило вверх.
– Чего ждать, шпана?! – заорал растрепанный мужик. Потом увидел отлетевший к обочине и валяющийся рядом с Мишкой самострел. И, как фокусник в цирке, не выпуская из горсти превратившегося в крольчонка Баврина, двинулся в направлении двойной расправы.
– Это не он, – контуженно, но отчетливо выдавил Митя. – Это я. Стрелял. Он просто со мной был.
– А ты что – из всех борзой самый?!
– Нет.
– А что тогда?
– Просто глупый. Но он не виноват. Только я. Он вообще стрелять отказался.
– Глупый?! – переспросил мужик, перехватывая Баврина левой рукой. – Нахал ты безмозглый, а не глупый. Что из вас, щенков таких, вырастет? Ты понимаешь, нет?!
Митя потряс головой. Протасов просто глядел на них снизу распахнутыми глазами, не провидя будущего. Сверху, не отрываясь и не отводя взгляда, смотрело – солнце. Водитель наконец разжал свою великанскую ладонь, из которой выпал жалкий мальчишка в задранной футболке, влепил Баврину для проформы подзатыльник, сплюнул и, развернувшись, пошел к брошенному своему грузовику.
Вечером они вдвоем, Миша и Митя, сидели на баб-Ташином крыльце и ели из вазочек подтаивающий развесной пломбир с клубничным вареньем. Над ними висела тишина на тонкой ниточке молчанки – «кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест», – и лишь ложечки то и дело позвякивали о стекло. День медленно гас, отступая за шагом шаг от светящихся все ярче за их спинами окошек. Все дальше и дальше – туда, где через пару часов истает он полностью в последних своих глубинах.
Глава 4
Метель
«Тесна становится кровать. Пора вставать. Пора вставать!» – еще не проснувшись, едва шевеля воображаемыми губами, продекламировал внутри набитой войлоком головы Баврин. Дотянувшись, выключил будильник на телефоне. Пожалуй, медленнее обычного, так что Рита зашевелилась рядом. Декламация его была, конечно, самообманом, во всяком случае, наполовину: вставать-то действительно было пора, однако кровать не то что не становилась тесна, родная эта кровать, по которой он за неделю соскучился всем своим телом, была сегодня как никогда ласкова и нежна с ним. Но такому вот способу просыпаться друг Миша научил его на первом, кажется, курсе. И что – в общем-то, всегда работало. Возможно, это заклинание, привычные, повторяющиеся из утра в утро одни и те же слова включали в нем механизм возвращения – когда рассыпавшиеся за ночь по миру сновидений детальки и кусочки сознания магически и магнетически притягивались обратно друг к другу, собираясь вместе и сцепляясь одно с другим шпонка в паз, выступ к выемке, штырь к гнезду. Чтобы глаза ему открывать собранным уже пазлом человека, собою самим.
«Пора вставать…» – снаружи было не просто утро понедельника, а утро понедельника в превосходной степени. «Как его сказать? – в порядке вздора мелькнул вопрос. – Понедельничнейшее утро?» Неудивительно – после беспокойной ночи в Иокогаме, после того как весь вчерашний день, от раннего весеннего рассвета до глубокой зимней тьмы, он добирался домой через полмира, сменив все возможные виды современного транспорта: воздушный, автомобильный, метро, железнодорожный, опять автомобильный… Ан нет, не все! – водного-то транспорта не было, правду сказать. Но это нормально для средней их полосы в первых числах марта. Впрочем, самой воды – уже по возвращении в город – в ледяном и снежном ее состоянии оказалось вокруг с избытком.
На вокзале их встретил Максимыч на собственной газельке администрации, которую любезно прислал развезти командированных по домам Вайс. Старик, конечно, ворчал нещадно, но и с чемоданами помог, и напоил их уже в машине из полувекового китайского цветастого термоса чаем с шиповником и с кедровой настойкой – припас ведь, взял из дома специально для усталых наших странников!.. Ворчанье Максимыча охватывало и общую социально-политическую обстановку в стране и в мире, и то, куда их четверых черти носили на край света, и, это уж само собой разумеется, то, что его выдернули из дома, во-первых, прямо-таки ночью, во-вторых, в воскресенье, в-третьих, выезжать сегодня надо ну точно не на газели, а как минимум на гусеничном вездеходе, потому что, и это уже в-четвертых, сами видите, что тут у нас творится.
А творилась окрест – потусторонней силы метель.
Так-то всю неделю, пока их не было, рассказывал Максимыч, расшевеливалась оттепель. Днем чуть выше нуля, ночью чуть ниже, слякоть, сырость, пакость, туда-сюда. Но на воскресенье похолодало, а ближе к вечеру город накрыла снежная буря. Ледяной, волчий, лохматый ветер рвал воздух в миллиарды белых клочьев и хлопьев, бился в юродивых припадках о землю, о небо, о стены домов, о несчастные деревья и рекламные щиты. Вьюжная эта реконкиста в четверть часа занесла и завернула под собственную власть все, что чуть раньше, высвобождаясь понемногу, неделями подтаивало и оттаивало. Город, конечно, встал. Техника, дворники – не справлялись. В такую вот ночную стихию и выбрались наши путешественники из вагона на перрон.
Максимыч был, конечно, мастер, однако не волшебник. Он ехал медленно, как мог, выбирал более или менее приемлемый маршрут, но все равно газелька то и дело застревала в снежных наносах. Особенно тяжело приходилось на светофорах – тронуться с места сразу было сродни чуду. Раза три Баврину со Ждановым и Волчком приходилось выбираться в метель и на диком ветру, уворачиваясь от летящего из-под буксующих колес снега, раскачивая, выталкивать застрявшую машину. То и дело водитель и сам выпрыгивал с лопатой, выгребал снег из-под колес и тяжело, уже даже не оббивая обувь, залезал обратно. По маршруту Баврин был на высадку первым. Однако на площади Максимыч, обернувшись, устало сказал:
– Дмитрий Владимирович, прости покорно, но я до тебя заехать не смогу. Через твои дворы не пробраться нам. Никак.
– Я понимаю, – ответил водителю Баврин. – Ты уж там, на углу, где мой поворот, меня тогда высади, дальше я сам. Прогуляюсь перед сном.
Шагнув из машины, приняв чемодан и наспех махнув рукой коллегам, Баврин пригнулся и двинулся в переулок – через режущую, воющую, свистящую и слепящую мглу. Вьюга, кажется, поняла, что теперь остались они с человеком один на один, что нет за ним больше ни сотни лошадиных сил, ни обогрева, ни товарищеского плеча, ни тысячелетий цивилизации. Что вот – он один во чреве ее, и вольно ей делать с ним, что пожелается. От поворота до подъезда было метров полтораста, ну двести. Но их еще надо было пройти. Если что-то здесь и убирали дворники днем и вечером, то к ночи от их трудов не осталось и следов; местами наносы были по колено, да и сам мятущийся снежный воздух был таким плотным и жестким, что Баврину стойко казалось, будто он весь идет внутри сугроба. Хотелось бросить чемодан и ползти легким ужом по верху белого покрова, по кромочке, не проваливаясь в глубину. Хотелось закрыть глаза и чтобы невидимая ладонь приподняла его над всем ледяным головокружением и перенесла прямиком в квартиру, где теплый свет, где горячий душ, обжигающий губы чай. Хотелось спать. Спать… – в одну секунду, между шагом и шагом, Баврину вдруг почудилось, будто и правда он уснул – или, наоборот, проснулся, на миг обнаружив себя на прекрасном берегу озера Аси. Где-то здесь рядом была и покойная его смерть – однако Баврин обо что-то неприметное в снегу споткнулся, едва не полетел кувырком, замешкался, и на полшага в этой белой мгле они разминулись.
Но мело сквозь Баврина еще целую ночь до утра. Несколько часов в кровати пролетели под сомкнутыми веками прозрачно и неощутимо, как жизнь в кратком изложении. Он брел по маленькому двору родительской пятиэтажки, который отчего-то странно закруглялся сам в себя и каждый раз начинался заново. Все перепуталось, смешалось и смутилось, сугробы росли – а он уменьшался с каждым кругом по ловушке сновидения, шаг становился короче; на очередном повороте мальчик увидел темный холмик недалеко от скамейки у второго подъезда. На лежащем в снегу человеческом теле сидели большие черные грачи и, широко размахивая крыльями, вели свой гортанный разговор. Один, и другой, и третий собеседник то и дело между реплик, будто что-то разъясняя остальным, запускали острые клювы в глубину холмика и резко выдергивали оттуда омерзительно розовые клочки. Мальчик сделал шаг-другой поближе. Мокрый, тяжелый снег налипал на ресницы и слепил его, но ему хотелось разглядеть лицо. В тот момент, когда грачи обернулись на него и предупреждающе закричали, Баврин увидел, что это его новый сосед Алеша Манченко – только уже взрослый, очень небритый и мертвый. В раздумьях он обернул еще одно колечко по круглому двору и снова взглянул на тело – один грач сорвался куда-то в матовую снеговерть, оставшиеся двое перебрались Протасову на голову; тот лежал на спине, глаза были открыты, казалось, он разглядывает этих осанисто переступающих, топчущихся на нем действительных тайных советников владычицы зимнего царства. Баврин подошел к ним, по грудь в снегу, так что руки приходилось задирать вверх, и осторожно, чтобы не шумнуть, не спугнуть, лег с Костей Кораблевым рядом; Боцман всегда, конечно, был странным, но превратиться вот так в покойника и троицу грачей – это ну совсем уж где-то за пределами. Хотелось толкнуть его локтем в бок и попенять: что ты, дескать, совсем берега попутал, дружище. Снег хлопьями опускался на него, и наблюдатель обнаружил, что руки Баврина поверх сугроба широко раскинуты в стороны, будто он собрался обнять огромное белое небо, перепутанное с землей, и с городом вокруг, и со всем этим миром, за границами которого ничего нет. Усопший погружался туда, в слепяще яркую свою темницу, в глубину, где нет разницы между закрытыми и открытыми глазами, где мальчик смерть свою перерастает, где тревожно тормошит его будильник и он пытается внушить себе, будто тесна становится кровать.
И пора вставать.
Баврин добрел до ванной, традиционным кивком поприветствовал зеркало, умылся и принял душ, приобретая вновь человеческий облик – как будто стекающая по лицу и телу быстрая прохладная вода понедельника уносила в себе все, что облепило его за ночь, расчищая черты – до вчерашнего, прежнего, первоначального рисунка. Еще раз взглянул на себя по ту сторону стекла на стене – узнаваясь.
Потом пошел поднимать сына. Тот поначалу сопротивлялся, не подавал признаков пробуждения, затем приоткрыл-таки глаза.
– Я долго спал?
– Да, – ответил Баврин.
– Я выспался?
– Да.
Это была давняя их игра, еще со времен сада. Так они подтверждали начало нового дня и новой жизни. А долго, однако, ее не вспоминали.
Дмитрий Владимирович торжественно вручил сыну привезенного за полмира самурая, которого Егорка благоговейно покрутил-повертел, рассматривая еще не до конца раскрывшимися глазами, а потом не менее торжественно водрузил на верх своей книжной полки.
– А себе что привез?
– Сын, – усмехнулся Баврин, – у меня все есть. Дуй умываться.
Потом он наскоро приготовил тосты с ветчиной и, в то время как сын отрешенно их поглощал, поболтал с ним о делах школьных – о том, что случилось-приключилось в классе за неделю, пока его не было, о том, что там новенького с репетитором по английскому, о книгах. Он не забывал, сколь многое в воспитании зависит от способности взрослых разделить с ребенком его интересы, заботы и хлопоты, и поэтому старался всегда, как говорится, держать руку на пульсе.
Нельзя, однако, сказать, что интерес Баврина к делам учебным имел природу исключительно педагогическую – сын учился в его школе, в Первой гимназии, которую давным-давно окончил сам Баврин, поэтому и любопытство было вполне естественным. Ныне Баврин-младший был в какой-то мере его представителем в тех стенах, где совершались когда-то детство и отрочество Баврина-старшего, где он осваивался в жизни и, вцепившись крепко маленькими лапками, грыз гранит науки.
Гимназией их школа стала в девяносто втором, а до того была, как и все прочие, средней общеобразовательной. Так что гимназистом Митя Баврин успел побыть лишь один выпускной год и разницы, по чести сказать, никакой не почувствовал. Потом-то, наверное, учебные программы стали как-то различаться. Но их выпуск, первый гимназический, уже разлетелся из вековых стен школьного своего гнезда – в будущую осень и зиму, в распахнутый мир, в смятение и головокружение русской метели, в злую и прекрасную новую жизнь. Класс у них был дружный, первые годы на февральский вечер встречи собирались в школе полным почти составом. Сам Баврин изредка заглядывал и просто так – повидаться с кем-нибудь из учителей: с Ариной, с Петр Михалычем, с Сибирцевым. Затем, понятное дело, ряды стали редеть – особенно год на пятый-шестой, когда женитьбы и замужества, дела семейные и служебные отодвинули их школьное товарищество в прекрасное далеко. На десятилетие выпуска пришли всего семеро из двадцати семи одноклассников-«бэшек»: Баврин с Протасовым, Макс Новиков, Сережа Прихоцкой, Вадим Скрымник и Соня Ландсберг с Катей Ивановой, которая оказалась уже совсем не Ивановой, а – сейчас бы припомнить – то ли Соловьевой, то ли Соколовой – какой-то, в общем, Птичкиной. А после той встречи, кажется, и не собирались классом вообще. В соцсетях потом, конечно, все нашлись и задружились; но это было уже только воспоминанием об общении, об одной на всех, общей когда-то юности, а не общением самим и не юностью. По Егоркиным же учебным и классным делам, так повелось с самого начала, в школу ходила Рита. В последние годы в начале февраля Баврин уже даже и не вспоминал о вечере встречи. А ведь, стоп, в этом году – подождите, вдруг сообразил он, – в этом году двадцать пять лет же будет, четверть века!.. И что теперь – соберешь разве кого?
Впрочем, школа где-то в его глубине все равно оставалась опорным пунктом. Так однажды сказал Протасов, а Баврин запомнил: «Это наша система обороны, наша линия сопротивления времени. Детство, и бабушкин чердак – подловка, как мы его называли, и штаб в овраге, и школа, и наша курилка истфака – ее узловые точки. По ним – наша граница».
– Пап, я пошел! – Сын тем временем уже собрался и заглянул на кухню попрощаться. – Спасибо за самурая, пап, я нафоткал, парням покажу сегодня – обзавидуются!
– До вечера, Егор! – ответил Баврин и подумал, что вечером, может статься, вернется слишком поздно, чтобы поболтать с сыном. Понедельник, выборы на носу, Протасов, наконец…
Однако сейчас у него оставалось еще около получаса той прекрасной утренней тишины, в которой он находил возможность побыть наедине с собой. Поэтому и положил себе привычкой вставать раньше, чем можно было бы – день-то рабочий начинался в девять. Но это восхитительное одиночество – сын уже ушел, супруга пока не встала – стоило дороже тридцати минут сна.
Рита, несущая в себе семимесячную тягость будущей жизни, пришла к нему на кухню, как раз когда Баврин устроился за кофе с бутербродами почитать утренние новости города и мира и комментарии к ним.




