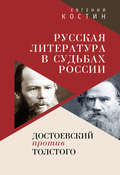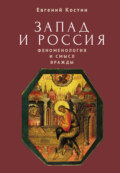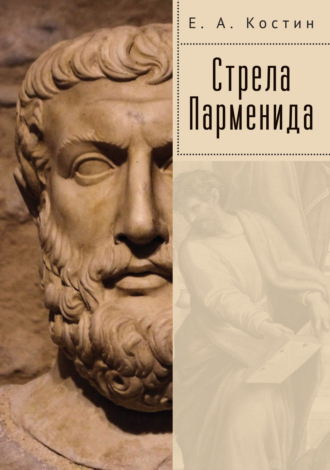
Евгений Костин
Стрела Парменида
Даже и написав все это, автор остается в некотором недоумении, так как подобного рода совпадения не могут быть случайными, в них заложена определенная историческая правота, отнюдь не зависящая от индивидуальных усилий и масштаба личности участников, даже находящихся на высших ступенях этой исторической иерархии.
Как без Пушкина был бы невозможен Ренессанс русской культуры и возрождение русской империи в своем высшем виде в XIX веке, воплощенное в победе над Наполеоном и объединенной им Европой и последующем контроле над европейским континентом, так и без Шолохова невозможно адекватное понимание правоты совершенных Россией преобразований в содержании и формах мировой истории в XX веке.
* * *
Но вернемся к понятию бытия в его философском содержании. Оно, еще раз повторим, предельно универсально. Если рядом с понятием времени неизменно вырастает представление о пространстве, то в случае с бытием оно поглощает и ту, и другую категорию, да и все, что только можно вообразить в реальности. Оно выступает как первомонада для определения и существующей, и умершей, и еще не появившейся действительности. Все существующее запечатано его гносеологическими границами. Даже то, что невозможно себе представить в самом отдаленном (будущем) времени уже несет на себе отпечаток бытия как такового.
Удивительным образом оно объединяет живую и неживую материю. Единственное отличие между ними заключено в том, что живое осознает бытие как среду своего осуществления. Особая роль в этом отношении принадлежит сознанию человека. Собственно, представление о бытии ничего не меняет в жизни живого существа, будь то заяц, шимпанзе, бабочка-однодневка, колония муравьев (да мало ли можно привести примеров подобного рода!). Да и в жизни человека разумного, какой снабжен механизмом самоидентификации и понимания краткости своего физического существования, такое представление о своей бытийности ничего не меняет в практическом смысле. Ко всем этим явлением бытие равнодушно, Оно находится везде и нигде нельзя обнаружить его физический эквивалент, если только не брать то или иное явление в его завершенной целостности – от зарождения до небытия. Именно тогда бытие получает свое воплощение, когда физическое воплощение явлений, события, действия, человека, в конце концов, исчезает быть, существовать.
Только завершение того или иного явления, его разрушение и исчезновение позволяет бытию оформиться, стать видимым. «Здесь-существование» любого факта реальности никогда не ощущает своей бытийности, только «там-существование» придает ему определенность.
Этот парадокс (истинное бытие начинается там, где оно заканчивается в своем физическом варианте осуществления) решается самым простым способом. Ниже мы скажем, в чем он заключается, только сразу заметим, что современная культура решила от него отказаться. Понять свое бытие человек[5] может, не просто умерев, но перейдя в другое свое состояние, сохранив свою душу, чтобы получить власть над бытием и окончательное его понимание. Здесь только религиозное представление решает данный парадокс именно таким и очевидным образом: чтобы воскреснуть, нужно умереть. А воскресение и есть фиксация бытия в его очищенном виде и, если хотите, управлением им.
* * *
Так почему же «стрела Парменида»? Куда уместнее было бы найти другое сравнение, другой образ. Вот, к примеру, там же в античности обнаруживаются нами «солнечные» стрелы Аполлона или «легкие», охотничьи стрелы Артемиды. Но автору показалось, что некие идеи, созданные нашими предшественниками по человечеству, продолжают жить и сегодня. И сегодня они пронзают наши сердца и сознание своей точностью и непреложностью понятой, а подчас и угаданной, истины. Нам, кто в современную эпоху постмодернизма отказался от поиска истины как таковой, считая это пустым и несуразным занятием, стоит в очередной раз обратиться в прошлое и увидеть незакрытыми глазами, как из него, из прошлого, нам навстречу летят и летят эти стрелы слов правды, откровений, добра и любви. Мы вяло отмахиваемся от них, считая, что в век торжества цифры и разнообразных гаджетов, в век существования технически всемогущего, но морально опустошенного, человека, они нам ни к чему. Ни к чему не только сами слова, но их смысл, их содержание.
Скорее всего, мы боимся их влияния на нас, боимся увидеть, насколько мелкими, ничтожными, морально пустыми стали наши мысли, желания и идеалы. Не по Сеньке сейчас эта шапка – Парменид, Хайдеггер, Достоевский, Сартр, Камю. Но стрелы летят и летят, и надо подставить, наконец, под них свое сердце, чтобы соединить времена и вернуться назад к обретению тех истинных сущностей бытия, без которых жизнь человека предстает пустой и безнадежной.
Литература и примечания
1. Мартин Хайдеггер. Постижение смысла. Пер. с нем. А.В. Перцева, О.А. Матвейчева. СПб.: Алетейя, 2022.
2. Автор желает в примечаниях привести некоторые отрывки из книги, которая повлияла на него в юности весьма сильно: Древнегреческие материалисты. Сборник. Под ред. проф. А. Дынника. Киев, 1956. В ней наличествует целый раздел, посвященный «бытию». В нем пред став ленны суждения Левкиппа, Демокрита, Аристотеля, других древнегреческих мыслителей, а также их средневековая рецепция, какая носит, во многом, уточняющий характер. Ведь не исключено, что в средневековье ученым были доступны и те источники античности, какие до наших дней уже не дожили. «Ибо сущее в собственном смысле – (есть – Е.К.) абсолютно полное бытие» [с. 56], – одно из высказываний, характерное для Демокрита и подхваченное далее Аристотелем. Там же обнаруживаем замечательный оборот, связанные с тем, что существует представление об элементах действительности; одни из них «полные», другие «пустые». Так вот, Левкипп и Демокрит «полное называли бытием, пустое же и редкое – небытием» [с. 55].
3. Крайне любопытным выглядит сравнение А. Эйнштейна с Парменидом, которое производит выдающийся социолог и мыслитель К. Поппер. Приведем отрывки из его «Интеллектуальной автобиографии» под названием «Неоконченный поиск» (русский перевод 2014 г., Москва). Он пишет: «Всего мы встречались (с Эйнштейном – Е.К.) три раза. Главной темой наших разговоров был индетерминизм. Я пытался убедить его отказаться от детерминизма, который приводил к воззрению, что мир является замкнутой четырехмерной парменидовой вселенной, в которой изменения являются человеческой иллюзией, или очень близко к этому. (Он согласился, что таковы его воззрения, и во время обсуждения я называл его «Парменидом» [Указ, соч., с. 139]. Суть их дискуссий сводилась к тому (я опускаю для ясности изложения набор аргументов с одной и с другой стороны), что Эйнштейн придерживался точки зрения так называемого реализма, в том числе и по отношению к времени и пространству, и тем самым по отношению к бытию в целом, что предполагало достаточно жестко действующие принципы детерминизма, то есть взаимоувязанности всего со всем, в то время, как Поппер исходил из положений индетерминизма, в которых и время, и пространство, и в итоге, само бытие представляются сочетанием постоянно меняющихся, прежде всего, временных срезов, а происходящие изменения, отнюдь не увязанные друг с другом, являются основным механизмом.
Поппер в своих аргументах доходил до достаточно категорических утверждений, какие впоследствии легли в основание его концепции «открытого общества», но то же самое он исповедал в общетеоретическом смысле. Он подчеркивал: «Четкая позиция должна быть занята в пользу «открытой» Вселенной – такой, в которой будущее никоим образом не содержится в прошлом и настоящем, хотя последние и накладывают на него жесткие ограничения» [с. 140].
Это принципиальный момент, связанный с тем, что нам демонстрируется та самая база теории культуры (в том числе и в сфере философии и отвлеченного умствования) постмодернизма, в которой все в мире является индетерминистским, релятивным, собственно, деструктивным, распадающимся на отдельные части и детали.
Замечательно, что он пытается убедить в этом автора знаменитой «теории относительности», самого Эйнштейна, который никак не желает согласиться с навязываемым ему «новым» представлением о действительности. Поппер передает содержание дискуссии с ним следующим образом: «Эйнштейн явно не хотел отвергать реализм (детерминизм – Е.К.) (самые сильные аргументы в пользу которого находятся в области здравого смысла), но, по-видимому, также, как и я, готов был признать, что нам, возможно, придется от него отказаться, если против него будут выдвинуты очень мощные аргументы… Поэтому я и утверждал, что в отношении времени, а также индетерминизма (то есть неполноты физики) ситуация обстоит в точности так же, как и в отношении реализма. Апеллируя к его собственному стилю изложения вещей в теологических терминах (курсив наш, это чрезвычайно важное свидетельство Поппера о том, как, помимо научного дискурса, рассуждал Эйнштейн-Парменид – Е.К.), я говорил: если бы Бог захотел вложить в мир все с самого начала, то Он создал бы мир без изменений, без живых организмов и эволюции, а также без человека и его опыта изменений. Но, по-видимому, Он решил, что живая Вселенная с событиями, неожиданными даже для него, была бы более интересной, чем мертвая» [с. 141].
Стоящий на основах детерминизма и «здравого смысла» и, к тому же ссылающийся на некие теологические аргументы (то есть Бога), Эйнштейн не устраивает Поппера. Более того, его прямо раздражает уверенность великого физика в «реальности времени и проходящих изменений» в реальности. Та самая «беспочвенность» западного способа мышления, о которой писал Хайдеггер и которую он, как философ, анализировал на протяжении своего научного пути, в данном случае доходит до совершенно очевидного эпистемологического тупика, какой в сокращенном виде может быть представлен известным лапидарным высказыванием Воланда из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова – «чего не спросишь, ничего у них нет».
Удивительна эта установленная линия близости между Парменидом и Эйнштейном, какую не очень благоприятным для себя способом выстраивает Поппер, так как она демонстрирует истинное (вот еще одно слово – «истина», какое не принимается в построениях Поппера всерьез) подтверждение неугасимости поисков человека и развития его, как фигуры, равной самому Богу.
4. Сошлемся в этом месте на нашу работу, где эта тема разработана достаточно подробно: Костин Е.А. Русская литература в судьбах России. Достоевский против Толстого. СПб., 2019.
5. Отсылаем любопытного читателя к другим нашим работам, в которых детально представлено сопоставление русского языка с иными развитыми языками в аспекте абстрактности и метафизичности: Костин Е.А. Понять Россию. Книга о свойствах русского ума. СПб., 2016.
Тайны времени
Из ниоткуда в никуда
Физики утверждают, что в определенный момент так называемой сингулярности, до «Большого взрыва», ни времени, ни пространства не было. Не было, собственно, и тех форм материи, какие впоследствии развились в связи с разлетом «кварков» и началом действия закона тяготения.
Строго говоря, время – это полет кварков (или того, что кроется под этим словом – элементарных сгустков материи и энергии), изначальных частиц, и дальнейшее развитие всех форм неживой и, в нашем земном случае, живой материи. И это почти очевидно с точки зрения теоретической физики. Но данное понимание ничуть не приближает нас к осознанию природы времени как такового. Время насыщает собою любой материальный объект, любое проявление бытия. Оно выступает в качестве той субстанции, без которой наступает окончательная точка замерзания бытия, и ничто начинает торжествовать над всей Вселенной. Фактически, в момент исчезновения времени прекращает существовать и космос. То есть время всегда есть, оно движется от момента сингулярности до момента окончательного сжатия всей материи в некую черную дыру, из которой не просачиваются ни свет, ни само время. И этот факт позволяет нам утверждать, что время имеет свой физический эквивалент, заключенный во все объекты и явления Вселенной. Но огромность этого эквивалента позволяет нам всего лишь вообразить всемогущество времени, без которого и разбег материи во Вселенной был бы невозможен.
Сознание, правда, отказывается представить себе пребывание абсолютной точки-времени в состоянии некой неподвижности, но, вероятно, так оно и есть. Только со «взрывом», разбегом кварков и других элементарных частиц начинается жизнь времени. Здесь же возникает вопрос о возвратности времени. Ведь предполагаемое движение материи после максимального «разбега» к точке сжатия предполагает, что когда-то время начнет двигаться назад, или, по крайней мере, оно сделает некий разворот, при котором вектор движения времени поменяется на возвратный.
Те же самые физики достаточно уверенно утверждают, что в какой-то момент времени (точка максимального процесса «разбега» Вселенной) материя во всем многообразии форм начнет «собираться» вновь, стремиться к той самой сингулярности, с которой все началось. Но что будет происходить со временем? Будет ли оно продолжать носить тот же линейный характер, или же в данном случае оно просто пойдет «вспять»? И какие процессы при этом будут происходить во Вселенной? Изменяться ли все формы материи, не поменяется ли содержание Вселенной в таком случае?[6]
Все эти отвлеченные и в чистом виде философские вопросы имеют самое прямое отношение ко всякому человеку и ко всем проявлениям живой материи, какие представлены в нашем конкретном случае на планете Земля.
Первоначальное определение времени, особенно ярко выраженное в древнегреческой культуре, связано с ощущением его непрерывности и постоянного свершения. Время никогда не останавливается. Время – это постоянное изменение, оно не имеет никакого физического воплощения, помимо самого всеобщего, о чем было сказано выше, – оно всегда выражается косвенно для человеческого сознания, через смену времен года, старение самого человека, его рождение и смерть в итоге. Это все признаки, по которым узнается время, но понять его исходную природу не представляется возможным.
«Вот-тут-бытие», как говорил Хайдеггер, является не более чем иллюзией, так как оно преодолевается в каждый момент своего существования. «Сейчас», «сию секунду» мгновенно превращается в прошлое, уже ушедшее, умершее. Оно предстает для человеческого сознания той самой неразрешимой апорией, согласно которой Ахиллес никогда не догонит черепаху, так как на каждый промежуток пространства, преодоленный Ахиллом, черепаха отвоюет часть своего пространства. Это не логический парадокс, какой не учитывается качественного изменения преодоления пространства и Ахиллесом и черепахой, но когнитивно – это тупик, не решаемая задача.
То же самое происходит со временем – его, по сути, никогда нет в прежнем обличье, в любой свой миг оно уже другое, и все, что помещается в «пространство» данного времени также всегда и постоянно другое. Таким образом, непостоянство и изменчивость – это главные характеристики времени. Но мы замечаем время только тогда, когда оно облекается в нечто конкретное, материально очевидное – человеческую жизнь, историю земной цивилизации, историю Вселенной, в конце концов. (Последнее утверждение носит несколько безумный характер, так как для того, чтобы видеть и понимать историю Вселенной, необходим некто иной, чем сам человек. Скорее всего, Бог и есть главный зритель истории живой и неживой материи.)
Рассмотрим материальное воплощение времени на примере как раз человеческой отдельной жизни. Точнее говоря, на примере развития и угасания живого организма человека, который зарождается удивительно сложным образом из мельчайших элементов жизнедеятельности других живых существ и в финале распадается на мельчайшие частицы неживой материи, которые прекращаются в итоге в почву, становятся набором атомов самого разного рода, в которых не будет никакого намека на то сложное целостное явление человеческого организма, какое – в ничтожное с точки зрения вечности время – развилось в избыточно сложное существо. Существо, от которого в итоге ничего не остается в физическом смысле, кроме соединения разных элементарных частиц, какие в равной степени могут принадлежать птице, бабочке, собаке, любому другому явлению жизни, которые, подобно человеку, прошли свой временной путь от зарождения, развития до исчезновения, до небытия в абсолютном виде, – как соединение атомов и молекул неорганической природы[7].
Это еще ничего, с этим мы готовы примириться, но человеческий организм, проходя через временной отрезок своего существования, какой в масштабах космоса не различим вовсе, сопровождается иным, странноватым способом отражения действительности, он, оказывается, обладает сознанием и самосознанием и совершает постоянно акты идеального восприятия жизни и себя самого, и всей окружающей действительности.
По большому счету тот отрезок времени, какой проживает обыкновенный человек, даже долгожитель, совершенно не заметен в масштабе понятного нам времени происхождения Вселенной (14–15 миллиардов лет). Он даже не является математической погрешностью. С точки же зрения жизни каждого отдельного человека его существование представляет собой огромный, неповторимый отрезок времени, в котором минуты счастья, часы общения с детьми, месяцы счастливой любви, годы активного творчества и многое другое – являются громадными, важными объемами воспоминаний, пережитых ярких чувств и эмоций, ощущением счастья бытия, какие в конце жизненного пути с наслаждением перебираются в памяти, как важнейшие части и смыслы его времени жизни.
В этом случае (феномен сознания) никого распада не происходит в материальном смысле. Сознание человека с его смертью просто выключается, как телевизор, и не остается никакой, даже малейшей, связи с тем, что составляло громадную, сложную, непонятную по своим интенциям и последствиям интеллектуальную и эмоциональную жизнь человека. Все мгновенно исчезает, как будто этого никогда не было: все чувства любви, привязанности к женщине, детям, внукам, друзьям. Их не остается вовсе, они гибнут мгновенно.
* * *
Известно, что древние греки делили время на три свойства его проявления – хронос, циклос и кайрос. Хронос, постоянно длящееся время, даже имело своего божество, бога с таким же именем. Циклос предполагал наличие понятных человеческому сознанию отрезков времени, которыми можно было измерить жизнь государства, длящуюся много лет Троянскую войну, жизнь самого человека и т. д. Кайрос знаменовал понимание краткого, быстро уходящего момента времени, это то, что мы сейчас называем мгновением.
Гераклит говорил, что «все течет, все изменяется». Это самая полная характеристика понимания времени в античной культуре. Подвижность, отсутствие фиксированности становится субстантивной чертой жизни вообще, но времени в первую очередь. Борьбы со временем в этой культуре не было, поскольку устойчивый антропоморфизм античности резко ограничивал возможности моделирования действительности, выражаясь современно. Тем более удивительными представляются прозрения древнегреческих мудрецов в этом отношении. Понятие атома, пустоты, пространства, космоса, огня как основы жизни Вселенной, обнаружение противоречий между сущностями мира как главного механизма его развития – все это, по сути, противоречит исходному антропоморфизму античности. Даже и подвижки в сторону антропологизма – «человек есть мера всех вещей», как говорил Протагор, ничего не меняет в этой эпистемологии.
У греков были далеко друг от друга разведены абстрактности высшей степени, о которых здесь уже говорилось, и тот самый бытийный антропоморфизм, который позволял великому Аристотелю обнаруживать прямую связь между физическим обликом человека и его психологическими состояниями и чертами характера, ничуть не отрицал самую высокую их интеллектуальную идеальность.
У них же было объемное и живое, замечательно полно выраженное в античной мифологии, чувство физической, материальной жизни, связанное с отчетливым представлением, что все в реальности, окружающее человека, носит не случайный характер. Помимо своего перечня античных богов, которые были больше похожи на конкретных людей по своей сварливости, вздорности, подверженности эмоциям и прочим именно что человеческим чертам, античные мыслители ясно представляли себе некую высшую сконструированность всего бытия, зависящего в этом отношении от другого Бога как управителя и космоса и земной жизни. Обитатели Олимпа были всего-навсего посредниками, которые принимали участие в жизни людей и управляли теми или иными природными стихиями, но никак не претендовали на создание тех высших сущностей, о которых размышляли античные философы.
Этот античный Бог не является вариацией Божественного начала в христианстве. По сути, он не имеет к человеку никакого прямого отношения, да и сам субъект жизни не может претендовать на какие-то короткие с ним отношения. Это, на самом деле был Вседержитель в античном смысле, объективный и всемогущий и затрагивающий человека всего-навсего по реальным причинам – он существует в созданном этим Богом мире.
Знакомясь с мифологией, а также уже и разработанными философскими построениями древнегреческой культуры, нас не покидает ощущение, что античные мудрецы пользовались какими-то дополнительными источниками знания, какие не носили запечатленного в письменном виде характера. Знакомство с этими источниками исключало всякого рода возможности влияния на само представление о бытии или его корректировку в необходимом направлении – более увязанном с потребностями и непосредственной жизнью человека.
Эта запредельная объективность, какая сквозит в эпистемологических, исходных построениях древних греков и делала их открытия столь далеко и мощно работающими, влияющими на сознание человека и более поздних эпох, вплоть до сегодняшнего дня.
Но в древнегреческой культуре были сложные отношения с понятием бессмертия. Собственно, бессмертие – это отрицание времени, его игнорирование. Оно в этом случае теряет всякое существенное свое содержание. Если время длится бесконечно, ничего не меняя для субъекта его восприятия – не важно, человеческого существа или бога (древнегреческого), оно теряет смысл и серьезность своего бытия. Если оно никак не влияет на состояние бессмертных сущностей, то для них оно тогда функционально бесполезно. Не стоит в этом случае на него обращать внимание. Его для бессмертного начала как бы и нет. Он сам, бессмертный элемент, становится иным воплощением всемогущего времени, принимает его основные черты и качества.
Время, как и природа, по гениальному замечанию Пушкина, равнодушно ко всему, чего оно касается. А касается оно всего и всех. И бороться с равнодушной и бессмертной сущностью не имеет никакого смысла. Любая попытка обречена на провал и поражение.
Человечество смогло проявить всего два подхода и выработало в себе слабые, но инструменты борьбы со временем. Или же, хоть какое-то, но противодействие ему. Это вера и творчество. Это основные начала, которые мы разберем ниже более подробно. Есть еще любовь. Но не то исключительное чувство привязанности человека к существу другого пола. Это величественное и сильное чувство, как эманация всех внутренних и нематериальных, то есть не порожденных с участием времени, свойств и качеств человеческого Я. (Наверно, лучше употребить здесь такое неточное, но исключительно попадающее в цель слово – душа).
Любовь к жизни, природе, детям, другим людям, когда происходит отказ человека от всякой своей физичности и материальности (то есть происходит невидимая, но не менее важная от этого победа его над временем), и человек выходит за собственные пределы духовного и психологического состояния и становится готовым к самопожертвованию; его внутренний мир превышает объем его когнитивной личности – человек освобождается от тенет времени и ему становится не страшно умирать.
* * *
Важный вопрос, какой необходимо обсудить, прежде чем перейти к вопросам веры и творчества. Как нужно понимать длительность времени для человека применительно к его бытийности как таковой? Насколько вопрос о времени (а также обо всех других сущностях его пребывания в мире) связан с его сознанием и самосознанием? Это важнейшие вопросы, и мы постараемся дать варианты своих ответов. Ведь, очевидно, что младенца и ребенка первых лет жизни вопрос времени является органической частью его физичности, укорененности в материальном. Сон, потребность еды, голод, боль, которая возникает от какой-то причины, включают дитя в поток времени непосредственно и без обиняков. Какой-то промежуток времени спустя эта укорененность во времени исчезает. Но в самом начале его существования время для человеческого детеныша складывается из частиц его материального существования. Он полностью растворен в «тут-бытии». Представление о времени возникает позже, когда он начинает совершать передвижение по жизни, связанное с известным распорядком и последовательностью событий. Но весь этот процесс совершается неким социальным образом, ребенок попадает в известную общественную среду, которая и приучает его к членению времени, к его восприятию.
Если вообразить себе жизнь детей каких-либо неразвитых, примитивных обществ, какие еще сохранились где-то в самых глубинах Африки, то членение времени для них связано с чередованием дня и ночи, поглощением пищи, с какими-то постоянными физиологическими оправлениями, с ожиданием времени своей инициации и нечто похожего. Никакого осознанного отношения к времени там не существует. То есть фактически времени для детей – нет.
Актуализированное отношение к времени появляется в тот момент, когда подросток, молодой человек начинают фиксировать свое когнитивное и психологическое своеобразие, когда начинает проявлять себя его самосознание. Тогда-то встает перед ним вопрос о времени в метафизическом, то есть в отвлеченном смысле. Время окончания школы, университета, прохождения воинской службы, женитьбы, совершение других, важных для него действий и т. п.
Решающий этап – это осознание конечности своего физического существования. И здесь важнейший момент. Оказывается, что всякое ощущение и понимание времени является фактором внутренней, когнитивной деятельности человека. Если ее не существует, не возникает, тем самым, восприятия времени, то есть в этом случае его для индивида просто-напросто – нет. Чем сложнее и разнообразнее, утонченнее и отрефлектированнее внутреннее пространство человека, тем острее он воспринимает свои отношения со временем. Особенно со временем будущим – прекращение в какой-то момент его отдельного, неповторимого и уникального самосознания. Такого рода конфликт носит абсолютный характер, из него нет никакого выхода для индивидуального сознания, и часто именно пессимизм становится главной эмоцией, сопутствующей восприятие человеком времени именно в этом персоналистическом ключе.
Несколько другие отношения со временем возникают у людей, укорененных в метафизике веры в высшее божество, убежденных в наличии бессмертия для какой-то части его самого, так называемой души. Хотя и здесь кроется известное опасение и верующего человека, а что именно из содержания его Я добьется дружеских отношений со временем. Он верует, что именно его душа войдет в сонм бессмертных сущностей, соединенных в составе Высшего существа. Понятно, что речь не идет о физическом перемещении человека во всем его материальном облике в райские кущи (или в ужасы ада), но о транспозиционировании его духовного слепка (душевной матрицы) как квинтэссенции его настоящей сущности, в другое пространство, где он продолжает свое существование в бессмертных формах, включает себя в «облако» Бога.
* * *
Древние греки, кажется, Демокрит, говорили, что бояться смерти нет никакого смысла: когда мы есть, ее – нет, когда она – есть, нас уже нет. Но для человека веры важно выстроить свою земную жизнь таким образом, чтобы он преодолел свою земную и физическую ограниченность и мог претендовать на какое-то соединение с вечными сущностями.
Строго говоря, то или иное человеческое существо не начинает жить с момента рождения. Оно присутствует в жизни, как некое тело в своей единой и неповторимой физической сущности. Но его пребывание в бытии начинается с момента возникновения, хотя бы и слабого, но самосознания, и в первую очередь по отношению ко времени. Здесь есть еще один поворот, совершенно законный, с точки зрения логики: можно предположить, что данный народившийся человек был запрограммирован к жизни намного раньше, и странным образом он присутствует в скрытом виде во всем сонме своих предков, издревле. При этом можно предположить, что какое-то сочетание атомов, электронов, молекул, проходя через громадную череду предков каждого рожденного человека, уже и несет возможность его физического осуществления в том или ином виде. Вот эта замечательная и бесконечная, по сути, с точки рения обыкновенного человека, лестница какая воссоздана и в Ветхом Завете.
Именно что современное мышление и может разложить по полочкам строгую необходимость появления данного существа из рассмотренной совокупности его предков. Он же, этот конкретный человек, не мог появиться из н и ч е г о, он взаимосвязан с той совокупностью физической плоти, реальной биологической материи, какая после умопомрачительных трансформаций превратилась в данный индивид с тем или иным набором определенных физических свойств.
Однако что-то подсказывает нам, что не только внешний облик, черты лица, строение тела и пр. и пр. связывает данного индивида со своими предками. Но и свойства его психологии, когнитивные способности, душевные качества содержались в определенном наборе атомов и молекул, которые сами по себе не обладают самодостаточными характеристиками, но нуждаются в воплощении через отдельное человеческое существо.
Также можно предположить, что и через своих потомков данный индивид продолжает свое существование, и определенного рода совокупность атомов (хромосом, иных механизмов внутриклеточного обмена информацией, или еще как-то, что нам еще неизвестно), продолжает свою материальную жизнь внутри других организмов. И время для этих элементарных частиц, связанных с конкретным существом, продолжает длиться, продолжает быть. Да и в дальнейшем, вообразив себе гибель планеты Земля, солнечной системы, нашей Галактики, можно предположить, что в определенных скоплениях звездной пыли будут присутствовать, на самом деле бессмертные частицы всех, без исключения, людей.