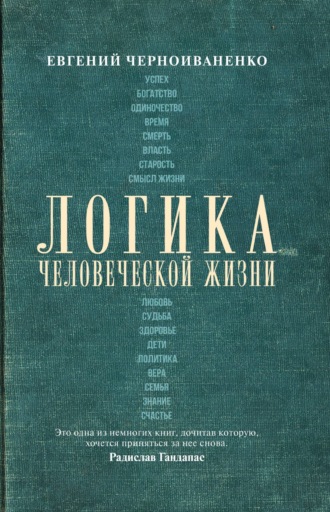
Евгений Черноиваненко
Логика человеческой жизни
Глава 8
Драма счастливого детства
Один из наиболее распространённых ответов на вопрос о том, в чём заключается счастье, гласит: наше счастье – в наших детях. Почему мы так думаем? Во-первых, потому, что мы их очень любим, а ещё потому, что дети – это наша надежда преодолеть все главные страхи нашего бытия: страх одиночества, страх бессмысленности жизни и даже страх смерти. Если у нас есть дети, то отныне мы уже не будем одиноки. Обзаведясь детьми, мы выполнили свою главную жизненную миссию и таким образом наполнили своё существование смыслом. Наконец, мы будем жить в своих детях даже тогда, когда нас самих уже не станет. Во 2-м сонете Шекспира читаем:
Вы посмотрите на моих детей.
Моя былая свежесть в них жива.
В них оправданье старости моей».
Пускай с годами стынущая кровь
В наследнике твоём пылает вновь!
Его современник Френсис Бэкон сказал об этом: «Дети приумножают наши житейские заботы и тревоги, но в то же время благодаря им смерть не кажется нам такой страшной».
Всё это так, но, как бы то ни было, мы, однако, понимаем, что рождение ребёнка автоматически не делает нас счастливыми отныне и навсегда. Во-первых, не всё так просто с нашими главными страхами. Дети взрослеют и уходят от нас, и это часто делает нас ещё более одинокими. С возрастом всё яснее понимаешь, что одно лишь наличие детей не делает твою жизнь осмысленной. Да и бессмертие, даруемое детьми, всё же иллюзорно, ибо не избавляет от необходимости умирать. Во-вторых, даже если бы дети полностью освобождали нас от главных страхов, это ещё не было бы счастьем, ведь одного отсутствия страха для счастья мало. Кроме отсутствия негатива, должно быть и наличие позитива: радости, любви, гармонии. Много ли их дают нам дети?
У меня, как у каждого родителя, есть свой ответ на этот вопрос, но я не считаю своё мнение авторитетным, хотя всем известно, что в воспитании детей, как в футболе и в политике, разбирается каждый. Однако, слава Богу есть всё же люди, авторитет которых во всём, что касается детей, неоспорим. Одним из таких людей был Эрш Хенрик Гольдшмит, более известный всем нам как Януш Корчак (1878–1942). Он был великим педагогом, он был зрелым и мудрым человеком, который знал, понимал и любил детей, как мало кто другой. Он доказал эту любовь к детям, по своей воле уйдя вместе с ними в газовую камеру фашистского концлагеря Треблинка. И потому особенно веришь его книгам с простыми и мудрыми заголовками – «Как любить ребёнка» (1919) и «Право ребёнка на уважение» (1929), давно уже ставшим мировой педагогической классикой. Сегодня именно он, Януш Корчак, будет нашим главным экспертом.
Итак, много ли счастья мы испытали тогда, когда рождались и подрастали наши дети? Да, несомненно, оно было, это счастье, но не больше ли было тогда огорчений, усталости и забот? И – будем честными – не больше ли неприязни, чем счастья, вызывали у нас наши дети? «Откуда неприязнь к любимому ребёнку?» – спрашивает Корчак и отвечает: «Прежде чем он мог приветствовать этот негостеприимный мир, в жизнь семьи уже вкрались растерянность и ограничения. Канули безвозвратно краткие месяцы долгожданной законной радости.
Длительный период неповоротливого недомогания завершают болезнь и боли, беспокойные ночи и дополнительные расходы. Утрачен покой, исчез порядок, нарушено равновесие бюджета.
Вместе с кислым запахом пелёнок и пронзительным криком новорождённого забряцала цепь супружеской неволи.
Тяжело, когда нельзя договориться и надо додумывать и догадываться.
Но мы ждём, быть может, даже и терпеливо.
А когда, наконец, он начнёт ходить и говорить, – путается под ногами, всё хватает, лезет во все щели, основательно-таки мешает и вносит непорядок – маленький неряха и деспот.
Причиняет ущерб, противопоставляет себя нашей разумной воле. Требует и понимает лишь то, что его душеньке угодно.
Не следует пренебрегать мелочами: обида на детей складывается и из раннего вставания, и смятой газеты, пятен на платьях и обоях, обмоченного ковра, разбитых очков и сувенирной вазочки, пролитого молока и духов и гонорара врачу.
Спит не тогда, когда нам желательно, ест не так, как нам хочется; мы-то думали – засмеётся, а он испугался и плачет. А хрупок как! Любой недосмотр грозит болезнью, суля новые трудности». Признайтесь честно: разве у вас было не так, как описал это Корчак?
Но ведь и потом не становится легче. Давно известно, что большие дети – большие проблемы: неуспехи в школе, лень, неорганизованность, безответственность, непослушание, безумная мода и идиотский жаргон, отчаянная первая любовь и полное нежелание всерьёз задуматься о будущем… Мы выбиваемся из сил, работаем на трёх работах – всё ради них; вы думаете, они это ценят? Слишком дорого во всех отношениях стоят нам дети. Мы любим их, мы жертвуем всем ради них, но так редко видим их благодарность. Не потому ли так часто ребёнок даже собственными родителями начинает восприниматься как враждебное существо, постоянно отравляющее их жизнь неприятностями и проблемами?
И это вовсе не отдельные исключительные случаи. Эрих Фромм, автор, повторюсь, одного из самых глубоких трудов о природе человеческой любви, писал: «Когда люди говорят о любви, они обычно злоупотребляют этим словом, чтобы скрыть, что в действительности они любви не испытывают. Многие ли родители любят своих детей? Этот вопрос всё ещё остаётся открытым. Ллойд де Моз [известный американский историк и психолог, изучавший отношение к детям в разные эпохи. – Е.Ч.] обнаружил, что история западного мира двух последних тысячелетий свидетельствует о таких ужасных проявлениях жестокости родителей по отношению к собственным детям – начиная от физических истязаний и кончая издевательствами над их психикой, – о таком безразличном, откровенно собственническом и садистском отношении к ним, что приходится признать, что любящие родители – это скорее исключение, чем правило». И это вовсе не явления давно минувшего прошлого. Статистика свидетельствует, что даже в странах Евросоюза ситуация с насилием над детьми остаётся тревожной. Зная это, трудно не согласиться с парадоксальным выводом, ещё полвека назад сформулированным Бернардом Шоу: «Главная опасность, от которой необходимо оберегать детей, – их родители».
Но если дети – это наше счастье, то почему же мы так жестоки с ними? Может, понимая, что не такое уж это счастье, люди всё чаще отказываются заводить детей? Сомнения усиливают и исследования социологов и психологов. В своей книге «Психология счастья» Майкл Аргайл, опираясь на работы голландского социолога Рута Венховена и ряда других учёных, резюмирует: «В целом наличие детей на счастье супругов не влияет. Однако если их роль и отмечается, она неодинакова на разных этапах жизненного цикла семьи. Американскими и британскими исследователями было показано, что удовлетворённость браком со временем падает, а затем снова возрастает. Обратите внимание, что для супружеского счастья есть два неблагоприятных периода: когда в семье очень маленькие дети, а также когда дети находятся в подростковом возрасте. Хорошее время – фаза „пустого гнезда”, в том случае, если хорошо налажены отношения с выросшими „птенцами”, – пишет Аргайл. Как видим, вывод учёных недвусмыслен: своим появлением дети изгоняют из семьи супружеское счастье, которое возвращается в семью лишь тогда, когда из неё исчезают уже выросшие дети. Можно ли после этого с уверенностью говорить о том, что наше счастье – в наших детях? Едва ли.
Но закончить таким выводом рассмотрение этой сложной темы было бы неправильно и несправедливо, ведь мы не выслушали аргументы второй стороны – детей. Такими ли терпеливыми, добрыми, умными, любящими оказываемся мы в их представлении? Таким ли радостным, беззаботным и счастливым на самом деле является детство для наших детей? Только ли дети виноваты в том, что их детство приносит нам так мало счастья? Вопросы совсем не простые. И чем больше размышляешь над ними, тем парадоксальнее и печальнее выглядит вся ситуация.
Пойдём по порядку. Кто и благодаря каким заслугам получает право стать родителем и воспитателем нового человека? Оказывается, такая постановка вопроса просто бессмысленна. Известный американский адвокат Джерри Спэнс в книге «Как побеждать в споре» (1995) заметил: «В этом так называемом цивилизованном обществе мы создаём всевозможные защитные механизмы, оберегая своих собратьев, но позволяем каждому половозрелому пижону рожать и воспитывать детей. Единственное, что должен сделать в этом обществе человек, чтобы стать отцом, – это продемонстрировать свою способность к половому акту на том же уровне, на котором она проявляется у хозяйского борова. Вот всё, что требуется в Соединённых Штатах для отцовства. От человека, который пришёл ремонтировать газонокосилку, мы требуем значительно большего».
Далее. Рождаться ребёнок должен как ожидаемый и любимый. Но всегда ли это так? Даже в благополучных семьях его рождение нередко нарушает все планы родителей и он оказывается совсем некстати: вот если бы через годик – полтора, но сейчас. Теперь уже известно, что ребёнок чувствует это, даже находясь ещё в утробе матери. Это ощущение уже теперь формирует его характер, его недоверие к миру. Он рождается лишённым чувства общности, от которого, согласно Альфреду Адлеру, зависит его способность взаимодействовать в будущем с другими людьми, с миром. Как писал Ошо Раджниш, «нелюбимый ребёнок чувствует себя чужим в жизни, ему кажется, что он незнакомец, аутсайдер. Он не верит в жизнь. Если он не верил в свою собственную мать, то как он может верить кому-то ещё? Доверие становится невозможным. Он полон сомнений, он полон подозрений, он постоянно находится в состоянии ожидания, страха, замешательства. Он повсюду видит врагов и конкурентов. Ему кажется, что в любой момент его могут уничтожить. Для него мир не стал родным домом» (книга «О детях»). Конечно, это самым негативным образом неминуемо отразится и на его взаимоотношениях с родителями, но разве он в этом виноват?
Но вот ребёнок уже родился, он уже есть, однако есть ли он для нас на самом деле? Как физическое тело он, конечно, существует и сейчас, но как человеческое существо он для нас существует только в будущем, которое никогда не становится настоящим: вот если бы он уже ходил, тогда, конечно же… вот если бы она уже говорила, тогда другое дело… вот научится читать… вот пойдёт в школу… вот окончит школу. Суть парадокса объясняет нам Корчак: «Воспитанные сами в безвольном ожидании того, что будет, мы постоянно спешим в полное очарования будущее. Ленивые, мы не желаем искать красоты в сегодняшнем дне… И что же это, „если бы он уже ходил, говорил”», как не истерия ожидания?
Он будет ходить, будет ударяться о твёрдые края дубовых стульев. Он будет говорить, будет перемалывать языком жвачку каждодневной рутины. Чем же сегодня ребёнка хуже, менее ценно, чем его завтра? Если речь идёт о трудностях, то оно более трудное.
А когда, наконец, наступает завтра, мы ждём нового дня. Потому что основной принцип: ребёнок не есть, а будет, не знает, а лишь узнает, не может, а только сможет – приговаривает его к постоянному ожиданию», – пишет Корчак.
То же продолжается и в школьные годы. То, чем от рождения ребёнка и до его совершеннолетия занимаются родители, школа, всё общество, называется воспитанием. Загляните в любой словарь или энциклопедию – вы прочитаете там, что функция воспитания заключается в подготовке индивида к выполнению той роли, которую ему предстоит играть в обществе. Вот так и выходит, что детство и отрочество – это не сама жизнь, это только подготовка к настоящей жизни, эта какая-то «ещё не совсем жизнь», «недожизнь», да и сам ребёнок – это только полуфабрикат настоящего человека.
Если вы думаете, что ребёнок этого не осознаёт, вы ошибаетесь. Корчак пишет: «И ребёнок думает: „Я ничто. Чем-то бывают только взрослые. Я ничто уже немного постарше. Сколько же ещё лет ждать? Ну погодите, вот вырасту…”
Ждёт и лениво перебивается со дня на день, ждёт и задыхается, ждёт и таится, ждёт и глотает слюнки. Прекрасное детство?
Прекрасное? Нет, скучное, и если и есть в нём прекрасные минуты, то отвоёванные, а чаще всего – украденные», – пишет великий педагог.
– Ну почему же не прекрасное? – спросите вы. – Ведь ребёнок не знает проблем взрослой жизни, неприятностей на работе, он окружён любимыми игрушками, он играет, а игра – это же так весело и беззаботно! Уже только это делает детство прекрасным.
Конечно, – отвечу я. Давайте ещё вспомним известное высказывание Фридриха Шиллера о том, что человек только тогда человек, когда он играет. Но с детской игрой не всё так просто и радужно, как хочется думать нам, взрослым. Корчак пишет об этом: «Ребёнок привязывается к кукле, щеглу, цветку в горшке, потому что он ничем больше не обладает, вот так же заключённый или старик привязываются к тем немногим вещам, которые у них есть, потому что у них уже ничего не осталось. Ребёнок играет во что угодно, лишь бы убить время, лишь бы занять себя, потому что не знает, что делать, потому что ничего другого у него нет… Дети смущаются присутствием взрослых и посторонних, стыдятся своих игр, отдавая себе отчёт в их никчёмности и случайности. Сколько в детских играх горького сознания недостатков реальной жизни, сколько болезненной тоски по другой реальности. Палка для ребёнка – это не лошадка, просто он из-за отсутствия настоящего коня вынужден примириться с деревянным. А когда он на перевёрнутом стуле плывёт по комнате, то это вовсе не есть поездка в лодке по пруду.
Когда у ребёнка в расписании дня имеется купание без ограничений, лес с ягодами, рыбная ловля, птичьи гнёзда на высоких деревьях, голубятня, куры, кролики, сливы из чужого сада, клумбы перед домом, игра становится лишней или в корне меняет свой характер.
Кто согласится обменять живую собаку на плюшевую? Кто отдаст жеребёнка в обмен на коня-качалку?
Он обращается к игре поневоле, убегает в неё, скрываясь от злой тоски, прячется в ней от пугающей пустоты, от холодного долга. Да, ребёнок предпочитает играть, нежели зубрить грамматические формулы или таблицу умножения… Умные родители с неприязненным чувством велят: «Играй!» – и с болью слышат в ответ: «Всё только играй да играй». А чем же им заниматься, раз у них нет своего дела?»
Но вот ребёнок немного подрастает и у него появляется своё дело – учёба в школе. Мы, взрослые, склонны ностальгически вспоминать «школьные годы чудесные / с дружбою, с книгою, с песнею», потому что наши воспоминания обычно сохраняют нам только хорошее. Но как же трудно нам было в школе на самом деле! Нас оторвали от матери, нас лишили свободы, нас заставили заниматься скучным и малопонятным делом, жить в постоянном напряжении и под постоянной угрозой наказания – и так изо дня в день, из года в год. Учитель Януш Корчак писал о том, что чувствует ребёнок, оказавшийся в школе: «Ребёнок, ощутивший боль отлучения от самых близких и ещё слабо сросшийся с детским коллективом, испытывает тем большие страдания, что на него сердятся, что не хотят помочь, что ему не к кому обратиться за советом, не к кому притулиться, не на кого опереться». По мнению Уинстона Черчилля, «школа не имеет ничего общего с образованием. Это институт контроля, где детям прививают основные навыки общежития». Позже Ошо Раджниш тоже скажет об этом: «Что мы делаем в школах? Школы, на самом деле, являются не столько инструментом передачи знаний, сколько инструментом контроля. Ребёнок проводит там по 6–7 часов. Это необходимо для того, чтобы усмирить его танец, его песню, его радость; это требуется для того, чтобы контролировать его. Будучи запертой по 6–7 часов ежедневно в почти тюремной атмосфере, энергия ребёнка угасает. Он становится подавленным, будто замороженным. Энергия больше не течёт, не бьёт ключом, жизнь ребёнка сводится к минимуму – и это мы называем сдержанностью. Он никогда не живёт полной жизнью» (книга «Любовь, свобода, одиночество»).
Шесть уроков в день – и на каждом тебя могут поднять и при всех проверить твою ученическую и личностную состоятельность. Я часто думал: если бы каждого взрослого на его рабочем месте могли шесть раз в день поднять и проэкзаменовать – наш мир был бы куда более совершенным. Но «право» жить в постоянном напряжении предоставлено только школьникам. Скольких страхов стоили одни только контрольные работы! Сегодня нам это кажется ерундой, но вспомните, как трудно это давалось тогда. Пусть вам напомнит об этом стихотворение Александра Кушнера:
Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету ещё, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать – пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут!
Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид – вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.
И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Всё это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.
Родителям нужно уметь понять это, уметь сочувствовать ребёнку в его горестях и проблемах, хотя взрослым это совсем не просто.
Из того, что всё сколько-нибудь серьёзное у ребёнка – только в будущем, его настоящее для нас несерьёзно. Его проблемы несопоставимы с нашими, его беды ерундовые, его обиды смехотворные. А ведь всё обстоит с точностью до наоборот: и радости, и горести ребёнок воспринимает намного острее, чем взрослый. Известная английская писательница Айрис Мэрдок сказала об этом: «Детская беда безгранична. Отчаяние у взрослого, пожалуй, несравнимо с отчаянием ребёнка». Это объясняется, прежде всего, тем, что взрослые живут в будущем или в прошлом, а дети – в настоящем. При этом, как пишет Корчак, дети – это «половина человечества, живущая вместе с нами и рядом с нами в трагическом раздвоении. Мы навязываем ей бремя обязанностей завтрашнего человека, не давая ни одного из прав человека, живущего сегодня».
Американская писательница Бел Кауфман, автор известного всем педагогам романа «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (1965), заметила: «Детство – чужая страна: говоря на одном и том же языке, родители и дети нередко совершенно не понимают друг друга». Мы, взрослые, часто совсем иначе видим ситуацию, чем ребёнок, но либо не замечаем этого, либо не придаём этому значения, ведь правы всегда мы. Корчак пишет: «Почему он не любит ходить туда в гости? Ведь там есть дети, ему нравится с ними играть.
Играть-то ему нравится, но только у себя или в саду. А там есть пан, который кричит; там пристают с поцелуями; служанка его обидела; старшая сестра дразнится; там собака, которой он боится. Самолюбие не позволяет ему назвать истинные мотивы, а мать думает, что это каприз.
Не хочет идти в сад. Почему? Потому что ему старший мальчик пригрозил, что побьёт; потому что бонна одной девочки сказала, что пожалуется на него; потому что садовник погрозил ему палкой за то, что он на газон за мячиком полез; потому что он обещал мальчику марку принести, а она куда-то задевалась». Разве мы видим и понимаем эти их проблемы, сложности, драмы?
Мы, взрослые, убеждены в том, что понимаем всё, уже только потому, что мы взрослые. Мы не допускаем мысли, что ребёнок может понимать что-либо лучше нас. Но дети намного сильнее чувствуют и яснее, чем мы, сознают всю меру непонимания, разделяющего нас. В какой-то момент оно открывается ребёнку и становится ещё одной драмой его детства. Эту драму ещё столетие назад описал будущий нобелевский лауреат Герман Гессе в новелле «Душа ребёнка» (1919). Случайно оказавшись один в кабинете отца, мальчик из любопытства заглядывает в ящик стола, где обнаруживает несколько ягод инжира. Поддавшись искушению, он съедает их. Тут же его начинают мучить совесть и страх наказания. Отец вернулся домой вечером, а пропажу заметил только утром следующего дня, когда сын успел уже сто раз раскаяться в том, что сделал. Отец мог бы рассмеяться и не придать значения этой безобидной детской шалости, но тогда он не был бы настоящим взрослым. С педантичностью истинного взрослого он устраивает настоящее расследование, увенчивающееся победоносным уличением ребёнка в краже. И ребёнок, вчера ещё искренне готовый умереть от раскаяния, сегодня вместе с болью чувствует упрямство и озлобление. «Когда он спросил: „Значит, ты украл винные ягоды?” – я смог только кивнуть головой. Лишь слабо кивнуть удалось мне и тогда, когда он пожелал узнать, жаль ли мне, что так вышло. Как мог он, большой, умный человек, задавать такие дурацкие вопросы! Неужели мне могло быть не жаль! Неужели ему не видно было, какую мне всё это причиняет боль, как надрывает сердце! Неужели я мог ещё радоваться своему поступку и этому несчастному инжиру! Наверное, впервые за свою детскую жизнь я почувствовал, я почти отчётливо осознал, как ужасно могут не понимать, мучить, терзать друг друга два родных, полных взаимной доброжелательности человека и как тогда любые речи, любое умничанье, любые разумные доводы лишь подливают яду, приводят лишь к новым мукам, новым уколам, новым промахам. Как это так получалось? Но так получалось, так выходило. Это было нелепо, это было безумно, хоть смейся, хоть плачь – но было именно так».
Рядом с детьми мы кажемся себе мудрыми и совершенными, и мы делаем всё для того, чтобы и дети видели нас такими же. Как пишет Корчак, «мы скрываем свои недостатки и заслуживающие наказания поступки. Критиковать и замечать наши забавные особенности, дурные привычки, смешные стороны детям не разрешается. Мы строим из себя совершенства. Под угрозой высочайшей обиды оберегаем тайны господствующего класса, касты избранных – приобщённых к высшим таинствам. Обнажать бесстыдно и ставить к позорному столбу можно лишь ребёнка.
Мы играем с детьми краплёными картами; слабости детского возраста бьём тузами достоинств взрослых. Шулеры, мы так подтасовываем карты, чтобы самому плохому в детях противопоставить то, что в нас хорошо и ценно.
Где наши дураки, лентяи, лодыри, авантюристы, люди недобросовестные, плуты, пьяницы и воры? Где наши насилия и явные и тайные преступления? Сколько дрязг, хитростей, зависти, наговоров, шантажей, слов, что калечат, дел, что позорят! Сколько тихих семейных трагедий, от которых страдают дети, первые мученики-жертвы!»
Но дети чувствительнее, наблюдательнее и умнее, чем мы думаем, и потому, несмотря на все наши старания, мы выглядим в их восприятии совсем не так, как нам хотелось бы. Корчак передаёт нам их мнение о нас: «Взрослые не умны, они не умеют пользоваться свободой, которой располагают.
Они такие счастливые, всё могут купить, что хотят, всё им можно, а они всегда на что-то злятся, кричат по пустякам. Взрослые не всё знают, часто отвечают, чтобы отвязаться, или шутят, или так, что понять невозможно, один говорит одно, другой – другое, и неизвестно, кто говорит правду. Сколько на небе звёзд? Как по-негритянски будет тетрадь? Как засыпает человек? Живая ли вода, и откуда она знает, что сейчас ноль градусов, что из неё должен сделаться лёд? Где находится ад? Как тот пан сделал, что в шляпе из часов приготовилась яичница, и часы целы, и шляпа не испортилась: это чудо?
Смерть, животные, деньги, правда, Бог, женщина, разум – во всём примесь фальши, какой-то дурной загадки, унизительной тайны. Почему они не хотят сказать, как всё обстоит на самом деле?
Взрослые не добрые. Родители дают детям есть, но это они вынуждены делать, иначе мы бы умерли. Они ничего детям не разрешают, смеются, когда что-нибудь скажешь, вместо того, чтобы объяснить, нарочно дразнят, шутят. Они несправедливые, а когда их кто-нибудь обманывает, то они ему верят. Любят, чтобы к ним подлизывались. Когда они в хорошем настроении, то всё можно, а когда злые, то всё им мешает.
Взрослые лгут. Они не держат слова: обещают, а потом забывают, или выкручиваются, или в наказание не разрешают, да и так бы ведь не позволили.
Они велят говорить правду, а скажешь правду – обижаются. Они двуличные: в глаза говорят одно, а за глаза другое, не любят кого-нибудь, а сами притворяются, будто любят. Только и слышишь от них: «Пожалуйста, спасибо, извините, кланяюсь». Можно подумать, и в самом деле добрые». Не слишком приятно узнавать такое о себе, но разве это не правда?
И не дай Бог ребёнку дать нам понять, что именно он о нас думает на самом деле! Какими бы добрыми и любящими мы ни были, в нас всех прочно сидит шовинизм взрослых, кредо которых – «взрослый всегда прав». Извечное желание родителей доказать, что это так, заставляет нас опускаться до откровенного лицемерия и явной несправедливости. У Корчака читаем: «…Не позволяем критиковать нас детям и не контролируем себя сами.
Отпустили себе грехи и отказались от борьбы с собой, взвалив эту тяжесть на детей.
А вина ребенка – это всё, что метит в наш покой, в самолюбие и удобство, восстанавливает против себя и сердит, бьёт по привычкам, поглощает время и мысли. Мы не признаём упущений без злой воли.
Ребёнок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может – всё это его вина. Невезение или плохое самочувствие, каждая трудность – это вина и злая воля.
Недостаточно быстро или слишком быстро и потому недостаточно исправно выполненная работа – вина: небрежность, лень, рассеянность, нежелание работать.
Невыполнение оскорбительного и невыполнимого требования – вина. И наше поспешное злое подозрение – тоже его вина. Вина ребёнка – наши страхи и подозрения и даже его старание исправиться.
„Вот видишь, когда ты хочешь, ты можешь”.
Мы всегда найдём, в чём упрекнуть, и алчно требуем всё больше и больше.
Уступаем ли мы тактично, избегаем ли ненужных трений, облегчаем ли совместную жизнь? Не мы ли сами упрямы, привередливы, задиристы и капризны?
Ребёнок привлекает наше внимание, когда мешает и вносит смуту; мы замечаем и помним только эти моменты. И не видим, когда он спокоен, серьёзен, сосредоточен. Недооцениваем безгрешные минуты беседы с собой, миром, Богом. Ребёнок вынужден скрывать свою тоску и внутренние порывы от насмешек и резких замечаний; утаивает желание объясниться, не выскажет и решения исправиться.
Не бросит проницательного взгляда, затаит в себе удивление, тревогу, скорбь, гнев, бунт. Мы хотим, чтобы он подпрыгивал и хлопал в ладоши – он и показывает ухмыляющееся лицо шута».
Наши отношения с детьми таковы, что ребёнок не может позволить себе быть с нами честным, искренним, хоть сколько-нибудь критичным. Мы на словах требуем этого от него, а на деле исключаем малейшее проявление этих качеств, ведь в противном случае нам пришлось бы самим быть честными и искренними с детьми, друг с другом в семье и со всеми остальными, а этого уже мы сами не можем себе позволить. Нам удобнее, чтоб они были не честными, а послушными, и потому именно послушание во все времена было и ныне остаётся главной детской добродетелью в глазах родителей. Ребёнок должен слушаться нас не потому, что мы познали некую великую истину, не потому, что мы достигли высокого общественного авторитета и признания, а только потому, что мы его родители. Этим послушание, которого мы требуем от детей, мало чем отличается от послушания, которого требуют от заключённых в тюрьмах и от солдат в казармах.
Но послушание, которого требуем мы, гораздо изощрённее. Тюремный надзиратель и армейский сержант требуют только послушания, тогда как родители убеждены в том, что ребёнку мало слушаться их – он обязан ещё и любить их только за то, что они – родители. Что остаётся ребёнку? Как пишет Корчак, ребёнок «не зарабатывает себе на хлеб», и, «будучи у нас на содержании, он вынужден подчиняться нашим требованиям». Вам по душе такая любовь? Не кажется ли она вам, мягко говоря, не вполне искренней и потому, мягко говоря, не вполне нравственной? А если ещё точнее, то и не вполне любовью?
Впрочем, такова почти всегда не только любовь, а вся система наших отношений с детьми. С кем ещё мы позволяем себе быть такими принципиальными и требовательными, нетерпеливыми и нетерпимыми, бестактными и невоспитанными? Со своим начальством? с коллегами? с соседями? с друзьями? с врагами? Нет, нет и нет – только с ними, с детьми. Их можно стесняться меньше всего.
И потому, если мы хотим быть честными, мы признаем справедливость вывода, к которому пришёл Ошо Раджниш: «Больше всего в мире эксплуатируют ребёнка. Никакой класс не подвергался такой эксплуатации, как дети. Они ничего не могут сделать: они не могут создавать профсоюзы для борьбы со взрослыми, они не могут обратиться в суд, они не могут пожаловаться правительству. Они не в состоянии защитить себя от нападок родителей» (книга «О детях»).
Вот сколькими печальными парадоксами переполнено такое, казалось бы, счастливое детство. Когда понимаешь их, осознаёшь правоту Януша Корчака – Генрика Гольдшмита, написавшего: «Детство – это не рай, это драма». Причём, добавлю уже от себя, это драма не только для детей, но и для нас, взрослых.
Почему же вместо взаимного счастья детство наших детей оборачивается для нас взаимной драмой? Ответственность за это лежит прежде всего на нас, взрослых, ведь мы не только действующие лица, но авторы и режиссёры этой драмы.
Дело тут не только и даже не столько в том, что мы недостаточно добры, тактичны, терпимы, – мы не понимаем чего-то очень важного в самой природе детства, мы не понимаем чего-то очень важного в природе любви как родителей, так и детей, мы не понимаем чего-то очень важного в том, какими должны быть наши взаимоотношения. И пока мы не поймём этого, мы не сможем сделать детство наших детей счастливым ни для них, ни для нас, взрослых. Но мы обязательно это поймём.


