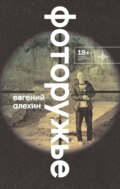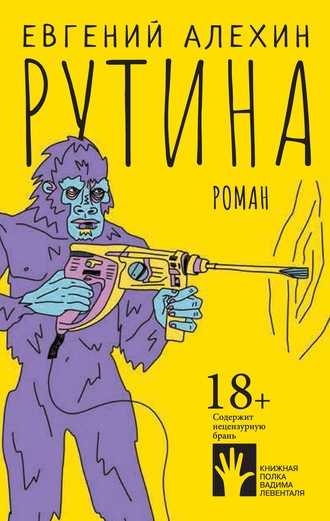
Евгений Алехин
Рутина
Я посмотрел на Орловича. Здоровенный малыш тридцати пяти лет с великими кулаками. Он повидал многое: почти стал профессиональным спортсменом, владел бизнесом в девяностые, был женат и развелся, после чего основательно погрузился в разврат, в нулевые разорился и перепробовал тысячу работ и подработок. Он был талантливый актер и талантливый строитель. Писать у него тоже получалось неплохо, но что-то мешало ему. Орлович не был усидчив и не верил в себя, его желания были мелки и не искажали пространства. Несмотря на свою крутизну, он был слишком нежен для литературы или драматургии. У него было мягкое рукопожатие, он просто выдавал свою безжизненную руку, чтобы вы ее потискали. Но когда надо, можно и прикинуться.
– Мы не робкого десятка, – сказал Орлович.
Я кивнул и на всякий случай выставил подбородок вперед. Сказал первое, что пришло в голову:
– Я борец.
Администратор посмотрела мне прямо в глаза. Мне показалось, что она с холодным любопытством разглядывает мое голое тело. Она просканировала меня и отвела взгляд.
– Ладно, я думаю, вы подходите.
Так мы с Орловичем ночь через ночь стали проводить на этой работе. Мне нравилось. Я приходил в восемь вечера и, пока администратор не уходила, час прогуливался по двум залам с компьютерами, присаживался с книгой. Десять минут прогулки, десять минут чтения. Администрация уходила, и оставался только я и один из операторов-кассиров (их тоже было двое, как и нас, охранников, они чередовались) и несколько посетителей. Тогда я уже просто занимал любой свободный компьютер и брался за письмо. Часто сюда приходил кто-то из наших вгиковских студентов, чтобы сделать распечатку работы или посидеть в интернете. Если меня не успевали заметить, я выходил в другой зал. А если замечали и спрашивали, приходилось объяснять, что я работаю здесь охранником, да. Мне было как-то странно, не хотелось, чтобы администратор меня поймала за каким-нибудь разговором о кино или чем-то таким интеллигентским, хотя она и знала, что я студент.
Иногда я подменял оператора-кассира, если он уходил поужинать. Приходилось распечатывать кому-то из знакомых этюд или сценарий. Тогда я имел возможность подглядеть его неловкие карьерные потуги из другой ниши. Это приятно волновало, хотя и было чуть неловко.
Я стал регулярно переписываться с отцом по электронной почте. Я писал что-то вроде такого:
– Анатолич, не болей! Стану великим поскорей!
Мне казалось, что это очень смешно. Эта шутка обязывала меня начать писать роман. Весь свой стыд за пьяные разговоры, за то, какой я крутой мастер слова, я направлял в клавиатуру. Там, в этом подвале, странными ночами, я написал первые главы своего романа, который сначала хотел назвать «Цук». В соседнем зале подростки играли в игры и посмеивались, поедая чипсы, оператор-кассир спал рядом со мной, сдвинув несколько стульев. А я писал, и время останавливалось, было хорошо.
В восемь утра я получал свои деньги, три с половиной сотки, и шел спать в соседнюю, свою, общагу.
В одно такое утро я не обнаружил Сигиты. Ее не было в моей постели и не было в постели ее комнаты. Михаил Енотов уехал тогда домой в Казань. Сигита осталась без нашего надзора, ее просто затянула черная воронка. «Где же ты? – думал я, бегая ночью по общаге. – Какой-то мужик, что ли, тебя забрал?»
Я еле узнал, что происходит, от ее подруг и друзей. Она пила с режиссером Ильей и ночевала с ним. Вряд ли они имели секс, скорее всего, ей просто тяжело было подняться с седьмого этажа на десятый.
Несколько суток я не спал. Установил на компьютер программы, чтобы нарезать сэмплы и лепить из них музыкальные коллажи – в общем, делать то, чему научился в отрочестве, наслушавшись исполнителя Дельфина. Сигита то оказывалась рядом и говорила, что у нее с режиссером Ильей ничего не будет и она остается со мной, то опять выпивала и пропадала.
В одну из одиноких ночей я пришел переночевать к Джиму. Он тогда жил один в комнате на тринадцатом этаже.
Я лег на одну из кроватей и отвернулся к стене.
Джим сказал:
– Ты такой коренастый, я одно время хотел с тобой подраться.
– Можешь приступать. У тебя сейчас есть все шансы меня одолеть. Да и в любой другой момент.
Потом он сказал, что ему сначала не понравились мои рассказы, он считал меня калькой с Буковски. Но недавно в комнате нашлась распечатка неизданной книги, Джим перечитал их более внимательно. Начал со скепсисом, но увидел и силу, и свет, и даже где-то мою особенную интонацию. Сам он тогда тоже писал больше прозу, чем сценарии. В Джиме было много энергии, иногда текст складывался.
Видя, как меня корежит, Джим разговорился, открылся мне. До этого мы мало общались, от пьянок он старался держаться подальше, чтобы не повторить судьбу отца-алкоголика. Джим рассказывал о том, как бесы иногда приходили навестить его и как он спасался молитвой.
– Я бы помолился, – сказал я. – Не знаю, не понимаю, что такое православие, крестики, и попы мне не нравятся. Но есть в этом своя правильная математика – в постах, системе грехов, молитве.
Я заплакал.
На рассвете мы пошли в церковь. Отстояли почти целую службу, мысли мои притихли, я просто разглядывал людей, слушал тишину. Потом все-таки стало душно, голова закружилась, показалось, что теряю сознание – так я был истощен. Тихо попросил его выйти прогуляться.
– Да уже конец, – сказал Джим.
Мы вышли из церкви, и день начался, люди проснулись. Возле общаги я впервые обратил внимание на цветочный киоск. Мне немного не хватало, и Джим добавил на розу для Сигиты. Пока мы ехали в лифте, я вертел цветок в руках, нюхал и говорил:
– Я потерял ее. Свою девчонку.
– Нет, – ответил Джим. – Я вижу, из тебя получится отличный отец.
Цветок я оставил в ее комнате. Первый раз в жизни подарил девочке цветок.

Я продолжал ходить на работу, на учебе совсем не появлялся.
Мы с Михаилом Енотовым придумали концепцию, как должен звучать наш альбом. Идея была в том, чтобы накладывать сэмплы из поп-музыки на разные качовые живые барабаны из рока и альтернативной музыки, мешать несколько барабанных дорожек с поп-мелодиями и записывать глубокий мрачняк, от которого тело будет рваться в пляс.
Первая песня была моей сольной – посвященная Сигите. Когда я написал этот текст – крик души, то собрал все ее вещи и выставил в коридор.
Два дня, что ли, я ее не видел, и вот она вернулась: пристыженная, и попросила Михаила Енотова покинуть комнату. Потом извинилась, сказала, что все обдумала, что любит меня, а режиссер Илья пусть себе встречается со своей девушкой. Мы ругались несколько часов, пока не пришел Михаил Енотов и не сказал:
– Хватит. Это и моя комната.
На следующий вечер была пьянка. Я расслабился. После нескольких дней бессонницы был очень пьян, смутно помню, как сидел на одиннадцатом в комнате Лема, а рядом оказался какой-то актер Федор, друг Сигиты.
Этот Федор не был плохим человеком, но был болтуном и душнилой, какие часто встречаются среди творческих людей. Рассказывает какие-то банальности, кивает, где надо, и очень положительно настроен, будто хочет помочь тебе зад вытереть. Все они знают, все видели, все любят, все понимают, при этом ничего не умеют и не представляют из себя. Мы с Михаилом Енотовым были о нем не очень высокого мнения, и, когда нам надоело его слушать, мы спонтанно, но как будто сговорившись, встали, достали члены и помахали ему. Актер Федор затряс своей шевелюрой и закричал:
– Уберите эти фитюльки!
– А я думал, ты посыплешь мою залупу еще одной душной историей! – заорал я.
Все это происходило в тесном предбаннике, кухоньке блока, в котором жил Лем. Развернуться было негде, и я уже был готов напрыгнуть на актера, так был взбешен в эти дни.
– Перестань рассказывать свое дерьмо!
– Ты лучше бабу свою проведай! – сказал актер Федор. – По-моему, она целовалась с каким-то усатым мужиком на лестнице.
Мне как будто кровью глаза залили. Я выбежал из блока. Сигита курила на лестнице с режиссером Ильей. Наверное, уже докуривали пачку, но я подскочил с криком:
– Илюша, тебе пора заканчивать!
Я выбил окурок из его головы.
Но парень даже не стал драться в ответ.
– Иди проспись, – сказал он.
– Я тебя сейчас уложу, усач!
Потом Сигита и Михаил Енотов утащили меня в комнату, а я орал:
– Хочешь, чтобы я битого стекла поел? Хочешь этого? Чтобы я выкинулся в окно, хочешь?
Ночью я проснулся в трусах и испарине – Сигита спала рядом, – открыл окно. Я бормотал, что она предала меня, что я доверился ей, а она все испортила. Я говорил, что все бабы бляди, при этом крепко взялся руками за подоконник изнутри, а ноги перекинул наружу, свесил все свое тело в пропасть. Держаться было тяжело, и вдруг меня осенило – легко умереть из-за собственной глупости. Сейчас это должно было произойти. Я не собирался умирать, но оказался в таком положении. Руки мои ослабли, тело мое, нагое и беззащитное, скатывалось вниз, подо мной – десять этажей пустоты и холодная зимняя ночь. Сигита вскочила, смотрела на меня в упор, но она ничего не могла сделать. Сейчас мои руки не выдержат, и я упаду. Потом я увидел озабоченное лицо Михаила Енотова – он смотрел на меня сосредоточенно и спокойно, как будто пытался понять (вспомнить) свою роль в этом спектакле.
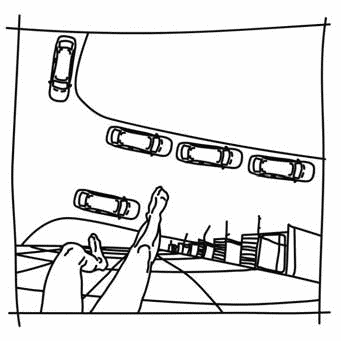
Он взял меня очень крепко и втащил в комнату. Так Михаил Енотов спас мне жизнь. Я быстро успокоился, лег к стенке и уснул. Даже не запомнил, обнимала ли меня Сигита.
Самоубийцы-симулянты всегда вызывают у меня отвращение. Но каждый раз я вспоминаю эту историю, когда сам устроил шоу, которое чуть не стоило мне жизни, одергиваю себя – прощать и стараться выслушать. С режиссером Ильей их отношения закончились. Так я отвоевал свою девчонку – странная и подлая игра с шантажом.
Песни пошли одна за другой. Я нарезал музыку для своих готовых стихов, выбрав самые любимые, также придумывал новые тексты. Михаил Енотов подхватывал – дописывал свои куплеты. Мы купили микрофон-палочку Genius за сто рублей, и через пару недель был готов дебютный альбом легендарного дуэта ночные грузчики. Пластинка называлась «танцуй и думай». Естественно и быстро получился этот материал. Я все свел сам, хотя не имел ни представлений об этом процессе, ни технических возможностей. Это было что-то действительно новое, на стыке литературы и музыки. Я нащупал то, чем буду заниматься всю жизнь. Чувство это было теплым и мягким. Я нашел на сайте группы «Кровосток» адрес их директора, и мы отправили альбом ему с пометкой, что мы – молодая группа, которой требуется помощь в продвижении. Ответ пришел на удивление быстро, через несколько дней.
«Неплохо, но побольше иронии и поменьше Гришковца в текстах!» – такое было наставление. Сотрудничества и помощи нам не предложили.
– Как думаешь, он слушал? – спросил я у Михаила Енотова.
– Похоже, что нет, – ответил он. – Наверное, увидел название песни «Гришковец и собака».
Это просто есть такой мутный писатель, мой земляк, Евгений Гришковец. Был когда-то популярным. Настолько миленький, что даже странновато пахнет его творчество. В жизни, говорят, зазнается и любит хвастаться.
У меня закралось сомнение: что, если в моих текстах сквозит такая же тухлая душевность? Что, если это может восприниматься как картавая неискренняя ерунда, графоманские пошлости? Иногда я переслушивал и находил признаки стиля ненавистного мне Гришковца и в своем творчестве. Тогда я дал себе обещание: надо быть жестче в текстах, которые пишу, какого бы жанра они ни были.
Нас с Орловичем уволили. Слишком мала вероятность, что наша, охранников, помощь вообще понадобится в этом интернет-кафе. Все и так было слишком тихо. Так нам описали причину.
Михаил Енотов говорил мне:
– Когда будешь писать мемуары, не забудь, что почти все проблемы начинались с моего отъезда.
На этих выходных его тоже не было.
У нашей подруги по прозвищу Пьяница был день рождения. Это был хороший солнечный день: вот-вот наступит весна, приятное чувство. У меня скопилось немного денег, и я поехал обновиться в магазин на соседнюю станцию метро. Я купил новую олимпийку и две футболки. Бывало у меня такое: покупаю вещь и настолько рад, что всем говорю, чтобы смотрели. А к тому же я изобрел слово «гоповка», пока ехал обратно. Может, не я первый, кто назвал так этот элемент одежды, но мне было не важно. Радовался находке, стоял в вагоне, поигрывая молнией.
– Так, – сказал я себе. – Отменяю слово «олимпийка». Мой стиль – говорить только «гоповка».
Теперь удержаться было вдвойне сложно.
– Посмотри на мою новую гоповку! – говорил я каждому, кого знал, получая двойной кайф от слова и от вещи.
Вот я сижу, обновленный, чистый, трезвый и довольный, опрокидываю первую рюмку в рот и думаю: выпью осторожно, а вечером попишу.
Вот я почти в сопли и обиженный на весь мир. Помню, я спорил с Сигитой, когда она о чем-то умничала. Это все поверхностно, думал я и ругался.
– Одни верхушки! Не знаешь ты ничего! – заявил я. – Сначала научись мыть посуду, потом будешь болтать! – и вышел курить.
Курю сигарету на лестничной площадке, трезвее не стал. Пьяница рядом, уперла голову мне в плечо.
– Я такая пьяная! – говорит она. – На самом деле мне двадцать пять лет, – грустно сообщила она.
– Ага, – сказал я. – Можешь мне не рассказывать.
Пьянице исполнялось тридцать или даже тридцать один, и все об этом знали. Но она говорила, что ей сегодня двадцать три. Парням было все равно, девчонки подыгрывали, а потом зло сплетничали за спиной. Во ВГИКе она скрывала, что у нее уже есть высшее образование – философское, полученное на Урале. Многие так делали, учились по второму разу бесплатно. Выглядела она правда очень свежо, как моя ровесница, даже моложе. Мы с Михаилом Енотовым придумали шутку, что Пьяница настолько отупела от выпивки, что годы стерлись не только из ее памяти, но даже с лица.
Пьяница надулась и заглянула мне в глаза.
– А сколько мне?
Я прочитал в этом вопросе просьбу трахнуть ее.
– Зачем тебе это? – спросил я.
– Сколько мне лет? – спросила она. Было понятно, что отказ не будет принят.
Она снизу, лицом ко мне, у меня в комнате. Платье задрано выше груди и иногда попадает нам в рот во время поцелуя. Осознание того, что Сигита и мои друзья сейчас где-то рядом и кто-то может начать искать нас с Пьяницей, меня по-животному распаляет. Пьяница заглядывает глубоко мне в глаза, и она очень красива в этот момент, во всяком случае, когда я смотрю из своего опьянения. Сам я возбужден не так болезненно и романтично, как обычно. Нет, сейчас – кайф, тупой и звериный. Нет и тени этой розовой муки, предвкушения тяжелейшей совместной работы, трудного романа – института, в котором сидишь за одной партой со своей девчонкой. Зато есть страсть, удовольствие от тела, желание пригвоздить его к кровати. Кажется, это длится очень долго. Мне приятно быть в Пьянице, никакой разницы в возрасте я не чувствую, кожа ее свежа и упруга, прохладна, так я это запомню. Кончить тем не менее не получается. Пьяница глубоко дышит, она стонет с такой благодарностью, что я забываю себя от возбуждения, отрываюсь от точки, в которой есть я – обида. Кажется, с другими девушками я никогда так не отрывался от крикливой и утомительной своей сути, своих завышенных представлений о себе, своей ипохондрической телесности, не забывал свои обиды на противоположный пол.
Тело в судороге, я переворачиваюсь на спину взять передышку.
– Полгода этого не делала, – говорит Пьяница, вдыхая и моргая.
Следующий кадр: она второпях натягивает трусы, а я сижу на кровати с торчащей шпагой, тяну руку, хочу ухватить этот зад, который мелькает краем и тут же скрывается под юбкой. Какое-то озарение: моя первая настоящая, очень физическая и земная измена.
Много лет я буду вспоминать этот POV-кадр: ее зад через мою руку, недостижимость оргазма, его близость и невозможность, примесь тоски, разочарование напрасно испачканной микрофлоры и предвкушение чувства вины, как надвигающееся похмелье. По прошествии лет, после многочисленных измен чувство вины даже будет распалять меня, от него начнет вставать.
Я вышел в туалет, умылся и немного протрезвел.
– Ты же никому не расскажешь? – спросила Пьяница.
– С утра же расскажу Сигите, – ответил я.
– И скажешь, с кем?
– Попробую утаить, – сказал я неуверенно.

Ночью я просыпался, когда Сигита начинала обнимать меня. Чувствовал себя грязным, старался отстраниться. Она отворачивалась к стенке, а я оттопыривался на самый край постели. Не хотелось замарать ее, ни один сантиметр моего тела не должен был соприкоснуться с ней. С одной стороны, мне было стыдно и хотелось получить прощение. С другой, я могу не рассказывать, думал я. И в то же время хотелось рассказать, чтобы Сигита расстроилась, уехала к своей маме, чтобы наши отношения закончились, а я бы целую неделю или месяц мог трахать Пьяницу. Этого тоже хотелось. Это было очень сильное ощущение. Меня возбуждало знание того, что Пьяница очень хочет со мной спать. Я встал, принял душ и, чтобы унять волнение, начал писать наброски к повести. Или это был сценарий. Я описал сцену, как парень рассказывает девушке про измену. Теперь ждал, волнуясь и мучаясь от похмелья, какой сцена окажется в реальности.
Когда Сигита проснулась, вместо утреннего поцелуя я сказал: – Я изменил тебе.
Она ничего не ответила. Обычно она очень долго вставала, любила поваляться, настроить планов на день, а потом обнаружить, что день уже закончился. Но сейчас встала сразу, как-то обошла меня, стараясь держаться подальше, как от пришельца, и прошла в ванную умываться. Вернулась и спросила:
– С кем?
Я ответил как есть и ушел из комнаты, оставив ее сидеть на кровати, глядящей в стену. Прошлялся где-то два часа, немного опохмелился с Лемом. Помню, мы стояли в очереди, держали в руках жигулевское, я смотрел Лему в глаза и хотел рассказать.
– Лем… – начинал я.
– Что такое, Женя? – спрашивал Лем. Но я тут же затыкался.
Наконец, я сильно соскучился по Сигите. Пора было поговорить. Она сидела на постели, в той же позе, что я ее оставил. Напротив нее на стуле сидел Доктор Актер. Вид у него был скорбный, сочувственный.
– Доброе утро, Док, – сказал я.
– Добрый день, – ответил он и ушел в свою комнату.
Мы немного помолчали.
– Илья, – начала Сигита, – считает, что ты поступил очень жестоко. Нельзя было рассказывать.
– Доктор Актер, – поправил я. – Не надо называть его Ильей. Илья – так зовут твоего ухажера, усатого пидора. Черта, которому я поправил лицо, но недостаточно, похоже. Похоже. Надо бы еще поправить.
– Не надо кричать, – сказала она.
С моей стороны это была месть или не месть, подумал я: что у меня было с Пьяницей?
– Зато мы с ним не переспали, – вот что ответила Сигита и отвернулась.
Я все еще стоял перед ней. Ждал решения. Мне уже было плевать, переспали они или нет, хотелось выпить еще.
– Нет, я не уйду от тебя, – сказала моя девушка.
Она разочаровала меня, она меня обрадовала.
Весну и лето пережили размеренно, я немного снимался, немного подрабатывал курьером, написал легкую повесть «Третья штанина» (ее скоро опубликуют в журнале «Нева») и пару рассказов. Больше ничего не произошло, не считая того, что я пробовал поступить на режиссерский факультет, где режиссер Масленников (автор культового «Шерлока Холмса») и его коллеги хвалили мою работу, но на собеседовании сказали, что лучше мне быть писателем, потому что я ничего не понимаю в визуальном искусстве.
Ничего не случилось за лето, можно так сказать, не считая этого провала и одного случая – маленького приключения, начавшегося на следующий день после моего дня рождения.
Сигита уехала к маме, а мы с Михаилом Енотовым уже опохмелились, прикупили несколько баллонов «Липтон Айс Ти Жигулевского» и вышли покурить на лестничной площадке.
Там мы встретили калмыка в два метра ростом и с широченными плечами. Лицо у него было совершенно доброе и даже блаженное, одет он был в кожаную косуху, под которой была тонкая рубашка, сквозь которую просвечивали мускулы, и узкие синие джинсы. Он стоял там один, в алкогольном или наркотическом ступоре, и мычал в стену из Цоя:
– Я из тех, кто каждый раз уходит прочь из дома около семи утра…
– О, привет, – сказал я, так как был в этом похмельном состоянии открытого разума. – Похоже, тебе надо немного старого доброго пенного пивка.
Вдруг калмык очухался, завертел головой, как будто услышал шум разрывающейся гранаты, и резко спросил:
– Кто мне говорит?! – но тут же заметил нас, двух мутноглазых юродивых мальчуганов, и по-доброму улыбнулся, как будто узнав знакомых, и со своей высоты сказал:
– Здорово, мужики.
– Пенного пивка, – повторил я, ощутив вкус во рту.

Мы выкинули бычки в одну из коробок из-под кинопленки, которые тут заменяли пепельницы, и пошли в свою комнату уже втроем.
У калмыка, казалось, было раздвоение личности. Вот он сидел, разговаривал с нами на тему секса и онанизма, похмельных озарений и запойных погружений в нирвану, прихлебывая пиво из чайной чашки, и говорил:
– Да, если скуришь пачку в день, то сперма становится желтой и пахнет жесть. – Заливаясь детским румянцем, довольный, что можно говорить на табуированную тему. Но стоило отвлечься от него, начать нам говорить между собой, как калмык выпадал в какой-то иной мир, отрешался, терял с нами связь, и, когда комната вновь возникала перед его взором, он хватал кого-то из нас или шкаф и орал:
– Раз! Два! Отставить!
– Ты че голосишь? Чего хочешь?
– А ты чего хочешь? – он притянул мою голову к своему уху. – Слухаю тебе внематочно!
– Ты че, на войне что ли? – спросил я. – Давай потише.
– Чем занимаешься вообще? Кем работаешь? – спросил Михаил Енотов.
Калмык от этого вопроса резко подскочил и отчеканил:
– Федеральная служба безопасности!
Потом он зачем-то показал свой паспорт. Я удивился, что у него не забрали его на вахте, и обратил внимание, что ему было двадцать семь лет. Сказал, что у калмыка важный творческий возраст, как у его любимого Цоя в момент смерти.
– Ага, – сказал калмык и усмехнулся. – Тоже узкоглазый! Но я буддист!
Тут он опять стал вести себя без бычки. Присел, переключился на светскую личность.
– Супер, – ответил я. – Михаил Енотов у нас тоже буддист.
– А ты православный, что ли? – спросил меня калмык.
– Э, – мне пришла на ум цитата из Борхеса, которую я откуда-то выписал, не читав еще его самого: «Я не уверен в том, что я христианин, и уверен, что не буддист».
– Он богобоязненный гражданин, – сказал Михаил Енотов.
– Да я не знаю. Ничего в этом не понимаю, давайте сменим тему, – попросил я. – Лучше про дрочку, вот это как раз моя специальность.
Недавно Михаилу Енотову отец подарил ноутбук, с него играла рандомная музыка. Когда заиграла одна из песен группы «Систем оф э даун», калмык очень обрадовался. Это была его любимая группа, сказал он и стал прыгать по комнате.
Мы пили до ночи. Деньги закончились, но калмык сказал, что надо съездить к нему в общежитие. У него там якобы лежит зарплата за две недели, которую необходимо пропить.
– Давай спать, у кого ты гостишь? – спросил я.
Калмык вообще не помнил, как очутился в нашей общаге. Но я был готов уложить его на свою постель, а сам мог пойти в комнату Сигиты. Летом многие уезжают, ее соседка тоже уехала. Мне очень хотелось помыться, раздеться догола и лежать там в одиночестве, представляя, что я размером с планету, а мой член – это огромная вулканическая гора. Но калмык не хотел спать.
– Не спим! Поднимаемся! Мы – русские, а русский должен пить водку, поехали! – говорил он, похлопывая нас и собирая в кучу. От его огромных рук было не скрыться. Скоро мы гнали по ночной трассе за город по незнакомым дорогам, пока не добрались до поселка, напоминающего декорации к неснятым фильмам Балабанова.
– Куда дальше? – спросил водитель.
Я растолкал калмыка, задремавшего на сиденье спереди. Он указал переулок, затем дом. В свете единственного фонаря облезлая четырехэтажка выглядела как обитель живых мертвецов. Калмык включился, автоматически порылся в карманах, не обнаружил там денег и спросил:
– Есть чем заплатить?
– Нет, братан. Ты платишь, – напомнил Михаил Енотов.
Калмык дал водителю телефон в залог и сказал ждать пять минут.
– Давай паспорт, – сказал водитель.
Калмык уставился на него, водитель молча отвел взгляд, мы вылезли из машины. Несмотря на время суток, на лестнице и в коридорах происходила какая-то мрачная жизнь. Бегали дети, кто-то курил, кто-то ходил по лестнице. Но как-то почти беззвучно, и от этого складывалось жуткое впечатление.
– Это ад, – шепотом сказал я Михаилу Енотову.
– Никому не смотрите в лицо, не разговаривайте ни с кем, – предупредил калмык. – Это мусорское общежитие.
Мы остались стоять в нескольких метрах, а наш приятель постучался в дверь в глубине этажа. Оттуда вышел заспанный калмык, и они начали спорить по-калмыцки. Потом наш калмык вывернул карманы, а заспанный калмык махнул рукой и предложил проваливать отсюда нашему калмыку уже по-русски.
Калмык подошел к нам:
– Где мой телефон?
– Ты же его таксисту оставил, – ответил я.
– Давайте телефон. В залог надо оставить.
Свой мобильник я не взял. Михаил Енотов достал свою «нокиа» из кармана, немного задержал в воздухе, догадываясь, что расстается с ней навсегда, отдал калмыку. Он отнес телефон заспанному калмыку – заспанный калмык вынес деньги.
Скоро мы пили водку в общаге. К моему удивлению, вахтерши открыли нам дверь, не спросив у калмыка паспорт, как будто он был студентом, на которого явно не походил, или призраком и видели его только мы. Пьяные, мы смеялись над всем этим дурным сном, калмык придумывал какие-то небылицы, говорил, что все хорошо, зарплата у него в шкафу, телефон заберем завтра. К нам присоединился еще один приятель. Надо было избавляться от калмыка, но мы отложили это на утро. А утром было очень плохо, срочно нужно было опохмелиться. Приятель пошел за пивом, калмык же был в каком-то безумном состоянии. Орал постоянно свое «внематочно» и каждые две минуты спрашивал, где бухло.
– Спокойно, скоро принесут!
Он валялся прямо в ботинках на моей постели, как царь, и мне уже, честно говоря, не хотелось с ним пить.
– Пошли курить, – предложил я.
Калмык что-то заорал про то, что ему нужно пиво. Михаил Енотов сказал, что знает, как его успокоить – включил «Систем оф э даун». Калмык сразу увлекся песней, отключился от мира. Обнял ноутбук и раскачивал головой. Осторожно, попросил я, совсем новая машина, не разбей. Мы с Михаилом Енотовым курили и обсуждали, как бы слить этого странного пассажира.
Телефон, видимо, вернуть уже не получится.
– О, смотри, – сказал я. Через дверной проем, ведущий на этаж, я увидел, что калмык вышел из комнаты, как-то странно, боком, шатаясь, он шел от нас в сторону другой, пожарной, лестницы.
– Походу он сейчас сам уйдет, – сказал я. – Ну и отлично!
Мы скурили еще по одной, дождались приятеля с пивом, радостные зашли в комнату и увидели, что ноутбука нет. Калмык ушел с ним. В первую очередь я подумал о рассказе Михаила Енотова, единственном, который он пока написал, и о нескольких набросках музыки к новому альбому «ночных грузчиков». Мы разделились: я пошел искать калмыка на черной лестнице, Михаил Енотов – на лестнице у лифтов, приятель, ходивший за пивом, должен быть прокатиться на лифтах. Мы встретились внизу, объяснили вахтершам, как выглядит человек, которого мы ищем: огромный калмык с ноутбуком. Они сказали, что не видели его. Я оставил свой номер телефона, попросил их срочно позвонить, если он будет проходить. Вахтерши предложили обратиться в милицию, но Михаил Енотов отказался.
– Не то что я брезгую связываться с ментами, – сказал он. – Скорее, просто не хочу иметь с ними дел сейчас.
Чтобы унять похмельное волнение, я отправился подрочить в ванной. В маленьком зеркале мелькнуло не мое отражение, я глянул на него с непривычной высоты: на мне была косуха, оказалось, что я и есть этот огромный, как черный баскетболист, калмык, с огромными руками, заточенными под огромный член-вулкан. Я скурил целую пачку, и сперма моя была желтой, была горячей, как лава, и пахла дымом. Похоже, что это и есть самое гомосексуальное, что я испытал в жизни: превратился на несколько минут в этого буйного призрака, совместное похмельное видение – мое и Михаила Енотова, нанесшее материальный урон и давшее мне странную дрочку оборотня в муках. Со стоном я кончил в раковину.
Осенью пришло беспокойство, и бессонницы мои участились, когда к нам в комнату провели интернет. Постоянно там что-то выискивал, поглощал порнографию, прозу и поэзию, искал любые журналы, которые публиковали тексты на русском языке и принимали их к рассмотрению по сети. Мы начали убивать свое время социальными сетями: все знакомые регистрировались на «вконтакте». Сигита этой осенью все больше оставалась у мамы.
Мама жила на соседней станции – «Алексеевской», снимала там двухкомнатную квартиру, вела бизнес, который не очень хорошо шел: продажа элитной бытовой техники через телефон. Она кормила Сигиту, воспитывала, ругала, очень любила и оберегала. Я иногда приезжал, чтобы переночевать в обнимку с Сигитой и поесть домашней пищи. Как плата – приходилось выгулять собаку по кличке Оскар.
С Оскаром мы друг друга не любили. Я заходил в большую комнату, садился с Сигитой на диван, и стоило мне только обнять ее или погладить руку, Оскар тут же ревновал и запрыгивал к ней на колени.
– Ося-Ося, – говорила Сигита, забывая обо мне.
– Посмотрите, какой крепыш! – тут же подхватывала ее мама из другого конца комнаты, отрываясь от телевизора или своего рабочего журнала.
Я был посторонним в этом мире. Пытался погладить Оскара, чтобы сказать ему при помощи прикосновения:
– Парень, полегче. Мне не нужна твоя еда, не нужна ласка, которая предназначается тебе. Но Сигита – моя девушка, моя будущая жена. Я познакомился с ней летом две тысячи пятого, когда увидел ее на экзаменах. Она поступила, а я тогда – нет. Но я сразу сказал себе: она будет моей. И потом я уехал домой в Кемерово, доделал свои дела, проверился на венерические болезни и выдумал новую жизнь. В которой я встречусь с ней. Я приехал в Москву, вышел из поезда, без сотовой связи и почти без денег, приехал к общаге и не знал, что делать. Ося, я стоял, чувствовал себя нелепо – я же никогда прежде не покупал сим-карт, я не умел вступать в контакт с незнакомцами, не умел жить. Я не знал, что шестидесяти рублей не хватит на сим-карту, и стоял один под общагой, разглядывая бумажку с номерами знакомых. Так я и увидел ее. Сигита сказала мне «привет», и мы стали жить вместе. Ты, собака, все это чувствуешь, но мешаешь нам. Почему ты такой мелочный? Вот же она – гладит тебя и прикидывается, что ты еще щенок. Ты здесь царь, а я – гость. Но прояви ко мне уважение.