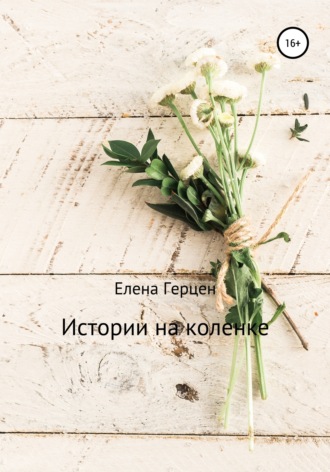
Елена Герцен
Истории на коленке
Сила искусства
Вена. Академия изобразительных искусств. Сентябрь 1908-го года.
Это была вторая попытка поступления в венскую художественную академию. Первая ухнула в бездну на этапе демонстрации своих работ. “Мало портретов”, – сказали ему, захлопнув перед носом папку с рисунками. Тогда показалось, что это захлопнулась дверь в будущее. Мало портретов! Разве это перечёркивает талант, который, между прочим, недвусмысленно отметил ректор! Он же тогда и порекомендовал юному художнику попробовать себя в архитектуре. Портретов действительно было мало. Детали же строений прорисовывались подробно и с особой тщательностью.
И вот теперь, спустя год, он снова здесь. На первом вступительном экзамене на отделение архитектуры. Комиссия не замечает охватившего его волнения. Осанка твёрдая, острый взгляд, тонкие губы под нелепыми узкими усиками сжаты в упрямую полоску. Разве что кончики пальцев слегка подрагивают. Выступления на публике всегда давались ему легко. Он будто погружался в себя, и где-то там, внутри горящего упрямства и своенравия, переворачивал страницу за страницей, зачитывая вслух главы книги. Книги своей борьбы.
Теперь же надо было использовать всё красноречие, чтобы комиссия, впечатлённая ярким выступлением, стремлением к учёбе и невероятными талантами поступающего, отвлеклась от экзаменационного табеля. В частности, от той его части, где проставлялась отметка о среднем образовании. А проставлен там был безжалостный, прямой и категоричный, как сама натура экзаменующегося, прочерк. Аттестат не требовался для поступления на живопись, а вот архитектура обязывала к элементарным знаниям точных наук, наличие коих надо было подтвердить. А подтверждать было нечем.
И он говорил, как пел. Хорошо и пылко. О каждой своей работе он рассказывал настолько воодушевлённо, что члены комиссии, казалось, были загипнотизированы. Они даже слегка покачивались в такт его речи, как кобра покачивается под дудочку укротителя. Только бы не ужалили… Перспектива, пропорции, детали… Лишь ректор поднимал брови, складывал губы трубочкой и постукивал карандашом по табелю.
Кандидат рассказал о своих работах всё, что было можно, и даже больше, но, казалось, он не хотел заканчивать выступление. Он добавлял всё новых деталей, говорил о том, как можно дополнить эскизы, фантазировал, рассказывал, что хотел бы спроектировать, когда немного подучится, и ещё, и ещё… Но время методично и беспощадно перекладывало минуты, отведённые на доклад, с полки “будет” на полку “было”, приближая момент разочарования и огорчённых вздохов, которые непременно последуют после такого жаркого выступления, бессердечно перечёркнутого неумолимым прочерком в табеле.
– Что ж, достаточно, – наконец прервал выступающего один из экзаменаторов. – Вы неплохо справились. Посмотрим, что у вас по другим пунктам.
Кандидат, пожалуй, впервые выдал своё волнение, вскинув подбородок и слишком энергично одёрнув полу пиджака. Оторвавшаяся пуговица бряцнула и, нервно дребезжа, покатилась по паркетному полу.
– Душно, не находите? – поднялся, скрипнув стулом, ректор. Комиссия почтительно закивала, а сидевший ближе всех к окну преподаватель поспешил распахнуть раму, впуская в кабинет бодрящий осенний воздух.
Пёстрый кленовый вальс ворвался в аудиторию вместе с зябкой свежестью и завертелся, печатая мокрые па на бумагах, разбрасывая их по столу, сдувая в озорстве на пол. Где-то громыхнуло.
– Гром в сентябре! – засуетились экзаменаторы, вскакивая со стульев, позабыв о солидности процедуры, и выглядывая в разинутое окно. Только ректор, сохранив свою степенность, неспешно собрал разлетевшиеся листы и сложил их аккуратной стопочкой на стол.
– Гром в сентябре, – задумчиво повторил он, постукивая карандашом по табелю со столбцом ровных, без единого минуса, плюсиков под заголовком «Аттестат».
Так могло случиться… И мир был бы богаче на одного талантливого архитектора, на несколько десятков архитектурных шедевров и на миллионы судеб и жизней, которые были загублены человеком, потерявшим свою мечту.
Осенняя лихорадка
– Готовьте смирительную рубашку и капсулу. Быстро! Ещё один резистентный к вакцине!
По коридору загрохотала металлическая каталка, на которой везли, придерживая за руки и ноги, очередного пациента с приступом. Глаза его горели каким-то потусторонним огнём, щёки пылали, а через рот птицами вырывались на свободу из тесной грудной клетки слова:
«И не встретиться небу с землей никогда!
Между ними из камня стоят города»!
Доктор в голубом халате, таких же голубых штанах и почему-то зелёной шапочке подбежал к каталке, запрокинул голову пациента, сжал его челюсть и заклеил рот пластырем. Слова сначала пытались прорваться через липкую преграду, с клёкотом и мычанием выталкивали воздух через нос, затем забились в груди, изворачивая тело судорожными рывками, а потом внезапно успокоились, улеглись, затихли. Пациент прикрыл глаза и задышал глубоко и ровно.
– Капсульная инъекция подействовала, – пробормотал врач, вытирая лоб рукавом. – Катите его в шестую. Там художник. К музыканту нельзя – песни писать станут. Тогда всё насмарку.
Каталку покатили дальше, а доктор, втянув голову в плечи, побрёл в ординаторскую.
«Пока соловушка свистит, соха не пашет, а стоит», «Стране нужна сила трудящихся рук, у нас же одни гитаристы вокруг», «Важному делу себя посвящай, а песни и пляски врагу оставляй». Это были лозунги, украшавшие фасады зданий лет семьдесят назад. Комитету нужны были работники, безропотные трудяги, готовые вкалывать 24/7. Искусство представлялось никчёмным барахлом. Вдохновение приравнивалось к психическому расстройству, а “больные” отправлялись в специальные лечебницы. Им кололи капсульные инъекции, подавляющие творческие порывы, которые, по мнению Комитета, мешали налаженному ритму производства. Массовые обострения наблюдались по осени, тогда же и проводились регулярные лечебные мероприятия.
Но очень скоро стало понятно, что насилие – не самый лучший метод. Он провоцировал недовольства и сопротивление. Так и до революции недалеко. Тогда на смену ежегодным капсулам изобрели вакцину, которую кололи единожды. Её добавили в график обязательных прививок. Официально она была направлена на формирование устойчивого иммунитета ко всем самым распространённым видам вирусов. На деле же люди болели ненамного меньше, но были явно спокойнее, уравновешеннее и трудолюбивее. Им нравилось много работать, оставаясь на производстве допоздна. Им нравилось зарабатывать деньги и тратить их на удобную для работы одежду, на новенькие телефоны (нужные для работы) и автомобили (чтобы ездить на работу). Любая же мысль о творчестве, будь то писательство, музицирование или рисование, влекла за собой душевные переживания, связанные с собственной несостоятельностью, неполноценностью, с несовершенством. А свои творения казались бездарными, недостойными того, чтобы их можно было хоть кому-нибудь показать, вызывали раздражение и желание спрятать их подальше или вовсе уничтожить. Это чувство собственной ущербности отбивало всякое желание совершать очередные акты творчества. Таким образом, необходимость в насильственных методах постепенно уходила в прошлое, а люди сами отказывались от попыток писать стихи, песни или картины и добровольно становились эффективными тружениками и полезными производственными единицами.
Завершив вечерний обход, доктор переключил свет в коридоре на дежурный, задвинул шторы в ординаторской и трясущейся рукой повернул ключ в замке кабинета. Через пару часов белый лист, освещённый круглой настольной лампой, покрылся ровными строчками, написанными твёрдым, слишком разборчивым для работника медучреждения почерком. Лицо доктора сияло, глаза сверкали бешеным огнём – таким же, как у утреннего пациента. Врач перечитывал свои записи, подпрыгивая на стуле и выразительно тряся головой. В отдельных местах он останавливался, вскакивал со стула и ходил по комнате, размахивая рукой и беззвучно зачитывая отрывки несуществующим слушателям. Заканчивал, ложился на кушетку, лежал пару минут, но затем снова вскакивал и ходил по кабинету кругами, широко жестикулируя и молча, одними губами декламируя написанное. И так почти до самого утра. Как только стрелка часов приблизилась к отметке “четыре”, он вздохнул, свернул бумагу несколько раз, погладил листок пальцами, прижал его к груди, постоял так некоторое время, закрыв глаза и улыбаясь, а затем вынул из кармана зажигалку и поджёг рукопись над раковиной.
В коридорах пока тишина. Только вода капает из крана в душевой. Доктор посмотрел на своё отражение в стеклянной двери процедурного кабинета, ещё раз прислушался, поправил шапочку и пошёл в помещение, где стояло три стеклянных шкафа со свежим препаратом. Резистентность к вакцине требовала старых капсульных методов блокировки вдохновения. И доктору, как и тем, кто попадал в его стационар, каждой осенью приходилось проходить новый курс уколов. А потом целый год снова ждать. Следующей осени. Той одной единственной ночи, которую он тайком разрешал себе раз в год, аккуратно вписывая в свою медкарту правильную дату введения первой инъекции.
О вечном
– Ваша очередь, Стивен, – приглашение прозвучало чётко и категорично, с отзвуком металлического эха.
Худощавый седой мужчина с пронзительным взглядом и статной внешностью пожилого киноактёра поднялся с неудобного металлического стула, поправил узкие очки в тонкой оправе и, опираясь на трость, неспешно подошёл к стойке Счётчика.
– У вас накоплены сотни лет, Стивен. Это не часы и не дни. Это даже не годы, – металлический голос теперь звучал приглушённо, пытаясь быть проникновенно убедительным. – Это века! Вам хватит на несколько жизней. Может, отдохнёте? Сделаете паузу, отправитесь в путешествие…
– Не могу, – развёл руками мужчина.
– Это самый удивительный случай за всю историю творческих накоплений, – Счётчик поднял брови и задумчиво почесал лысеющий затылок.
– Я не специально, – пожал плечами Стивен.
– Вас ежедневно читают сотни тысяч людей на разных языках. Каждая минута их жизни, потраченная на чтение вашего очередного романа, аккуратно ложится на ваш счёт. Вот она, статистика, смотрите, – на стол упала толстая кипа листов, испещрённых именами и цифрами, – И это только за вчерашний день.
– Стивен задумчиво почесал подбородок рукоятью трости и уставился в окно.
– Послушайте, у вас ещё с предыдущего воплощения продолжает накапливаться время. Вы очень ловко переродились в 1947 году. Но горные пейзажи Николая Константиновича до сих пор рассматривают часами, пополняя ваш счёт. И там уже выслуга! За каждую минуту, проведённую ценителем у картины, вам перечисляют две. Да вам можно несколько раз подряд перерождаться в каких-нибудь бездельников и просто наслаждаться праздной жизнью, расходуя накопленное. А вы пишете, и пишете, и пишете, – задребезжал голос Счётчика.
– Нет, – раздраженно блеснул очками писатель, – я с 1791 по 1874 мотался между мирами без воплощения. Мне того безделья хватит на долгие жизни вперёд. Нет! – нетерпеливый удар тростью по гладко отполированному паркету поставил точку в их беседе.
– Да уж, – вздохнул Счётчик, растеряв всю свою звонкую убедительность, – подумать только… Идите, Стивен. Он же Николай Константинович, он же Вольфганг Амадей и бог весть, кем вы там ещё были и будете… Вы непоправимы. Ваше время – Вечность.
Отдушина
Ровные стежки ложились на плотную накрахмаленную канву косыми яркими полосками. Пять маленьких светло-зелёных диагоналей вправо, а затем – пять с другим наклоном, обратно, поверх тех, чтобы завершить ряд крестиков в верхней части живописной лужайки, усыпанной разноцветием полевых трав. Здесь и лиловые колокольчики, и солнечные одуванчики, и белоснежные ромашки. Ещё немного, и появится кромка леса, который со временем возвысится до самых облаков, постепенно вырастая из бурых штрихов, символизирующих стволы, до тёмной зелени пышных летних крон, упирающихся в высокую небесную синь.
⠀Иван Степанович Гуттенберг аккуратно закрепил хвостик нити на идеальной изнанке без единого узелка и протяжек, воткнул иглу в краешек полотна, отстранил картину вбок и залюбовался.
⠀Резкий телефонный звонок вырвал Ивана Степановича из отрешённого умиротворения. Он отложил пяльца в сторону, поднялся, покряхтывая, дошёл до стола и снял трубку, отшвырнув в сторону карандаш, застывший на самом краешке стола.
⠀– Ну, что там ещё? Соединяй давай. Алло… Слушаю! Да говори уже по делу, что ты мямлишь?! Какая труба? Сколько? Семь на восемь? И что? А винт подкрутить? Подкрутили… Куда подкрутили? Там тянуть надо было, тюлени безмозглые, тянуть сначала на себя и вправо, а потом довинчивать! Почему я вас этому учить должен? У вас что, некому там нормальный инструктаж провести? А ты на что? Ну, дальше, не мямли давай… Упала? Куда упала? В скважину? Да вы совсем офонарели, придурки недоделанные, идиоты тупорылые, козлы безрукие! Выезжаю! Готовьте задницы, солдатским ремнём с пряжкой люминевой драть буду!
⠀Иван Степанович Гуттенберг бросил трубку на рычажки, промахнулся, схватил её снова, грохнул на обиженно звякнувший телефон, вцепился во взъерошенную седину и стоял так минуты две, отдуваясь и постепенно меняя сизый багрянец, вспыхнувший на полноватых отвисших щеках, на более ровный, розоватый перламутр. Вдохнул глубоко три раза, шумно выпуская воздух через сложенные в трубочку губы. Подошёл к креслу, где совсем недавно сидел в безмятежном спокойствии. Взял пяльца. Глаза потеплели. Провёл бережно грубыми мозолистыми пальцами по шершавой поверхности нарождающегося великолепия. Улыбнулся. Посветлел лицом. Успокоился и засобирался неторопливо, тщательно расправляя воротничок рубашки и подтягивая алюминиевую пряжку ремня, спрятав картинку с нитками в нижний шкафчик неуклюже-массивной кабинетной тумбы.
⠀А всё потому, что должна быть у человека с такой сложной работой какая-то своя, личная отдушина. Знать о которой тюленям безмозглым и козлам безруким совсем не обязательно.
Полёт
– Вам как, с экстримом или красоту посмотреть?
– Даже не знаю, – растерялась я.
– Тогда всего понемногу, – принял за меня решение инструктор, и я сразу ему поверила.
Мотодельтаплан напоминает мотоцикл. Только с крыльями. Большая механическая птица, управляемая отважным сердцем. А о том, что у моего инструктора сердце именно такое, я подумала сразу, как только его увидела. Обветренное и обожжённое солнцем лицо, железная решительность в голосе и невероятно спокойные с задорной искоркой глаза.
Я разместилась в узком кресле и натянула шлем.
– Обязательно опустите защитное стекло. Иначе из-за ветра побегут слёзы, и вы ничего не увидите.
Завёлся мотор, и машина медленно покатилась к обрыву. Страшно не было. Было жутко любопытно. А сердце трепетало от предвкушения красоты и экстрима. Я думала, что мотодельтаплан отрывается от земли, как самолёт, разогнавшись до нужной скорости. Но всё оказалось не так. Он просто сорвался в пропасть. И тут же воспарил, поймав крыльями восходящие потоки воздуха. Переход от качения к полёту был неожиданным. Но мой вестибулярный аппарат был с детства закалён бесконечными качелями и кружением на одном месте. Так что оставалось замирать от восторга и смотреть во все глаза, чтобы не упустить ни одной секунды, ни мельчайшей подробности этого Полёта! Земля, похожая на карту, искрящаяся рябь солнечных бликов на поверхности Чёрного моря и бесконечное чувство свободы!
Инструктор махнул рукой куда-то влево, и через рёв мотора и шум ветра я едва расслышала слова: “Азовское море”. Сюрпризов было больше, чем я могла предположить. Мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь смогу увидеть эти два моря одновременно!
И вдруг – тишина. Звук двигателя исчез. Вряд ли это была отвага. Скорее, безрассудство и переполненность положительными эмоциями. Но всё, что я тогда подумала, было удивительно спокойное: “Этот сможет посадить машину, планируя на крыльях”. Несколько секунд свободного падения, чувство невесомости, крутой вираж – и двигатель снова заурчал свою монотонную песню. Вот он, кусочек экстрима!
Когда мы благополучно приземлились, в голове вертелась мысль: “Неужели полчаса так быстро закончились”? Покряхтывающая и дребезжащая “шестёрка” везла меня обратно в Коктебель. Я молча смотрела в окно, не реагируя на вопросы водителя. Я всё летела, летела, летела…
Волшебный шар
– Пап, а почему на нашей ёлке так мало шариков? – спросил Николай Николаевич младший отца, разглядывая, тот самый шар, который всегда привлекал его внимание больше остальных. Он не был самым большим или ярким, но определённо обладал какой-то притягательной силой. Его голубоватая с зелёными и белыми разводами поверхность, казалось, жила своей жизнью. И будто даже менялась, то темнея, то обретая более светлые оттенки. Этот шарик был великолепен.
– Когда я был маленьким, сынок, мой папа, а твой – дедушка…
– Которого тоже звали Николаем?
– Да.
– Который тоже был Николаевичем?
– Он самый. Так вот. Он всегда говорил, что самое главное – бережно хранить то, что мы имеем: ухаживать за каждым шариком так, чтобы ни один из них не треснул, не потерял свой цвет и ни в коем случае не разбился. И несмотря на то, что их всего восемь, они прелестны, каждый из них важен, и все они связаны друг с другом. И конечно, очень важно ухаживать за звездой на макушке ёлки. Она всегда должна быть протёрта от пыли и сиять ярче яркого.
– Пап, а можно я сегодня совсем не лягу спать? Вдруг мне удастся увидеть Деда Мороза, когда он будет класть подарки под ёлку?
– Можно. Но Деда Мороза ты сегодня не увидишь.
– Почему?
– Потому что сегодня ты отправишься со мной. Хочу показать тебе кое-что. Да и пора начинать твоё обучение. Я же когда-нибудь должен буду отдать нашу дивную ёлку со всеми её шариками и звездой под твоё шефство.
Коля нервничал весь день. Он уже не переживал из-за того, что опять не встретится с Дедом Морозом и почти забыл про подарки. А всё время думал о том, куда же поведёт его папа. И ещё о том, какую огромную ответственность он когда-нибудь на него возложит. И как бы оправдать это доверие.
***
С раскрасневшимися от мороза щеками и счастливой улыбкой, растянутой почти до самых ушей, Николай сбросил пустой мешок с плеча и поставил валенки к стене.
– Пап, вот это путешествие! И как же она прекрасна! Почти такая же, как и наша, но совсем другая. Белый снег, зелёные ёлки, голубая вода и небо… Пап, послушай, а если мы сами… То кто же…
– Иди смотреть подарки, сынок! Я думаю, у нашего Деда Мороза бесподобная ёлка. Ты только представь: три наших Центавры на трёх макушках!
Убеждения
– Ты уверена? – прогремело откуда-то из-за спины.
Она резко обернулась, но увидела лишь движение шторы. Сквозняк.
– Убеждена! – ответила она, дерзко вскинув подбородок и тряхнув каштановой россыпью завитков.
– Кем? – едва слышный шелест рассыпающихся страниц древнего манускрипта.
– Что? – не поняла она.
И тут комната поплыла, пол качнулся, изменив угол наклона настолько, что она беспомощно замахала руками в надежде найти хоть какую-нибудь опору. Все стало таким ярким, что пришлось зажмуриться. Воздух казался густым и тягучим, и для того, чтобы получить очередную порцию кислорода, приходилось вдыхать полной грудью, но и этого было мало. И этот странный колокольчик, весёлый звон которого казался неуместным, не вписывающимся в ситуацию, и оттого раздражающим.
– БЕ-ГИ! БЕ-ГИ! БЕ-ГИ!
Она едва разлепила веки и тут же почувствовала толчок в спину.
– Беги, тебе говорят!
И она побежала.
Это был длинный круглый коридор с гладкими ярко-красными стенами со встроенными прожекторами. Они неприятно светили в глаза и мешали сосредоточиться на движении. Коридор был не просто длинным, он казался бесконечным. Этакий слепящий тоннель, в конце которого – неизвестность. Но незримая толпа продолжала угрожающе скандировать: «БЕ-ГИ! БЕ-ГИ! БЕ-ГИ!» Она и сама чувствовала, что останавливаться нельзя. Казалось, остановись, и стены сомкнутся, и те, чьи подгоняющие голоса то ли доносятся из скрытых динамиков, то ли звучат прямо в голове, накроют волной и разорвут на атомы. И она бежала. Бежала в никуда. Бежала, что было силы. Бежала, пока не почувствовала, как сердце зашлось в бешеном ритме, пропуская удары и срываясь в пропасть. Пока пересохшее горло не стянуло терновым ошейником. Пока из головы не исчезли все мысли, кроме одной: ЗАЧЕМ? Она остановилась.
– Зачем? – и этот вопрос, который она едва вымолвила дрожащим, почти неслышным шепотом, заглушил гремящее эхо призрачных болельщиков. Колокольчик тоже замолчал. Она немного отдышалась, откинула со лба мокрую прядь и развернулась. Шаг. И почему раньше не пришла в голову мысль посмотреть, что в противоположном конце тоннеля? Еще один шаг. Какое-то едва уловимое движение впереди. Еще несколько шагов вперед. Размытое пятно, выплывающее из темноты, приобрело более четкие очертания и протянуло руку:
– Ну, здравствуй.
– Это же… Я…
Она обнаружила, что сидит на полу своей комнаты, прислонившись к стене. И уже хорошо знакомый голос пролетел где-то под потолком:
– Убеждена?
– Нет. – спокойная уверенность, – Убедилась.




