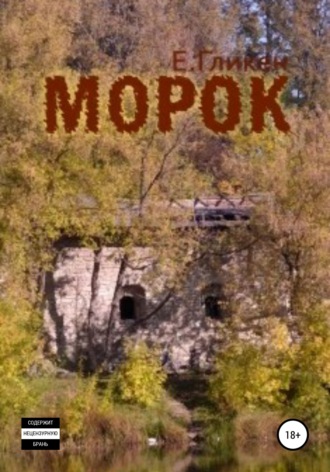
Екатерина Константиновна Гликен
Морок
***
Жизнь коротка, глупа и нелепа. Впрочем, поживи человек чуть подольше, возможно, он смог бы отыскать во всей этой суете и страданиях какой-нибудь смысл. Стоит только так подумать, как вот уже через пять, двадцать, даже тысячу лет… жизнь всё так же глупа, смешна и нелепа.
***
Лошадь мерно ступала, ритмично кланяясь на каждом шагу и пытаясь выплюнуть донельзя надоевшую уздечку, застрявшую в зубах, кажется, навечно.
Казимир мельтешил рядом, мучаясь с каждым движением от адова огня, охватившего с утра его бедра и ягодицы. Край парчового желтого плаща волочился следом за ним по болотным кочкам, поблескивая золотыми узорами и ныряя в хлюпающие лужицы грязной жижи. Вчера в маленькой деревеньке он имел постыдный опыт езды верхом в чем мать родила. Без седла и без штанов. Как был гарцевал.
Понесло черта вспоминать молодецкую удаль. В крайнем доме сверкнули два черных раскосых глаза в окне, и старого дурака понесло.
«Ничего, до своих дойдёшь, расскажешь, мол о-го-го ещё дед-то», – заискивающе сказал ему на дорогу трактирщик, чтоб его язва взяла.
– Черт бы побрал эту мокрую стервь, – набожно крестясь, стонал Казимир. – Ты, щенок, считай, что тебе очень повезло, что ты сдохнешь раньше, чем узнаешь, что такое баба.
Иннокентий, к которому обращался Казимир, плелся сзади, догоняя всем своим долговязым телом кобылий зад, вытянув шею, на которую была накинута грубая петля конопляной веревки. Он был молод и дерзок. Даже сейчас, будучи захваченным в плен, превозмогая боль стоптанных до крови ног в кожаных скользких сапогах, благодаря которым он не раз уже падал и ехал на пузе за казимировой лошадью, и даже сейчас он воинственно хмурил брови и метал из-под них злобные кинжалы гнева в старика.
Во всяком случае, ему казалось, что злобные.
Ни один из них не долетел до старого Казимира. Он, хоть и бил врагов нещадно везде и всегда, но к мальцу привязался. Пухлые губы, почти девичьи, светлые вьющиеся волосы до плеч, большие глаза… Казимиру все представлялось, что с этакими-то данными, вьюнош должен портить деревенских девок, а не воевать.
Казимир усмехнулся в усы:
– Ишь, какой грозный, зыркает, как котенок тот давеча, ух боюсь, проткнешь бровями-то, эка насупил, того и гляди забодаешь.
И Казимир засмеялся своей веселой шутке хриплым каркающим смехом старой вороны.
Иннокентий страдал. Более, чем физическая, эта, эмоциональная боль, это унижение, эта жалость старого Казимира пробирала его до печенок. Старый ряженый петух в желтой накидке, ковыляющий еле-еле, как он подло, как предательски схватил его.
Иннокентий был одним из немногих в деревне, кто был принят в ряды защитников и прошел весь курс обучения. Матушка днями и ночами напролет, не жалея старых глаз своих, вышивала рушники и подолы платьев, чтобы накопить деньжат на кузнеца. На доспехи собрать денег семье было невозможно. Но меч! Настоящий стальной меч, тяжелый, двуручный, хоть и с самым простеньким эфесом, у Иннокентия появился. Матушка плакала, когда увидала его одетого по всей форме, поднявшего к небу острие оружия. Соседские тетушки кудахтали и умилялись. Лея, опустив голову, глядела исподлобья, и в глазах ее читались и гордость за него, и страх, что важный такой теперь молодец не позарится на нее, и злость, что рвется он куда-то вместо того, чтоб помогать ей сматывать нити шерсти с веретена.
С детства он жаждал боя. Настоящего, честного поединка с врагом, глаза в глаза. Он представлял себе, как умрет от руки более опытного противника. И как воин, превосходящий его в силе и опыте, повергнувший однажды его, склонит голову в дань уважения молодому Иннокентию, который так храбро и мужественно сражался.
Порой, представляя это, Иннокентий мог так расчувствоваться, что из глаз его сами по себе текли слезы, слезы жалости к себе, такому юному и отважному и так рано ушедшему. У него было несколько фраз на случай, если он успеет перед смертью что-то передать родным и близким. Все они не были достаточно хороши, но все же, окажись он в смертельно опасной опасности, ему было бы что сказать этому миру на прощание. Одна из фраз была удивительно прекрасна, она была ритмична и музыкальна, ее он с удовольствием бы завещал встречному барду, чтобы тому было легче сложить песню о славных боях.
Как мерзко, как подло поймала его эта ряженая старая ворона, падкая на все блестящее, звенящая серьгой в ухе, бряцающая перстнями, вся утыканная золотыми пряжками. Не воин, а торговец. Грязный подлый выжига, вечно воняющий луком и водкой, как вор подкрался сзади и набросил на него мешок. И всё. Всё! Никакого благородства. Эта старая сволочь, если была бы в нем хоть капля чести стал бы драться с ним, один на один! Вместо этого он накинул мешок, сзади, втихую.
Иннокентий презирал Казимира, презирал несправедливый мир, презирал болотные кочки, о которые спотыкался, плетясь на веревке за лошадью, не в силах больше укорять самого себя за собственную оплошность, по которой оказался в плену.
Тем временем они вышли на распадок, Казимир остановился. Кобыла его, зная все повадки хозяина стала, как вкопанная, тут же. На болотах было тихо: ни птиц не слыхать, ни жужжания комаров.
– Здесь и заночуем, – сказал Казимир, с кряхтением старой курицы сгибая колени и плюхаясь набок для ночлега.
Есть было нечего. Никакого зверья на болотах и в помине не было.
Казимир отвернулся и тут же захрапел. А Иннокентий долго еще ворочался, руки затекли в петле, шея ныла, а главное, мысли роились в его голове в превеликом множестве. То он представлял, как оплакивает его матушка, то строил план побега, то пытался разгадать, зачем старый черт волочет его за собой по болоту.
Иногда на память ему приходили стародавние рассказы матушки об этих топях. Будто бы был на этом самом месте замок. И не просто, а богатейший, так как стоял аккурат на тракте, через который шли торговые пути из Низин на Взгорья. Почему теперь здесь топь, Иннокентий не знал. А спросить было не у кого. С подлым Казимиром говорить не хотелось вовсе.
Сон понемногу начал наваливаться тяжестью на веки. Сквозь прикрытые глаза он видел размытые серые контуры мелких кустов, видел, как отражается луна в окнах болота, видел серые клубы тумана, волной накатывающиеся с запада. Что-то было такое в этом тумане… Он не был похож на ту дымку, которая поднималась рано утром от реки вблизи его деревни. Дымка стояла над водной гладью, не двигаясь, рвалась на клочья, когда случалось подуть ветру. Здешний туман был плотнее, и, что казалось странным, двигался, переходил с места на место, приближаясь к их распадку.
Иннокентий решил, что таковы все туманы здесь, однако мелкая дрожь схватила его тело, зубы начали стучать. Вовсе не от страха, а от…, от…, непонятно от чего. Он взглянул на сопящего невдалеке Казимира. Тот спал как святой. Туман приближался. Иннокентий захотел закричать, убежать, непонятно, почему. Казалось, уши оглохли и сердце остановилось, а мысль была только одна – бежать, как зверье бежит из горящего леса, не разбирая дороги, лишь бы прочь.
– Казимир! – крикнул Иннокентий.
На самом деле, он хотел крикнуть, но только слабо прохрипел что-то невнятное. Голос, и тот был не в его власти.
Старому вояке было достаточно и этого. Казимир резко вскочил на ноги, и в один прыжок оказался рядом с мальцом. То, что увидел Иннокентий заставило забыть его свой прежний страх от тумана. Глаза Казимира полыхнули ярким красным светом, а из самого нутра его вырвался, хотя и приглушенный, но довольно зловещий рык.
Иннокентий перестал дрожать, вместо этого он теперь пронзительно икал, да так сильно, что, казалось, при каждом новом толчке воздуха из желудка его тело подбрасывало на пару метров от земли. Бежать было никак не возможно, все, что оставалось – зажмуриться.
Открыл глаза он тогда, когда почувствовал, что по волосам и за ухом его треплет чья-то рука. Над ним, опершись одной рукой на колено, а второй трепля по его волосам, стоял Казимир.
– Спужался, малой? Чего сполошился-то? Приснилось что?
– Т-туман, – в перерыве между пиками икоты выпалил Иннокентий?
– И что туман? Не видел туману раньше? – ласково спросил Казимир.
Иннокентий обмяк и обрел дар речи:
– Так то туман какой, наш-то туман все на месте стоит, а этот ходит, будто высматривает что-то, будто живой он, туман этот. Идет на меня, ближе всё, ближе, ближе…
Казимир разогнулся, потянулся, хрустнув затекшими руками, зевнул и уже без всяких эмоций продолжил:
– Ну и что? Это ж ведь туман просто. Даже если ближе подойдет, воздух – и только.
–Нет, в этом воздухе что-то было… – медленно проговорил Иннокентий, втайне надеясь, что Казимир скажет, что там, в тумане быть ничего не могло, кроме ветра. Чтобы окончательно успокоиться, Иннокентию достаточно было простого этого предложения.
– Ну и что, что было? Тут и там, и за горой, и в Низинах, везде что-нибудь да есть. Что ж теперь? Всех пугаться? Наоборот, то оно и славно, что везде-то в мире что-то есть, а значит, ты не один. Ты представь, ну, как ты один остался… Во-от, это-то страшней всего.
Иннокентий замолчал, решив больше ни слова не говорить Казимиру, обидно было, что этот старый дурак мало того, украл его, как курёнка несмышленого, со спины, без боя, а теперь еще и потешается над ним. Стыдно было за себя быть таким нюней. Однако, любопытство взяло верх:
– А что там? Что в тумане?
– Шишиги.
– Шишиги? Что это, шишиги?
– Да ничто, воздух поплотнее чем обычно.
– А зачем пришли?
– Ну даешь, ты, когда в своей деревне сидишь, а по главной дороге через всю деревню путник чешет, ты что ж делать будешь? В окно выглянешь да навстречу ему сходишь, посмотришь, что он такое. Так и они. Мы по их землям топаем, они смотрят, что да как, люди, звери ли. Хороши ли, разбойники ли. Интересуются.
– А если разбойники, то что?
– Золото покажут, смехом бабьим заманят, да в прореху-то водную и завлекут. А там поминай как звали.
Иннокентий снова начал дрожать.
– Да не дрожи ты, ты мал еще, дурного в жизни не успел наделать, ты им без надобности. Меня… Меня могут. Да только я черт старый, бывалый. Спать ложись, завтра поутру пойдем, так солнце до середины неба не доберется, а мы уж в деревне будем.
Казимир подошел к Иннокентию и впервые за три дня их знакомства развязал ему руки и скинул петлю с шеи. Больше сторожить Иннокентия было не надо, малец славно напугался, никуда не уйдет.
– Да вот еще, – укладываясь, сказал Казимир. – Коли утром встанешь, а меня нет, беги быстро, только так, чтоб солнце глаза слепило, прямо ему навстречу.
– А почему тебя утром нет?
– Шишиги ж, приходили, по мою душу, стало быть.
– Так давай дежурить, по полночи не спать…
Но Казимир уже примостился на боку и храпел. Хитрый старый лис знал, что хорошенько напугал мальца, и тот будет до утра сидеть, не сомкнув глаз, защищая своего врага Казимира, как родного. И не ошибся.
Всю ночь Иннокентий крутил да вертел в голове то, что видел. Что за шишиги. Почему зарычал Казимир. Ну с ним-то было более-менее все понятно, со страху рык привиделся, а так, потроха урчали, голодные ж идут который день. А красный свет – да кто его знает, привиделось. Чепуха с голодухи перед глазами кривляется. А вот шишиги! Эти твари не давали покоя уму.
Зачем надо кому-то путников завлекать да топить, на всех ли болотах живут шишиги. А главное, какие они? Иннокентию представились образы, завернутые в саваны, плавно летящие по воздуху… И тут он вскочил, поняв, что за раздумьями заснул, сморил его чертов сон. Солнце уже поднималось над топью, кобыла старика стояла рядом, а вот самого старика не было…
«Беги быстро», – вспомнились Иннокентию слова Казимира. Еще минуту он постоял, думая, надо ли брать с собой лошадь в побег, и вдруг помчался, крича и размахивая руками, не разбирая, куда ступают ноги, совершенно забыв об осторожности, не боясь пропасть в трясине.
Сильный удар в ухо сшиб его с ног. Мир пропал, вместо него поплыли перед глазами картины пляшущих девок на праздник первого снопа. «Вот они, шишиги!» – приходя понемногу в себя, думал Иннокентий. Догадку подтверждало ощущение, что его куда-то волокут, ухватив за правую ногу. Он попытался напоследок хотя бы глянуть, какие они, шишиги, но боль в голове была настолько сильна, что он не смог и глаз открыть, только застонал.
–Ну, пришел в себя что ли? – раздался сверху голос Казимира.
Еще через секунду Иннокентий приоткрыл один глаз и увидел своего пленителя. Вид тот имел самый злобный и недовольный, вдобавок штаны его были как-то недвусмысленно мокры, а желтая парчовая накидка изгажена чем-то нехорошим.
– Я только проснулся, в кусты отошел, расслабился… Гляжу ты через лес чешешь, как мельница руками машешь, того гляди взлетишь, надо было ловить. Вот помчался тебя ловить руками, а все остальное в штаны поймал, будь ты, мерзкий сморчок, неладен! – немного погодя, уже со смехом, объяснил Казимир.
Иннокентий хотел было объяснить, как он всю ночь не спал, как караулил, как сморил под утро его сон, как он проснулся и решил, что Казимира забрали шишиги, и как побежал скорее от того места, где ходила нечистая, но вместо всего этого только представил себя оруще-бегущего на болотах и сначала тихонько засмеялся, делая вид, что покашливает, но смех разбирал изнутри, раздвигая ребра, и он не смог удержаться и загоготал во весь голос. Старая ворона в мокрых штанах забасил рядом.
Иннокентий смеялся до боли в животе, поглядывая на Казимира и чувствуя, что этот старик, разодетый как княжна на выданье, чем-то нравился ему, чем – непонятно, но как будто они стали ближе.
– А ты, дядь, тот еще за***нец, оказывается, – сквозь смех проговорил Иннокентий.
– А ты б себя видел, – утирая слезы смеха отозвался Казимир.
Немного погодя, отсмеявшись, они продолжили свой поход.
– А как придем в деревню, что там будем делать, – спросил окончательно расслабившийся Иннокентий.
Теперь он шел рядом с Казимиром, и старик вернул ему его меч. Какое-то теплое чувство родилось в груди Иннокентия по отношению к старшему товарищу. Уж и не таким подлым казался его поступок. А как иначе? В том и сила старого воина, что не все надо кровью добывать, ум на то и дан человеку, и смекалка для того и есть, чтобы меньше крови пролить. Кому нужна кровь? Это ему, молодому, виделись сражения, а мудрая старость жизни бережет.
– Да дело у меня там, малой. Дело есть, понимаешь, обещал я им кой-чего.
– А когда дело сделаешь, куда пойдем?
– Куда пойдем? – задумчиво протянул Казимир. – Ох, малой, мало ли мест на земле, куда пойти. Тебе-то что за дело. Идешь и иди. Дела они разные ж бывают.
– Но ведь ты военный, ты ж биться с врагами пойдешь?
– А что ж, и с врагами биться пойду.
– Возьми и меня с собой! – Иннокентий забежал вперед старика, являя себя во всей красе. – Мне страсть охота и мир повидать, и военному делу научиться. А ты человек опытный. Возьми меня в ученики!
Казимир как-то грустно ухмыльнулся:
– Отчего не взять. Можно взять.
По всему стало видно, гложет Казимира какая-то тоска. Иннокентий не стал расспрашивать, пока ноги шли, голова его путалась в мыслях о том, как будут они со стариком биться с врагами, как научит его всему вояка, как однажды он, Иннокентий, похоронит его с почестями у дороги, поставив на могилу огромный валун, как вернется к матушке истинным героем, как расскажет Лее, как ему повезло встретить опытного воина, и какой могучий да умный сам он стал теперь.
Незаметно за дорогой вышли они к деревне.
Старый корчмарь встретил Казимира как давнего друга, хлопая того по плечу. Они обменялись хитрыми взглядами.
– Он? – спросил корчмарь.
Казимир кивнул.
Все вошли в дом. Стол для них был уже накрыт. Дымящаяся похлебка в глиняных горшочках, два кувшина молока, баранья нога…
Иннокентию было приятно, что его новый друг такой важный человек, которого везде принимают как своего. Это придавало весу и самому юноше.
– Сходи, малец, скажи Аксинье, чтоб хлеба дала и вина…
Иннокентий направился к низкозадой хозяйке.
Корчмарь разместился на лавке рядом с Казимиром.
– Ты только быстро его кончи, не мучь долго – сказал Казимир, принимая от корчмаря маленький тугой платяной мешочек. – В душу он мне запал, понимаешь…
Корчмарь кивнул.
***
Закатные лучи солнца играли разными цветами оконной мозаики, подсвечивая непонятно как уцелевший сюжет истории, в котором Светозара Могущественная, стоя в узкой бойнице Длинного Варфоломея, воздев кверху белые руки, молит небеса о дожде, чтобы спасти Край от засухи, продолжавшейся третий год.
Королева Евтельмина Прекрасная уныло ковыряла серебряной вилкой в зубах, разглядывая витраж пиршественной залы. С тех пор как Светозара Могущественная бесславно опозорила магическое искусство, в Краю не осталось ни одного человека, обладающего хоть сколько-нибудь способностями, отличающимися от махания кайлом или топором. Каждый взмах руки, не обреченный инструментом сельскохозяйственной направленности, вызывал опасения и навлекал смерть. Бабка Евтельмины Прекрасной, Кларисса Мудрая, велела сначала обезглавить Светозару Могущественную, лучшую свою подругу, а затем истребила всех волшебников в округе, пытаясь снять с себя гнев народный, который возрастал пропорциональному тому, как быстро высыхали поля в Краю от палящих лучей солнца. Не сделай этого Кларисса Мудрая, крестьяне обрушили бы свое негодование на королевский дворец, погрязший в жирной копченой свинине и пороках, заселенный друзьями, родственниками и случайными знакомыми всех мастей, огруженных орденами и званиями.
После провальных реформ Клариссы Мудрой, в результате которых все бездари и подлизы Края, собрались во дворец, решение подставить магов было единственным мудрым решением. Однако, сейчас, через 50 лет после всех событий, во дворце стало невыносимо скучно: даже простейшие фокусы были под запретом. Чирий, вскочивший третьего дня на королевском седалище, – единственный, кто не давал заснуть в этом безжизненном месте, разбавленном тоскливой компанией инженера, фармацевта и дремучей королевской няньки, оставленной при дворе из милости к прошлым ее заслугам и сказкам, которыми, бывало, она баловала юную Евтельмину, пока королева-бабка предавалась возлияниям.
Нянька была дряхла и морщиниста, как старый башмак, лицо ее имело зеленоватый оттенок, она казалась покрытой той самой благородной патиной, какой были щедро одеты все лестницы и бюсты дворца. Старческие глазки производили такое неимоверное количество гнойных слез, что будь они хоть где-нибудь пригодны, скажем, в аптекарском деле, эта пифия могла бы открыть небольшой заводик по производству эликсира. К сожалению, все, что производила сушеная мойра, было абсолютно бесполезно. Всё, кроме одного.
Несмотря на крайнюю ветхость и совершенно гадкий вид няньки, память её была остра, как нож. При удачной активизации сознания старой клячи беззубый рот мог без устали в течение пары часов выдавать преданья старины настолько глубокой, настолько поэтичной и величественной, что королева, истосковавшаяся по чудесам, ни на минуту не отпускала старуху от себя и заботилась о ней лично, лучше и больше, чем о себе.
Да, конечно, в Краю после зачистки от магии начали развиваться науки. В основном, математика и статистика. Сначала посчитали всех особей мужеского пола в Краю, потом женского, потом принялись уточнять количество коров и свиней. Когда и это было сделано, вспомнили про курей. Дальше принялись делить людей на курей, и наоборот. Выяснили, что в Краю живут хорошо, так как на каждого человека пришлось по одной курице. На этом развитие науки застыло, и в обществе набрало популярность философствование, так как теперь необходимо было все же установить точную последовательность: одна курица на одного человека приходилась в Краю, или один человек на одну курицу. Находились смельчаки, которые утверждали, что в самом начале утверждения следовало бы ставить курицу. В ответ на это лояльные к власти мудрецы обвиняли сторонников радикальных суждений в том, что такое утверждение неизбежно производило Евтельмину в королеву курей. Философы окраин, выступавшие по преимуществу на площадях, возводили такие умозаключения в степень, вещая, что в указанном случае королева курей – сама кура… Пару философов сослали на дальние выселки, на том и с этим закончили.
Без магии в Краю было невыносимо скучно: без заговоров на полях не росли зерновые, без благословений и помощи высших сил не беременели бабы в деревнях, без нашептываний знахарей мужики спивались, без оберегов люди пропадали в лесах и на болотах…
Высокая словесность, необходимая при составлении заклинаний, была заброшена, барды вымерли от пьянки, а летописцы более упражнялись в рисовании заглавных букв, нежели в документальном отражении действительности, да и то: отражать-то было нечего.
Магия была жизненно необходима и совершенно невозможна. Указ Клариссы Мудрой действовал еще ближайшие 50 лет, его отмена сулила проклятием рода на 12 поколений, (пожалуй, это единственная оставшаяся магия в Краю). По этому указу до сих пор псы королевства рыскали по всем селам и весям, выискивая, выслушивая, вынюхивая все, что связано с волшебством: сплела ли бабка косу внучке кольцом в противоход солнцу, расшила ли мать подол девке на свадьбу красными крестами, шепнула ли молодая что-то за порогом дома в сторону от всех, – тут же являлись ловцы и хватали подозрительных, увозили к мясникам и терзали и мучали их, пока не бросали бескровных с белыми губами в колдовские колодцы с камнями в наскоро зашитых брюхах.
Евтельмина Прекрасная была страшна и бездетна. Собственно, и Прекрасной-то ее нарекли, оправдывая невозможность выдать замуж, говорили, настолько-де хороша, что претенденты на руку и сердце слепнут от великолепия. Исправить безобразие могла только магия, а она была под запретом. Евтельмина слишком боялась проклятия для своего рода, чтобы разрешить хоть одному колдуну приблизиться к себе, но годам к сорока поняла, что рода нет и не будет, и все чаще стала задумываться над способом нарушить бабкин указ. С каждым годом шансов нарушить его оставалось все меньше. Королевские псы усердно колесили по Краю в поисках ведьм и колдунов, корчмари, которыми стали отпущенные из тюрем убийцы на условии получения свободы за роль палача, самозабвенно пытали и уничтожали своих жертв.
Евтельмина поначалу стала бывать в пыточных подвалах, желая найти порядочную ведьму. Официально визиты наносились якобы с личным контролем преданности убийц-палачей. Зоркий взгляд королевы смотрел не на жертву, а на ее мучителей, пытаясь высмотреть хотя бы одного палача, делающего работу без искры и задора, готового вступить с ней в сговор по поиску и спасению носителей запрещенных знаний. В глазах истязателей она искала хоть каплю жалости к бабам в грязных передниках, плюющих зубами и кровью, хрипевших от боли и страха, согласных на все обвинения палача. Не было там жалости.
Зато теперь у Евтельмины была бессонница от вечных картин, встающих перед глазами, наполненных разбросанными зубами и ногтями, белеющими костями из раскрошенных пальцев, рваными мочками ушей и лужами скользкой жирной крови. Был удушающий тошнотворный запах, который не заглушить никакими духами, никаким луком или известью…
– Пошли вон! Все вон! – королева кинула серебряной вилкой в толпу танцующих.
Оркестр осекся всего на мгновение, свирель издала протяжный, удивленный звук. Но вскоре все продолжилось с тем же жаром и пылом, что и за секунду до паузы.
К выходкам стареющей безобразницы все давно привыкли
– Сударыня, Рогнеда скончалась, – склонился к Евтельмине долговязый математик.
Королева приняла скорбное выражение лица и уже приготовилась сказать традиционное «все мы смертны», но задумалась.
Сломанный в районе поясницы в форме прямого угла математик застыл над ней с приготовленным понимающим лицом.
– Кто такая Рогнеда? – медленно проговорила Евтельмина
– Нянька…
– Нянька сдохла хвост облез, – как-то машинально пропела королева…
***
Иннокентий спускался в сырость винного погреба, увлеченный мыслями о будущей славе, тщательно продумывая свое поведение в случае, если его объявят героем.
– Нет-нет, – милосердно говаривал он собравшейся толпе. – Ну что вы, – тихонько смеялся Иннокентий и тискал толстых розовых младенцев, которые тянули к нему свои пухленькие ручонки, вырываясь из объятий молодых матерей, почти вплотную придвинувшихся к нему и в восхищении желающих стать еще ближе к великолепному юноше. – Что вы? Что вы? Совсем я не герой, герои – это вы. Наши любимые тетушки и матушки, невесты и дочери. Вы, те самые, которые ждут нас ночами!
Воображаемая толпа обступала Иннокентия, уже явно чувствовались все запахи крестьянского тяжелого труда. Сильнее и сильнее ударял в нос пот, жаркий, удушливый запах крови становился явственнее. Иннокентий старался быть выше этого и не прикрывать нос от чудовищной вони, которая шла от окруживших его жителей деревни. Нельзя было показать, что они ниже его. Однако запах становился все назойливее.
Вдруг раздался тяжелый звук, как будто дубовую дверь, окованную железом, со всей силы закрыли. Иннокентий прервал свою вымышленную речь перед обожателями. Действительность поразила его, он догадался, что запах, мучавший его обоняние, происходил не от толпы вовсе, и, вообще, не был выдумкой.
Он стоял посреди грязного полутемного подвала, где на самом деле пахло затхлой кровью и потом.
– Как это можно содержать в такой нечистоте винный погреб, – подивился Иннокентий и попытался отыскать проход к бочкам, хранившим в пузе игристые зелья.
Думать о плохом сейчас, когда жизнь открывала перед ним тысячи дорог, наконец-то давала ему шанс и помощника воплотить в реальность всё, о чем он мечтал, не хотелось. Иннокентий старался не смотреть на пол, заляпанный кровью, не разглядывать, обо что там в полутьме споткнулся. К дурманящему запаху он почти привык.
– В конце концов, хорош герой, испугался подвала, – подбодрил себя Иннокентий вслух и постарался рассмеяться.
И действительно, на какое-то время это вернуло ему бодрость духа. Как же мог запаниковать тот, в кого поверил старый прожженный Казимир. Нет, опытный вояка не мог ошибаться. И уж если он выбрал Иннокентия, значит в Иннокентии что-то было. Нельзя допускать и мысли о трусости, ведь такими мыслями только подведешь Казимира, испытанного и закаленного в боях, выбравшего именно его и поверившего в него.
Терпеть вонь и прогонять страх стало в разы проще, когда Иннокентий стал делать это не для себя, а ради старшего товарища. Того, что несколько мгновений назад пугало, теперь хотелось еще и еще, на место страха явился теперь раж: хотелось, чтобы испытаний стало намного больше, чтобы Казимир мог бы гордиться своим избранником. Вот уж верно, ведь Казимир-то точно знает, что в подвале у корчмаря, и, наверняка, хитрец и отправил его сюда, чтобы испытать: а не ошибся ли он в юноше.
– Нет! Не ошибся, Казимир! – почти выкрикнул Иннокентий и сделал решительный широкий шаг вперед.
Тут же он почувствовал, что угодил во что-то мягкое.
«Не смотри!» – услышал юноша приказ внутри себя. И тут же сам с собой поругался: «Ну и хорош ты, паря, если испугался того, что лежит на полу. Стыдоба, посмотри, что там, что как девка-то?»
Ужасная, страшная догадка поднималась из недр желудка, оставляя за собой бурление в области живота, она практически докатилась до горла, застряв в нем криком ужаса и распухая, занимая собой весь путь движения воздуха, просясь наружу любым способом.
Иннокентий решительно наклонился и поднял то, что заставило его остановиться. «Рука?» – удивленно переспросил внутренний голос. – «А монстры?»
Тонкие пальцы находки, неестественно вывернутые в разные стороны, как указатели на столбе, торчали в разные стороны. Поначалу это даже не было страшно, это было любопытно. Иннокентий удивился: «Что за уродец – хозяин странного тельца?»
Юноша начал припоминать, как на День Изгнания магов, в деревне женщины рядились в страшные и смешные наряды, красили лица в яркие цвета и соревновались в том, кто страшнее скорчит харю. У некоторых рожицы выходили не столько страшные, сколько уморительные. Иннокентий, вспоминая несколько таких девчушек, даже улыбнулся, позабыв о своей находке. Некоторые, особенно гибкие, превращали деревенские игрища в настоящее представление, так ловко они могли изгибать позвоночники и руки, что нельзя было решить сразу, то ли они мучительно скручивают себя и терпят боль от неестественного положения тела, то ли вправду такими родились.
Иннокентий осматривал то, что нашел и никак не хотел, и не мог признаться самому себе в ужасе своего положения. Вместо того, он сосредоточился на глупом вопросе – принадлежала ли эта рука уродцу от рождения или ее отрубили в тот самый момент, когда хозяин ее изогнулся на День Изгнания для удовольствия зрителей.
Мысль о том, что эта рука принадлежит обычному, такому же, как он, человеку и что изогнутой она стала вследствие действий мучителей, яростно стучалась в сознание юноши, но он не сдавал бастионы, не допуская ее ни на вздох ближе.
Иннокентий попятился назад, чувствуя, что все-таки самое разумное сейчас – просто уйти от находки, выбраться на свет. Сделав пару шагов, поскользнулся и так и рухнул всем телом, прижимая к себе чужую уродливую руку.
Тот ком ужасной догадки, которая застряла в горле, с этого момента неудержимой лавиной прорвала плотины сознания и дамбы тела, выливаясь отовсюду – из глаз слезами, из горла – криком, из штанов – дымящейся теплой массой.
Иннокентий бессильно двигал ногами, пытаясь отодвинуться как можно дальше от места падения, он скреб руками по полу, мотал головой и изгибался всем телом, пытаясь сбежать из душного подвала, не понимая, что уперся в стену и не продвигается ни на сколько.
Немного придя в себя, он повертел головой, чтобы угадать хотя бы по небольшому клочку света, где находится дверь, чтобы выйти, но света не увидел.
– Да как так-то? – растерянно прошептал Иннокентий.
– А здесь всегда так, – ответил рядом тихий ласковый шепот.
Иннокентия затрясла мелкая дрожь. Дыхание стало частым и отрывистым. Через несколько секунд он понял, что его трясет и он как-то гаденько меленько и тоненько хихикает.
– Обосрался тварь! – Иннокентий почувствовал резкий удар по голове, и все перед его глазами поплыло и исчезло.
Он еще барахтался в надвигающемся сером тумане, который заливался в глаза с самых краев, закрывая обзор, он еще силился закричать, позвать своего защитника и учителя, который точно услышал бы его, найди Иннокентий в себе хоть немного сил, пусть даже шепотом, назвать его имя. Ему уже не было стыдно за свой испуг, неважно было, как на это посмотрит его товарищ, будет ли презирать его. Ему просто хотелось, чтобы это скорее кончилось. Он понял, что очень-очень соскучился по маме. Иннокентию захотелось оказаться дома, на теплой печке, а за занавеской мелькание быстрых маминых рук и щелканье масла в сковородке.







