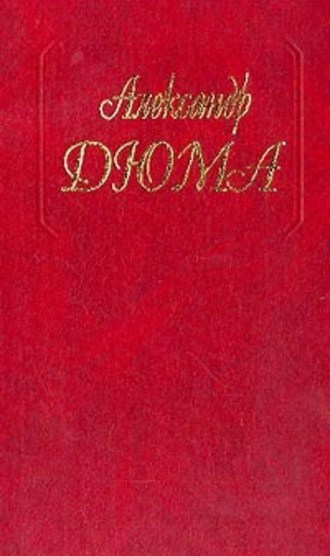
Александр Дюма
Огненный остров
XVI. Малаец Нунгал
Система управления огромными владениями голландцев – одна из самых простых и вместе с тем хитроумных.
Губернаторы сохранили или восстановили в главных точках острова власть яванских господ, правивших некогда при туземных государях.
Эти правители по праву рождения или по своему положению с незапамятных времен имеют огромное влияние на крестьян, но в обмен на горстку золота они предоставили всю власть в распоряжение завоевателей и сделались послушным орудием в их руках.
Сегодня в их обязанности входит передавать приказы колониальных властей и следить за их исполнением, распределять среди земледельцев натуральные налоги, с помощью которых Ява превратилась в огромную ферму, работающую на голландцев, – система, достойная Макиавелли, позволяющая спрятаться той руке, что выжимает, и избегнуть последствий непосредственного соприкосновения с порабощенным народом.
Предки Цермая со времени завоевания острова правили провинцией Бантам. Его отец сумел своей преданностью в эпоху великого кризиса 1811 года завоевать полное доверие голландцев, и они осыпали его почестями и богатствами.
Раджа Адифрати, утра-натта-сусухунан, верховный правитель деревень провинции Бантам, совершил путешествие в Голландию и был представлен королю Вильгельму. Он вернулся исполненным глубокого восхищения европейской промышленностью и цивилизацией.

Хоть яванцы и сделались мусульманами еще в XIV веке, они вовсе не разделяют исключительного и ревнивого фанатизма, отличающего приверженцев ислама, так что правителю Бантама не пришлось бороться ни с отвращением, ни с предрассудками, чтобы доверить христианину воспитание своего единственного сына.
Это был известный в Батавии врач, тот самый, кого мы видели в начале этой истории играющим в ней столь важную роль.
К несчастью, то ли выбор отца оказался неудачным, то ли ученик был наделен глубоко порочными влечениями, но бедный правитель Бантама перед смертью с отчаянием увидел, что сын обманул все возложенные на него надежды.
Самым явным результатом европейского воспитания Цермая был тот, что к порокам его расы прибавились новые – те, что являются уделом развитых культур, старых обществ с разложившейся нравственностью.
Злобный, завистливый, очень скрытный, суеверный и доверчивый, как все туземцы, он был к тому же распутным и жаждал денег и власти, как голландские колонисты; ради удовлетворения своих страстей он не остановился бы и перед преступлением.
Выйдя из рук гувернера, Цермай через несколько месяцев потерял отца, унаследовав его положение и звания. Первой его заботой было призвать к себе человека, поощрявшего его дурные склонности, вместо того чтобы бороться с ними, и поселить его в своем дворце в качестве советника.
У Цермая была многочисленная свита, великолепные экипажи, роскошные дворцы; во всей провинции Бантам и до самого Бейтензорга только и говорили, что об огромном кордебалете из лучших бедайя, который он содержал.
И все-таки, какими бы большими ни были доходы молодого принца, их не хватало на оплату его бесконечных пышных развлечений и сменяющих одна другую прихотей. Чтобы удовлетворить эти потребности, он прибегал к бесчисленным поборам; ради того, чтобы наполнить свои сундуки, он разорял крестьян; множество жалоб на него стекалось к правительству; но в память о его отце к нему относились так снисходительно, что колониальный совет на все закрывал глаза.
Осмелев от безнаказанности, подталкиваемый советами бывшего воспитателя, Цермай, не довольствуясь тем, что обобрал тех, на кого его отец смотрел как на своих детей, попытался обмануть доверие голландцев и присвоить часть налогов, которые собирал для казны.
Здесь правительство сделалось безжалостным, и за этим новым преступлением принца последовало отрешение его от должности. Советнику Цермая, сильно скомпрометированному, угрожали преследования, и он избежал конфискации значительного состояния, которое собрал на службе у юного правителя Бантама, частью занимаясь контрабандной торговлей с пиратами острова Борнео, лишь потому, что умер как раз в тот момент, когда обсуждался вопрос о суровом наказании.
Все еще испытывая признательность за услуги, оказанные колонии отцом принца, генерал-губернатор острова Ява не захотел, чтобы сын совершенно нищим расстался с верховной властью, переходившей в его семье по наследству, и постановил, что назначенный им преемник должен выплачивать принцу солидное содержание.
Ни бесконечное терпение, ни этот последний акт щедрости, ни сказанные при этом добрые слова не могли успокоить глубокого возмущения Цермая суровостью примененного к нему наказания.
Он считал, что происходит из королевского рода Панджаджарана; последний сусухунан из этого рода управлял северными и западными частями острова Ява и отрекся от престола в 1749 году в пользу голландцев.
Цермай смотрел на оставшуюся у его семьи верховную власть в провинции Бантам как на необходимое вознаграждение за это отречение от престола, как на неотъемлемое и неотчуждаемое право, которое никак не мог утратить, которого никто не мог у него отнять, и поклялся люто ненавидеть тех, кто обездолил его.
Долгое время эта ненависть проявлялась лишь проклятиями и угрозами; но, поскольку с тех пор как его отстранили от власти, иссяк самый щедрый источник его доходов и он не мог больше позволять себе любимые им разорительные фантазии, Цермай старался забыться в гнусном разврате. Наперсников своей злобы он выбирал обычно в тавернах Батавии или в притоне Меестер Корнелиса, и колониальное правительство не обращало на это обстоятельство никакого внимания и нимало этим не огорчалось.
Во время одной из почти ежедневных оргий в китайском Кампонге он встретил малайского матроса, чье упорное желание следить за всеми его движениями, всеми жестами, показалось ему странным; Цермай приблизился к нему, и малаец тихо произнес несколько слов; к огромному удивлению всех его соратников по разврату, принц покинул дом китайца вместе с моряком задолго до того, как достиг опьянения.
С этой минуты его поведение полностью изменилось.
Никто больше не слышал, чтобы бывший верховный правитель Бантама выступал против тирании завоевателей и требовал возвращения прав туземцам; он больше не обличал распутство голландских колонистов, не осмеивал их пошлость, их расчетливую жадность, не выражал вслух надежду, что пробьет для них час искупления.
Насколько прежде его недовольство было шумным, а слова – легкомысленными, настолько же, благодаря таланту притворства, доставшемуся ему с древней яванской кровью, он сумел теперь скрыть в себе все чувства, быть осторожным в поступках, сдержанным на язык.
Он сделал больше того.
Он порвал с мерзкими спутниками своих оргий, казалось, отвернулся от разврата, и хотя сохранил при себе наложниц и свиту, что дозволялось его рождением и обширным состоянием, ограничил свои безумные траты и, похоже, вступил в пору мудрости и здравого смысла. Поведение Цермая стало столь образцовым, что губернатор и члены колониального совета начали сожалеть, что обошлись с ним сурово и намекнули на возможность восстановления его в должности.
Правда, в то же время как Цермай сделался одним из частых гостей дворцов Вельтевреде и резиденции в Бейтензорге, он стал посещать нескольких китайцев, чья враждебность по отношению к колониальному правительству, хоть и скрытая, была широко известна; правда, он стал близким другом Ти-Кая, китайского торговца (мы видели его во время ужина в Меестер Корнелисе), прадед которого был одним из предводителей знаменитого китайского восстания, поставившего в минувшем веке голландское владычество на Яве на грань гибели.
Мы должны прибавить к сказанному, что после внезапного обращения Цермая пошли неясные разговоры о ночных сборищах недовольных в лесах Джидавала, в провинции Батавия, и в огромном лесу Даю-Лонхура, расположенном на юге провинции Черибон, у границы Преанджера, неподалеку от той части Явы, что осталась в памяти первоначальных властителей края как наиболее плодородная.
Примерно в тридцати милях от Бейтензорга, у первых вершин пересекающей остров вулканической цепи, Синих гор, три ее ветви: Гага, Сари и Саджира – образуют охватывающий ложбину треугольник, основание которого – шесть миль, а высота – не менее трех.
Эта ложбина, настоящий оазис благодаря тому, что расположенные по соседству пики, возвышаясь на три тысячи метров, сохраняли здесь прохладу в самый разгар лета, принадлежала туану Цермаю.
Именно там мы видим его на следующий день после ужина в павильоне Меестер Корнелиса, закончившегося таким роковым образом.
Жилище Цермая располагалось в южной части этой великолепной долины, на самом близком к равнине склоне горы Сари.
Отец молодого принца не стал строить дворец по примеру большинства яванских знатных людей – рядом с деревнями, среди возделанных полей; к нему вела дорога, извивающаяся по лесу, что покрывал основание горы.
В этом лесу можно было встретить все образцы тропической растительности: заросли тиковых деревьев с узловатыми стволами, ликвидамбары, даммары, палаглары в сто пятьдесят футов высотой, колоссальные папоротники, рощи гигантского бамбука, лавровые деревья, арековые пальмы, равеналы, камедные деревья; лианы, падавшие зелеными цветущими каскадами с самых гордых вершин к самым незаметным стебелькам, делали лес еще более густым и укрывали в непроходимых чащах кабанов, оленей, косуль, диких павлинов и тетеревов, а на верхних ветках резвились попугаи тысячи разновидностей, и над полянами с пронзительным криком носились райские птицы в золотом и пурпурном оперении.
Дворец Цермая, если бы не укрывавшие его великолепные сады, можно было бы с некоторого расстояния принять скорее за город, чем за жилище принца.
Главное здание было выстроено в мавританском стиле: с белыми, словно алебастр, куполами; тонкими, словно иглы, минаретами, устремленными вверх, как ростки кокосовой пальмы; пестрыми аркадами с ослепительной росписью; резными мраморными галереями; внутренними двориками под изящными навесами. Вокруг этого здания, рядом со всем феерическим, что только способно изобрести арабское и персидское искусство, китайский архитектор разместил беспорядочно и непоследовательно, с капризной непредсказуемостью все, что нашел в своем воображении странного и причудливого; там были изрезанные, словно кружево, павильоны из гипса, фарфоровые домики, бамбуковые хижины, то помещенные на двадцать футов над землей, то сделанные в виде животных или предметов; эти фантастические строения казались существовавшими независимо одно от другого, но в действительности были связаны сводами, коридорами и подземными ходами, такими же своеобразными по замыслу и формам, как и сами здания.
С тех пор как Цермай впал в немилость, он покинул мавританский дворец и парадные помещения и жил в китайских постройках.
Во время дневной жары он любил укрываться в гроте, украшенном лучшими образцами мадрепор, кораллов и раковин южных морей.
С потолка этого грота струилась вода, защищая его от дневной жары и закрывая от нескромных взглядов слуг непроницаемым занавесом.
В этом гроте мы и найдем Цермая.
Он лежал на расшитых серебром подушках зеленого шелка, очень подходивших к опаловым переливам раковин; Цермай вдыхал не прохладные испарения персидского наргиле или индийского кальяна, не сладкий аромат восточного табака, но терпкий дым сигары, как мог бы это делать какой-нибудь голландский торговец рисом в своей конторе в Батавии.
Рядом с ним присел на корточках человек в темной одежде, тот, кто накануне в Меестер Корнелисе дал Харру-шу наркотик, вдыхание паров которого так подействовало на мозг Эусеба ван ден Беека; сейчас этот человек был одет в костюм малайского моряка и странным образом напоминал того, кто разговаривал с Эусебом на молу Чиливунга на следующий день после смерти доктора Базилиуса.
– Зачем уезжать завтра, Нунгал? – спросил его Цермай.
– Так надо.
– Куда ты направляешься?
– Я иду к исполнению наших замыслов.
– Но не боишься ли ты, что я могу отступиться, как только ты покинешь меня?
– Дух мой останется с тобой.
Яванец опустил голову и на несколько минут погрузился в безмолвное размышление.
– Нунгал, – наконец, заговорил он. – Ты напомнил мне о секретах, которые я считал скрытыми в могиле; ты рассказал мне то, что мог знать один Базилиус, который уже почти год назад стал добычей червей; ты дал мне доказательства сверхчеловеческой власти, поработившей мой дух; в то же время ты проявил ко мне участие и приковал к себе мое сердце; но, прежде чем осуществить планы, которые могут стоить мне головы, позволь мне задать тебе один вопрос и пообещай, что ответишь на него. Кто ты?
– Разве я не сказал тебе этого, Цермай? – с насмешливой улыбкой ответил малаец. – Меня зовут Нунгал, я тот, кто правит морскими бродягами; несмотря на свой жалкий вид, я командую флотом, какому позавидовали бы самые могущественные государи этого мира, и самое лучшее в нем не бездушные соединения досок и веревок, а страшные люди, чья единственная родина – бескрайний простор океана; они с детства привыкли играть с морем и не знают даже слова «опасность». Покоряясь моей воле, словно рабы, они по моему знаку придут к тебе на помощь. Чего еще недостает, чтобы сделать Цермая королем Явы?
– Я не это хотел узнать, Нунгал, – продолжал Цермай. – О свирепости и храбрости твоих людей говорит тот ужас, который одно только их имя внушает обитателям Индонезийского архипелага; мне известно, что перед ними европейские солдаты разлетелись бы, словно туча саранчи; ты обещал мне их поддержку не для того, чтобы я мог вернуть себе тот клочок власти, что достался мне от щедрот наших хозяев и несправедливо был отнят у меня: нет, я должен вновь занять то положение, какое было в этой стране у моих предков; я поблагодарил тебя и повторяю, что моя признательность будет не меньше полученного благодеяния. Но это вовсе не то, что я хотел бы знать.
– Так говори же.
– Нунгал подчинил своим законам не только морских разбойников, он имеет власть над таинственными духами, что существуют меж небом и землей; христиане называют их демонами, а мы – дэвами и джиннами. Если бы это было не так, откуда Нунгал мог узнать то, что было сказано много лет назад между старым голландским доктором и его учеником? Кто мог рассказать ему то, что умерло, как умер тот, кто это слышал, если не скитающийся дух Базилиуса? Вот тайны, которые я хочу узнать, Нунгал.
– Твое пожелание высказано как раз вовремя, Цермай, потому что и у меня к тебе есть одна просьба.
– Скажи, и если в моей власти удовлетворить ее, клянусь, ты получишь то, чего желаешь.
– Среди твоих бедайя есть одна, которая мне нравится; я хочу, чтобы ты дал мне ее.
– Нунгал, ты опустошишь мой дворец! Ради твоего удовольствия я пожертвовал белой девушкой из Голландии; ее ужалила змея Харруша, и она обязана тем, что еще жива, лишь противоядию от укусов рептилий, которое ты дал ей; но, несмотря на твои снадобья, она умрет; ты хочешь, чтобы танцы больше не услаждали мой досуг, а песни не разгоняли скуку?
– Слово Цермая весит мало, как пух из коробочки хлопка: довольно одного дуновения и одной секунды, чтобы развеять его белые нити.
– Нет, Нунгал; слово сказано, и я не пойду против него. Выбирай себе наложницу; будет ли она темной, словно кожура граната, или белой, как цветок гардении, ты можешь взять ее, она уйдет с тобой к твоим людям. Есть лишь одно исключение.
– И этого слишком много, если именно ее я хочу.
– Так опиши мне ее, Нунгал, чтобы я не тратил слов напрасно.
– Та, которую я хочу, вовсе не смугла, словно кожура фаната, и не белее цветка гардении; она желтая, как лилия, что растет на берегу ручья, и все же это самая прекрасная твоя бедайя.
– Арроа, дочь Аргаленки! – воскликнул Цермай; его смуглое лицо побледнело до синевы, а глаза налились кровью.
– Ты сам назвал ее, Цермай, – совершенно спокойно ответил Нунгал. – Но почему ты так изменился в лице?
– Нунгал, проси у меня все что угодно! – дрожащим и прерывающимся голосом закричал Цермай. – Потребуй у меня всех других бедайя из моего дворца; проси мою черную пантеру, что лижет мои сандалии, словно щенок; возьми мои поля и леса, чтобы сделаться богатым; бери мой дворец – я ни в чем не откажу тебе, только не говори мне об Арроа, нет, нет, я не смогу отдать тебе ее!
– Зачем мне твои богатства? Что я буду делать с дворцами? Цермай, я хочу желтую девушку с черными, как у газели глазами.
– Я тебе отказываю, Нунгал.
– Не объяснишь ли ты мне, по какой причине?
– Я не знаю, не могу объяснить, что во мне происходит, но, с тех пор как она поселилась в моем дворце, я забыл ради нее всех ее подруг. Два дня, что я провел вдали от Арроа, показались мне веками; поистине, я думаю, что люблю ее.
– А если бы тебе сказали, что трон, о котором ты мечтаешь, можно получить, лишь пожертвовав ею?
– Я буду в нерешительности, Нунгал!
– Дитя, – ответил малаец с улыбкой, в которой сочувствие мешалось с презрением. – Дитя, которое хочет управлять стихиями и потусторонними силами, но не может заставить умолкнуть собственные страсти!
Яванец, поняв урок, опустил голову; и все же в горечи этих упреков было нечто сладкое: ему показалось, что он сможет сохранить Арроа.
– Послушай, Цермай, – продолжал малаец. – Минуты драгоценны, мы не можем терять их; сегодня вечером я должен покинуть этот берег, завтра я буду в море, через месяц ты вновь увидишь меня.
– Что я буду делать в это время?
– Ты будешь продолжать начатое, будешь раздувать пламя раздора между туземцами и завоевателями, сжалишься над угнетенными и в случае нужды придешь им на помощь, воспользуешься недовольством, ненавистью, жаждой мести; в этой несчастной стране лишь эти струны мы сможем затронуть; их вера в Бога умерла с верованиями в Брахму, а что касается патриотизма – они даже слова такого не слышали. Рассыпай золото, рассыпай беззаботно и без опасений, и, когда придет время жатвы, ты вновь увидишь меня: я помогу тебе собрать урожай.
– Золото! – с беспокойством произнес Цермай. – Ты же знаешь, как мало его оставили мне колонисты.
– Завтра Ти-Кай передаст тебе на эти цели шестьсот тысяч флоринов.
– Шестьсот тысяч флоринов! Но ненависть Ти-Кая к европейцам не так велика, чтобы он пожертвовал такую сумму.
– Эти деньги не из кошелька китайца.
– Так откуда они возьмутся?
– Два дня тому назад ты подарил мне белую бедайя, которую я у тебя просил; сегодня я возвращаю ее тебе, Цермай.
– Увы! – воскликнул яванец. – Бедная девушка, может быть, сегодня же вечером отдаст Богу душу.
– Нет, она умрет только завтра к вечеру, в час, когда солнце скроется за вершиной горы Сари; а утром, в третий час дня, Ти-Кай принесет ей деньги, о которых я говорил тебе. Смело войди в комнату, где будут лежать ее останки; ты не боишься мертвых, раз хочешь беседовать с духами, а значит, сможешь завладеть золотом.
– Но все же, откуда это золото?
– Это доля, принадлежащая девушке из наследства ее прежнего хозяина, доктора Базилиуса.
– Чье завещание…
– …чье завещание предназначало треть состояния, оставленного его племяннице, той из трех женщин, живших в его доме, которая добьется слов любви от мужа этой самой племянницы.
– С какой целью он сделал такое странное распоряжение?
– Доктор Базилиус ничего не делал без оснований. Дай юному побегу банана сменить старые листья, согнувшиеся и пожелтевшие под тяжестью гроздьев, и, если знание человеческого сердца не подвело его, ты кое-что узнаешь о том, какова была его цель.
– Но, – продолжал Цермай, возвращаясь к милым его сердцу шестистам тысячам флоринов, – могу ли я таким образом завладеть тем, что принадлежит девушке, являющейся подданной голландского короля?
– Цермай, в Голландии и по всей Европе, как и на Яве, бедные, проходя по земле, оставляют следов не больше, чем птица в небе. Твоя белая бедайя родилась во Фрисландии, ее жалкие родители продали ее прежде, чем она достигла брачного возраста. Доктор Базилиус привез ее на Яву. Доктор Базилиус умер. Кто, по-твоему, станет беспокоиться об исчезновении бедной девушки? Возьми это золото и используй его так, как я сказал тебе. Теперь прикажи, чтобы Арроа приготовилась сопровождать меня.
– Арроа! Ты не отказался от своего намерения отнять ее у меня?
– Не только для того, чтобы приказывать духам, но и для того, чтобы управлять людьми, надо уметь обуздывать движения своего сердца, Цермай; учись быть властелином, вели умолкнуть своей страсти.
– На что мне трон Явы? Я уступаю, оставляю, отдаю его тебе, Нунгал, если Арроа останется со мной.
– Остерегись, безумец! – почти угрожающе крикнул малаец.
– Нунгал, я знаю, что твоя власть безгранична; с тех пор как мы познакомились, ты устрашаешь меня зрелищем своего могущества, доказательствами твоей сверхъестественной науки; и все же ради того, чтобы сохранить эту девушку, я готов бросить вызов и твоей власти и твоей науке.
– Ты не можешь сделать этого безнаказанно, Цермай, подумай об этом, не сопротивляйся моей воле.
Эти слова, произнесенные властным тоном, заставили Цермая подскочить на диване; все бушевавшие в яванце страсти отразились на лице его.
– Твоей воле! – вскричал он. – Жалкий главарь шайки разбойников, в моем собственном дворце ты осмеливаешься говорить мне о своей воле и ставить ее над моей!
Малаец не пошевелился и по-прежнему оставался невозмутимым.
– Да, – ответил он. – И это будет не первый раз, когда ты похвалишь себя за то, что поступил не по своей воле.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Старый бапати, твой отец, разгневанный твоей распущенностью, просил колониальное правительство распорядиться заточить тебя в крепость; он угрожал передать управление провинцией одному из твоих родственников. Внезапно бапати Бантама тяжело заболел. Тот, кто обучал его европейским наукам, доктор Базилиус, ухаживал за ним и самоотверженно проводил все ночи у постели больного, не позволяя ему принимать лекарства из других рук.
– Клянусь святым пророком! Малаец, не говори ничего больше.
– Успокойся, не выдергивай крис из ножен и выслушай меня до конца. Несмотря на старания доктора, состояние бапати ухудшалось. И все же оно ухудшалось не так быстро, как нетерпеливо желал этого его сын. Однажды ночью он проник в комнату, где его отец, под влиянием наркотика, который дал ему европейский врач, забылся тяжелым сном. Цермай держал в руке такой же крис, каким ты размахиваешь, и хотел вонзить его в грудь старика; доктор Базилиус умолял его не делать этого, поклялся, что болезнь справится без его помощи, что к завтрашнему дню она прикончит старика; поскольку молодой человек сопротивлялся, поскольку, лишенный возможности подойти к постели бапати и ударить его, он ударил бывшего своего наставника, тот приказал ему выйти и сказал…
– Довольно, Нунгал, – Цермай побледнел от страха и так дрожал, что у него стучали зубы, – довольно, я знаю все остальное. Огни внезапно погасли, нечеловеческая сила, на какую не способен был старый и тщедушный Базилиус, подхватила сына и выбросила его вон.
– Да; но поскольку на следующий день предсказание Базилиуса исполнилось, поскольку старый бапати умер до заката, поскольку никто не искал яда в его желудке, а кинжала в сердце у него не было, – сын без всяких споров унаследовал богатства и власть своего отца. Теперь ты видишь, Цермай, что когда-то ты преуспел, послушавшись не своей воли?
Цермай был подавлен: он молча сел и провел рукой по залитому потом лбу, как будто хотел стереть пятно крови.
– Приди в себя, – продолжал Нунгал, – и скажи мне теперь, станет ли моей Арроа?
– Нет, – отвечал Цермай голосом более слабым, чем раньше.
– Пусть будет так; но правосудие отдаст мне то, в чем ты отказываешь мне.
– Правосудие! – воскликнул Цермай.
– Разумеется, потому что я докажу, что желтая девушка принадлежит мне. Эта девушка, как и белая танцовщица, жила у доктора Базилиуса, который купил ее у своего управляющего; в тот вечер Аргаленка кое-что говорил нам об этой истории. Каждый раз, приходя в старый город повидаться с бывшим наставником, ты бросал жадные взгляды на женщину, жившую в его доме. Доктор умер; ты поспешил завладеть женщиной, но она уже исчезла вместе со своими подругами; на следующий день человек, одетый в лохмотья, пришел к тебе и сказал, что он хозяин девушки с бархатными глазами и ее белокожей подруги; ты предложил ему золото, если он уступит их тебе; человек отказался и поступил лучше: он предложил поместить обеих среди твоих танцовщиц с условием, что ты отдашь девушек тому, кто предъявит тебе половину сломанного кольца. Вот она, эта половина кольца! А теперь в третий раз спрашиваю тебя: отдашь ли ты мне желтую девушку?
– Да, если сможешь ее взять! – вскричал Цермай, прыгнув, как пантера, и нанеся Нунгалу страшный удар крисом, который он предательски вытащил из сандаловых ножен.
Малаец пошатнулся, и Цермай подумал, что убил его; но Нунгал выпрямился и распахнул саронг, обнажив грудь и показав покрывавшую ее тончайшую стальную кольчугу. Лезвие криса не повредило доспехов, и сквозь сетку просочилось всего несколько капелек крови.
– Я обзавелся ею, помня о моих врагах, – язвительно произнес малаец. – Но я забыл о тебе, Цермай.
Цермай был удручен своей неудачей и пребывал в глубоком оцепенении.
Он отступил на шаг назад и на всякий случай приготовился защищаться.
Но Нунгал покачал головой.
– Послушай, – произнес он со странной улыбкой, вздернувшей губу и позволявшей видеть белые и острые, как у леопарда, зубы, – будь в твоем сердце хоть один тайник, куда я не мог бы проникнуть, сейчас ты показал бы мне, какую меру благодарности можно ждать от души, подобной твоей.
– Благодарности? Что я получил от тебя, чтобы благодарить? Обещания, только и всего. Где ты видел, чтобы благодарили за обещания?
– Я думал, что сделал больше, Цермай; когда мы встретились в Батавии, ты прозябал в самом постыдном разврате, твоя ненависть и планы мести улетучивались, как дым сигары, тлеющей у твоих ног. Я дал всему этому плоть, я научил тебя, как насытить первое и осуществить вторые, удовлетворив в то же время твое честолюбие; я подстегивал тебя, пока ты не решился променять плетеные скамьи кабака, где ты обитал, на престол Явы, алмаза Южного моря; я нашел для тебя стихию мятежа, который сделает тебя королем; я собрал вокруг тебя ядро армии недовольных, способной принести тебе славу и богатство; я указал тебе, как управлять этим подспудным движением до того дня, когда голландцы, почувствовав, как земля горит у них под ногами, тщетно попытаются бежать и погибнут среди руин, – значит, все это – ничто?
– Ничто, пока успех не подкрепит твоих обещаний; до сих пор это только грезы.
– Да, но грезы, которые мы сделаем явью.
Цермай сделал движение.
– Да, – продолжал Нунгал, – тебя удивляет, что, после того как ты попытался убить меня, я еще расположен тебе служить! Так вот, знай, что я глубоко презираю людей, пренебрегаю их чувствами по отношению ко мне, независимо от того, хороши они или дурны, сердечны или враждебны. Моим планам, моей ненависти, которую я, подобно тебе, возможно, питаю в сердце, отвечает желание уничтожить тех, кто правит и владеет этим островом. Так что всегда можешь рассчитывать на помощь Нунгала; но в то же время у меня есть свое дело, я непоколебимо иду к цели, исполненный сознанием собственной силы. Никогда не пытайся препятствовать ей, Цермай! Не то, несмотря на мое к тебе расположение, ты будешь разбит, как это стекло.
С этими словами Нунгал подтолкнул пальцем хрустальную чашу с шербетом – она скатилась со столика на пол и разлетелась на мелкие осколки.
– Поверь мне, Цермай, – продолжал Нунгал, – что не пустой каприз заставляет меня требовать эту бедайя; я так же равнодушен к чарам ее глаз, как к туману на вершинах гор, который принимает облик человека и в котором взгляд обольщенного путешественника старается узнать то высшее существо, кого человеческая гордыня поставила посредником между людьми и Богом. Нет, та, кого я прошу у тебя, кого добиваюсь, кого требую, – всего лишь колесико в том устройстве, над которым я тружусь, и пусть лучше погибнут все бедайя и рангуны острова, чем разрушится мое творение! Я повторяю тебе: вот половина кольца, Арроа принадлежит мне, я хочу ее.
– Бери ее, – ответил Цермай удрученным и смиренным тоном, странно контрастировавшим с той яростью, какую вызвала у него первая просьба Нунгала, и в особенности – с поступком, который он пытался совершить.
– Ну, будь мужчиной, – произнес малаец, – и не удостаивай это огорчение своей слезой: она стоит куда дороже.
И, поскольку Цермай дал этой слезе скатиться по щеке, не вытирая ее, Нунгал продолжил:
– Что ж, хоть твоя скорбь и недостойна мужчины, она тронула меня. Дочь Аргаленки понадобится мне для исполнения моих планов только через месяц; оставь ее у себя на это время, чтобы отдать затем тому, кто от моего имени передаст тебе эту половину кольца.
– Спасибо, Нунгал.
– И ты клянешься исполнить то, что я требую от тебя?
– Я клянусь тебе в этом.
– Хорошо! Впрочем, у меня есть порука в том, что ты сдержишь слово.
– Какая, Нунгал?
– Я знаю твои секреты, ты моих не знаешь. А если ты попытаешься сопротивляться, как сделал сегодня, колониальный совет будет осведомлен о том, что произошло у смертного одра твоего отца между доктором Базилиусом и тобой.
Цермай покачал головой и сказал:
– Поверь мне, Нунгал, мое слово весит больше твоих угроз. Каким образом ты проник в тайну, о которой упоминал, это секрет между тобой и адом; но он наверняка мало что тебе даст, потому что ты не сможешь подкрепить доказательствами твое сообщение.
– Ба! – насмешливо возразил Нунгал. – Доктор Базилиус был человеком благоразумным, осторожным и слишком расчетливым для того, чтобы дать пропасть такому бесценному сокровищу, как эта тайна. Ну, так встретимся через месяц, а сейчас простимся, Цермай!
Договорив, малаец выбежал сквозь завесу воды, закрывавшую грот.
В течение секунды вокруг него кипел водопад, покрывая его одежду брызгами пены; затем вода побежала по-прежнему и сквозь ее радужные оттенки Цермай мог видеть Нунгала, удалявшегося по одной из дорожек сада.
Но яванец, казалось, совершенно не заметил его ухода. Он был погружен в свои размышления.
– Каким образом доктор Базилиус мог оставить улики преступления, за которое сам расплатился бы вместе со мной? – произнес он наконец, говоря сам с собой. – А если он оставил доказательства, как попали они из рук ван ден Беека, наследника доктора, в руки Нунгала? Этот малаец способен на все! – помолчав минуту, продолжал он. – Но все равно, я должен увидеться с ван ден Бееком.







