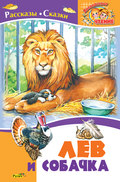Дмитрий Мамин-Сибиряк
Золотуха
III
Мне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели недоставало одного человека – его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, по-видимому, самый чистый тип артели представлял на прииске исключение, а главным правилом являлось все-таки артель-семья, как, например, Зайцы.
Главную массу приисковых рабочих составляли горнозаводские мастеровые и жители лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ни чьей головы, а слабейшим членам семьи, как это случается всегда, доставалось всех труднее: они выносили на своих плечах главный гнет.
– Прежде, как за барином жили, – рассуждал старый Заяц, – бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы ревели… Потому известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять – где робило сорок человек теперь ставят тридцать, а то двадцать – вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками… Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдуют… И выходит, что наша-то мужицкая воля поровнялась, прямо сказать, с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется. Вон, погляди, бабы в брюхе еще тащат робят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом чуть подрос – садись на тележку, вези пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды – оно тяжело, чего говорить, а все мужик, мужик и есть – а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски…
Мастеровые – народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие… Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выглядели особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы косились и отплевывались. На самой работе около раскольничьих вашгердов лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работается русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.
– Ты чего это к кержакам к нашим повадился? – фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботинках.
– Да так… Посмотреть, как работают.
Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновая кость, зубов, проговорила:
– А они тебя боятся… Думают, что ты не на счет ли золота досматриваешь. Право… Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин простой, хороший… Ей-богу, вот сейчас с места не сойти, так и сказала. Ну, а брат-то мой… Видал, чай?
– Это с рыжей бородой?..
Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:
– Нет, это так… кум. Черт его знает, зачем шатается…
Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха-кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча. Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком, точно свежий блин на каленой сковороде, что Бучинский счел за самое лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конторе, посылая кума ко всем чертям и желая ему «четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы; высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «От-то пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаза и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.
– Ужо вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему, – обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, т. е. с раскольниками.
Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом, рядом с сестрой, казалась просто жалкой; только в иззелена-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек да широкие губы складывались в неопределенную, вызывающую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.
– Это Гараська-то бросовый?! – удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем. – Да я вам скажу, дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам. Да-с.
– Да ведь он же не может работать, как другие старатели?
– Работать… что такое работать… пхэ! Лошадь работает, машина работает, вода работает… так? А Гараська – золотой человек. У него голова на плечах, а не капустный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу, – задумчиво прибавил Бучинский: – я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу…
– Почему так?
Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся:
– Вот вы живете неделю на прииске и еще год проживете и все-таки ничего не узнаете, – заговорил он. – На приисках всякий народ есть; разбойник на разбойнике… Да. Вы посмотрите только на ихние рожи: нож в руки и сейчас на большую дорогу. Ей-богу… А Гараська… Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видал. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.
Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможденном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.
– А вам что смотреть у нас? – как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от контроля шли к его вашгерду. – Робим, как все другие…
Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить загадочного парня в полной чистоте своих намерений.
Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавней красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.
– Ну, теперь видел? – коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.
– Отчего вас работает всего четверо? – спросил я. – Ведь неудобно…
– Кому как, а нам и так хорошо.
Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключением того, разве, что кум, наконец, расступился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник сводить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнику, но потом уже расслышал, что это была песня.
– Ишь, развылась! – строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.
– Кто это поет?
– Да Гараськина Марфутка каку-то плачу все воет… Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то, чердынская выходит, так к ненастью и тоскует…
– А другая девка – заводская?
– Это Ховря-то? А черт ее знает, откудова она… Какая-то бесчувственная, Христос с ней!
Я долго вслушивался в «плачу» Марфутки. Голос у нее был хороший, хотя и надсаженный. Но в словах и в самом мотиве «плачи» было столько безысходной тоски, глухой жалобы и нежной печали!..
Мне ночесь, молодешеньке,
Не спалось да много виделось:
. . . . . . . .
С по лугам, лугам зеленыим
Разлилася вода вешняя,
По крутым красным бережкам,
По желтым песочкам.
Отнесло, отлелеяло
Милу дочь да от матери;
Шла по бережку родна матушка,
С-покруту родимая…
«Воротись, мое дитятко!
Воротись, мое родимое!»
IV
Кум угадал; действительно, Марфутка не даром разливалась в своем плаче – вечером же небо обложилось со всех сторон серыми низкими тучами, точно войлоком, и «заморосил» мелкий дождь «сеночной». Утром картина прииска изменилась до того, что ее трудно было даже узнать сразу. А через три дня все кругом покрылось мутноватой водою и липкой приисковой грязью; песни смолкли, самые веселые лица вытянулись, и все смотрели друг на друга как-то неприязненно, точно это низкое серое небо придавило всех. Всякому было до себя, до своего измокшего, зябнувшего тела. Под этим ненастьем ярко выяснилась самая тяжелая сторона приисковой работы, когда по целым дням приходилось стоять под дождем, чуть не по колено в воде, и самый труд делался вдвое тяжелее. Рабочие походили на мокрых птиц, которые с тупым равнодушием смотрят на свои мокрые опустившиеся крылья. Женщинам и здесь доставалось тяжелее, чем мужчинам, потому что сарафаны облепляли мокрое тело грязными тряпками, на подолах грязь образовывала широкую кайму, голые ноги и башмаки были покрыты сплошным слоем вязкой красной глины.
Сидеть в конторе в такую погоду, с глазу на глаз с Бучинским, было просто невыносимо. Натянув охотничьи сапоги, я побрел через весь прииск к машине, где рассчитывал посмотреть на работу под прикрытием какого-нибудь навеса или приисковых полатей. Около вашгердов шла молчаливая работа, точно все на кого-то сердились. В выработке Зайца я не заметил старика. Никита работал с каким-то молодым бойким мужиком в заплатанной кумачной рубахе и в рваном татарском азяме; сплющенная, как блин, кожаная фуражка была ухарски сбита на затылок. Загорелое бойкое лицо было не заводского типа.
– А где старый Заяц? – спросил я, подходя к выработке.
– В балагане лежит, – отвечал Никита.
– Обезножил старый Заяц, – прибавил мужик, не спуская с меня своих больших черных глаз. – А я вот на его место попал…
У вашгерда, где работала Зайчиха со снохою и дочерью, сидел низенький тщедушный старичок с бородкой клинышком. Он равнодушно глянул на меня своими слезившимися глазками, медленно отвернул полу длинного зипуна и достал из-за голенища берестяную табакерку: пока я разговаривал с Зайчихой, он с ожесточением набил табаком свой распухший нос и проговорил, очевидно, доканчивая давешний разговор.
– Нет, Матвеевна, не тово… не ладно…
– Сделай ты ладнее, сват Сила.
– Нет, не ладно, Матвеевна…
– Ну, наладил одно: не ладно, не ладно. А кого возьмешь? Работа не ждет, а Заяц третий день в балагане валяется. К ненастью, говорит, спина страсть тосковала, а потом и ноги отнялись. Никита и привел Естю…
– Да ведь Естя-то откуда ваш?
– А кто его знает… Спроси сам, коли надо…
– Видел я его даве: орелко… Нет, Матвеевна, не ладно. Ты куда, барин? – спросил меня старик, когда я пошел от вашгерда. – На машину? Ну, нам с тобой по дороге. Прощай, Матвеевна. А ты, Лукерья, что не заходишь к нам? Настя и то собиралась к тебе забежать, да ногу повихнула, надо полагать.
Мы пошли. Старик как-то переваливал на ходу и постоянно передвигал на голове свою высокую войлочную шляпу с растрескавшимися полями; он несколько раз вслух проговорил: «Нет, Матвеевна, не ладно… я тебе говорю: не ладно!»
– Что не ладно-то, дедушка? – спросил я.
– Как что?.. Орелка-то видел? Ну, и не ладно выходит. Теперь Заяц в балагане лежит, а Естя будет работать. Так? А Лукерья, выходит, мне дочь… да и Паранька-то девчонка молодая. Чужой человек в дому хуже хвори… Теперь понял? Где углядишь за ними… Нет, Матвеевна, не ладно! Глаз у этого у Ести круглый, как у уросливой лошади.
– «Губернатору» наше почтение!.. – кричал какой-то мужик с черной бородой, когда мы проходили со стариком мимо одной выработки.
– Будь здоров, Евстрат! – добродушно отозвался старик, приподнимая свою шляпу. – Эх, вода одолела прииск, барин! Теперь ненастье, надо полагать, зарядило ден на пять… верно.
– Тебя зачем «губернатором» зовут, дедушка?
– Губернатором-то? А вот заходи как-нибудь ко мне в балаган, так я тебе расскажу все по порядку. Только спроси, где, мол, «губернатор» старается: всякий мальчонко доведет. Ну, прощай, мне сейчас направо идти.
Старик приподнял свою разношенную шляпу и побрел по маленькой дорожке, которая отделилась вправо: шлепая по лужам, губернатор несколько раз передвинул шляпу на голове и проговорил не выходившую из его головы фразу: «Нет, Матвеевна, не ладно!..»
Золотопромывательная машина вблизи представляла из себя подъезд на высоких сваях, главный корпус, где шумело водяное колесо, и маленький шлюз, по которому скатывалась мутная вода. Если около старательских вашгердов земля была изрыта везде, как попало, зато здесь работы велись в строгом порядке, по всем правилам искусства. Прежде всего снят был в несколько правильных уступов верхний пласт земли, турфы, и затем обнаженная золотая россыпь вырабатывалась шаг за шагом, чтобы не оставить в земле ни одной крупицы драгоценного металла. Накоплявшаяся в низких местах вода откачивалась паровой машиной. Для старательского вольного промысла здесь не было места, а работа велась наемными поденщиками. Это и была та приисковая голытьба и рвань, которая не в силах была соединиться в артели, а предпочитала поденщину.
Я пришел к той части машины, где на отлогом деревянном скате скоплялись шлихи и золото. Два штейгера в серых пальто наблюдали за работой машины; у стены, спрятавшись от дождя, сидел какой-то поденщик в одной рубахе и, вздрагивая всем телом, сосал коротенькую трубочку. Он постоянно сплевывал в сторону и сладко жмурил глаза.
– Где бы мне увидать смотрителя машины? – спросил я у штейгеря.
– Да вон он торчит… Точно филин, прости господи! – сердито отозвался один из штейгерей, движением головы указывая наверх.
Я поднял голову и несколько мгновений остался в такой позе неподвижно. Наверху, облокотившись на перила подъезда, стоял небольшого роста коренастый и плотный господин в осеннем порыжелом пальто; его круглая, остриженная под гребенку голова была прикрыта черной шляпой с широкими полями. Он смотрел на меня своими близорукими выпуклыми глазами и улыбался. Нужно было видеть только раз эту странную улыбку, чтобы никогда ее не забыть: так улыбаются только дети и сумасшедшие.
– Да ведь это Ароматов, Стратоник Ермолаич?.. – проговорил я, наконец.
– Здравствуйте, domine! – весело отозвался господин в осеннем пальто и как-то на отлет приподнял свою широкополую шляпу, причем открылся громадный выпуклый лоб и широкая лысина во всю голову.
Через минуту я имел удовольствие пожать небольшую, всегда холодную руку моего старого знакомого.
– Да ведь я вторую неделю живу на прииске, – говорил я. – Как же это мы с вами не встретились до сих пор?
– Очень пгосто, domine… У нас с Бучинским контгы – вот и не встгетились, – добродушно отвечал Ароматов, не выпуская моей руки. – Пгедставьте себе… Однажды Бучинский идет мимо машины, я и кгичу ему: «Фома Осипыч, зайдите ко мне на минутку…» А он мне: «Стгатоник Егмолаич, хлеб за бгюхом не ходит». А я ему: «Извините Фома Осипыч, я не знал, что вы хлеб, а я бгюхо…» Ну, и газошлись… Ну, да это все пустяки… А мы с вами давненько-таки не видались, domine?.. Позвольте, где это в последний газ я вас встгетил… Та-та-та!.. Помните о. Магка? Ведь у него? Да, да…
– Да на прииски-то вы как попали?
– Волею неисповедимых судеб служу специально златому тельцу втогой год… Как же-с!.. Некотогым обгазом, споспешествуем пгеуспеяниям отечественной пгомышленности, а если пегевести сие на язык пгостых копеек – получаем двадцать гублей жалованья.
Широкое добродушное лицо Ароматова при последних словах точно расцвело от улыбки: около глаз и по щекам лучами разбежались тонкие старческие морщины, рыжеватые усы раздвинулись и по широким чувственным губам проползла удивительная детская улыбка. Ароматов носил окладистую бородку, которую на подбородке для чего-то выбривал, как это делают чиновники. Черный шелковый галстук сбился набок, открывая сомнительной белизны ситцевую рубашку и часть белой полной шеи.
– Да, я устгоился по-амегикански и живу настоящим янки, – прибавил Ароматов как бы в ответ на мой осмотр. – Да вот пойдемте в мою землянку, там все увидите.
Если вообще на Руси странных людей непочатый угол, то, без всякого сомнения, Ароматов принадлежал к числу самых странных, начиная с его детского выговора и сумасшедшей улыбки. Я с ним познакомился совершенно случайно, в глухой деревушке Зауралья, куда нас загнала жестокая зимняя метель. Как теперь вижу Ароматова, как он вошел в избу в волчьем тулупе и без церемоний заговорил своим комически возвышенным слогом: «Извините, если я помешаю вам своим пгисутствием… Но законы пгигоды стоят выше условных пгиличий. Полягным льдам угодно было скопиться в устьях Оби, обгазовалось ггомадное холодное течение, понеслась пугга, и вот мы, nolens-volens, должны познакомиться. Да, человек является только ничтожной единицей в агифметических выкладках пгигоды, но он все-таки не дитя слепого случая.
Ты дхнешь – и двигнешь океаны,
Гечешь – и вспять они текут.
А мы?.. одной волной подъяты,
Одной волной поглощены», —
с неподдельным пафосом продекламировал Ароматов, не вылезая из своего тулупа.
– Имею честь гекомендоваться: сопгичислен к лику святых, к колену левитову, – прибавил Ароматов совершенно другим тоном и, в первый раз, улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой. – А теперь пгинадлежу к взыскующим ггада.
Кому случалось по целым суткам отсиживаться от зимней метели где-нибудь в мужицкой избе, тот поймет, что Ароматов был для меня настоящей находкой. Он проговорил в течение десяти часов без умолку, пересыпая свою речь цитатами из Белинского, Добролюбова, Писарева, Бокля и Спенсера; несколько раз принимался декламировать стихи Некрасова и передавал в лицах лучшие сцены комедий Островского и Гоголя. Как актер, Ароматов был замечательно хорош, но его погубила «проклятая буква р»; колоссальная память и начитанность придавали его разговорам живой интерес, и, что всего занимательнее, он владел счастливой способностью не только схватить, но и передать с замечательным искусством смешные стороны в людях и животных. Пока мы дожидались конца метели, наша изба превратилась в сцену: Ароматов скопировал своего ямщика, старуху, которая пряла нитки, кошку, лакавшую молоко; успел показать, как пьет курица, клюют ерши, как дерутся собаки, представил в лицах кошачий концерт и т. д. Бабы и ребятишки смотрели на Ароматова с разинутыми ртами, а когда он перешел к опытам чревовещания – в ужасе попятились от чудного барина и начали даже креститься.
Во второй раз я неожиданно столкнулся с Ароматовым на фабрике одного из уральских железных заводов, где он фигурировал в качестве простого рабочего. Но тяжелый фабричный труд оказался Ароматову не по силам, и в следующий раз я встретил его уже совершенно в новой роли. Мне нужно было взять из…ского волостного правления какую-то справку. Захожу в волость и вижу целую толпу людей, которая окружила стол и хохотала, как сумасшедшая. Проталкиваюсь вперед, смотрю, за столом сидит Ароматов и пишет обеими руками: одной – отношение становому, другой – какой-то протокол исправнику. В последний раз мы виделись с Ароматовым у о. Марка; Ароматов служил за псаломщика, пел на клиросе, читал апостол, подавал кадило. Он объяснил это последнее свое превращение законом наследственности.
– Вот и моя хатка, – проговорил Ароматов, когда мы подходили к какой-то землянке. – Живу, как амегиканец… Питаюсь солониной, читаю газеты. Только вот никак не могу пгивыкнуть жевать табак…
– Да для чего вам его жевать?
– Как для чего, domine? Вгемя – деньги, а на кугение табаку сколько его напгасно уходит.
Вход в землянку походил на нору; узкое окошечко из разбитых стекол едва освещало какую-то нору, на которой валялась уже знакомая читателю шуба, заменявшая Ароматову походную постель, столик из обрубка дерева, полочка с книжками и небольшой очаг из булыжника. Трубы не полагалось, и поэтому все кругом было покрыто толстым слоем сажи.
– Живу, как индеец, – объяснял Ароматов, любезно предлагая мне место на волчьей шубе. – Omnia mea mecum porto… Конечно, сначала тгудновато гасстаться с некотогыми пгедгассудками, но энеггия пгежде всего. Это ведь только кажется, что мы не можем обойтись без гогячего обеда, чистого белья, светлого помещения – я испытал на себе.
– Все это предрассудки по-вашему?
– Совегшенно вегно…
Очевидно, Ароматов находился в периоде американизма и бредил жизнью настоящего янки; на одной стене была повешена четырехугольная картонка, на которой готическими буквами было написано: «Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – много потерял, энергию потерял – все потерял». На другой такая же картонка с другой надписью: «Time is money». На полочке с книгами я рассмотрел несколько разрозненных томов Добролюбова и Белинского, папку с бумагами и маленький томик рассказов Брет-Гарта.
– Все-таки, Стратоник Ермолаич, как вы на прииски попали? – спрашивал я, когда Ароматов усердно принялся разводить на своем очаге огонь, чтобы угостить меня вновь изобретенным им кушаньем, из провесной свинины с какими-то травами и кореньями.
– Да я же служил в гогном пгавлении в…ге десять лет, – объяснял Ароматов, наполняя свою конуру густым едким дымом. – Как же… Имею чин титулягного советника. Помните у Некгасова:
Он был титулягный советник,
А она – генегальская дочь…
Ароматов речитативом пропел до конца все стихотворение и опять принялся раздувать огонь.
– Отчего же вы оставили казенную службу?
– Да не пгиходится… Пока служил в пгавлении – все было хогошо, а как меня командиговали на казенные золотые пгомыслы – все и пошло пгахом… Мне выпадало гедкое счастье набить кагманы… Да! На гысаках бы тепегь катался, денег хоть лопатой ггеби… Ну, не вытегпел. Нагод ггабят на пгиисках, я и донес в гогный депагтамент, а меня сейчас по шапке.
Ароматов подробно рассказал, как он попался в настоящую «золотую кашу». На казенных приисках шла в то время большая игра: не воровал только тот, кому лень было протянуть руку. Рвали страшные куши и дележка казенного совершалась в вопиющих размерах. Система этого хищения была выработана с замечательным искусством. Так как устав о золотопромышленности запрещал вести промывку золота старательским «хищническим» способом, то она производилась поденщиной… на бумаге. В сущности, все промытое золото добывалось теми же старателями и сдавалось ими в приисковые казенные конторы по 1 р. 70 к., а в книгах все было разложено на поденщину. В результате правительству каждый золотник, намытый этим казенным способом, обходился средним числом в 3 1/2 – 4 1/2 рубля. Разница, которая получалась между платой старателям и показной ценой, достигала почтенной цифры – 2, 3 рубля с каждого золотника. Сколько было нажито на этой незамысловатой операции, покажет приблизительный расчет: на казенных…ских промыслах добывалось в год золота до тридцати пудов. Воротилы казенных золотых приисков, считая прибыли с каждого золотника по 2 р., с тридцати пудов средним числом, за здорово живешь, получали ни больше, ни меньше, как двести тысяч рубликов в год. К этому нужно еще прибавить оклады жалованья чиновникам, затем суммы на различные командировки, разведки и комиссии; наконец, практиковался самый простой способ обкрадывания мелких служащих: маленькая чинушка расписывалась в получении двадцати пяти или тридцати рублей жалованья, а в действительности получала всего десять, пятнадцать рублей. Наконец, записывалось жалованье мифическим служащим, существовавшим только, на бумаге; спекулировали на провианте, который запасался рабочим, и т. д. Одним словом, велась крупная игра вкруговую, где «рука руку мыла». Донос какого-то Ароматова, конечно, канул в реку забвения, вместе с его автором.
– А на частных промыслах разве лучше? – спрашивал я Ароматова, который теперь сидел перед огнем на корточках и кулаком протирал глаза; я, в ожидании американского кушанья, тоже задыхался от густого дыма, и принужден был несколько раз выходить из землянки, чтобы дохнуть свежим воздухом.
– На частных пгомыслах, по кгайней меге, есть впегеди выход, – объяснял чудак. – Погодите, всем будет хогошо…
– Когда?
Ароматов повернул ко мне свое вспотевшее лицо, покрытое сажей, и с детской уверенностью сумасшедшего человека проговорил:
– А вот когда устгоим все по-амегикански… Вы не смейтесь, domine. У меня в голове иногда действительно немного ум за газум заходит, а все-таки нужно «совлечь с себя ветхого человека» и жить по-амегикански. По моему, Госсия и Амегика очень походят дгуг на дгуга. Это две молодые цивилизации, пгямая задача котогых выгаботать новые фогмы жизни.
Новое американское кушанье вкусом походило на спартанскую похлебку, и мне стоило большого труда отказаться от удовольствия проглотить его целую кружку.