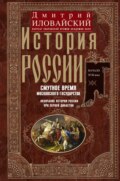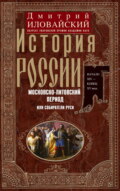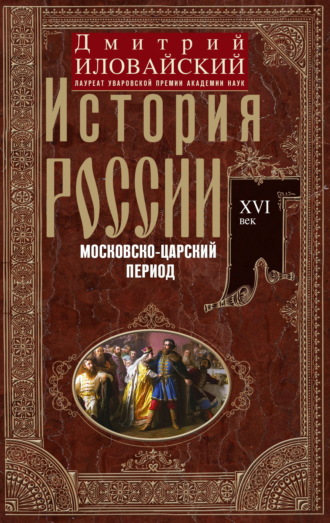
Дмитрий Иванович Иловайский
История России. Московско-царский период. XVI век
V
Детство и юность Ивана IV
Елена правительница. – Судьба удельных князей Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого. – Московские перебежчики и новая война с Литвой. – Дела крымские и казанские. – Постройки и новая монета. – Внезапная кончина Елены. – Боярщина. – Василий Шуйский и угнетение народа. Мягкое управление Ивана Бельского. – Неудачное нашествие Саип-Гирея. – Новое господство Шуйских. – Воспитание и характер Ивана IV. – Первые вспышки его самовластия. – Венчание на царство и брак с Анастасией Романовой. – Великие московские пожары и народный мятеж. – Священник Сильвестр. – Блестящее время царствования Ивана Васильевича. – Первый земский собор. – Алексей Адашев. – Исправление Судебника. – Митрополит Макарий и Стоглав
По смерти Василия III столица и области Московского государства беспрекословно присягнули на верность его трехлетнему сыну и преемнику Ивану. Но недаром Василий перед кончиной своей так беспокоился за судьбу своего семейства и за правильное течение государственных дел. Хотя во главе управления он и поставил свою молодую супругу Елену, приказав докладывать ей дела, однако главное правительственное значение естественно переходило теперь в руки высшего государственного учреждения или совета, именуемого Боярской думой. Эта дума, кроме двух братьев Василия и дяди Елены, князя Михаила Глинского, заключала в себе представителей знатнейших боярских родов, каковы: Шуйские, Оболенские, Бельские, Одоевские, Захарьины, Морозовы и некоторые другие. Между наиболее энергичными и честолюбивыми из этих представителей неизбежно должны были возникнуть соперничество и борьба за главные роли; к чему открывалось теперь удобное и широкое поле. Но прежде нежели это взаимное соперничество бояр успело резко обнаружиться, один за другим устранены были с дороги старшие родственники ребенка Ивана IV.
Едва прошла неделя после похорон Василия III, как его брата Юрия, удельного князя Дмитровского, еще проживавшего в Москве, схватили по доносу о какой-то крамоле и заключили в ту самую палату, где прежде сидел внук Ивана III, а его племянник Дмитрий. Обвинение состояло в том, что он будто бы стал подговаривать некоторых московских бояр перейти к нему на службу и вообще питал какие-то замыслы, думая воспользоваться малолетством Ивана Васильевича. Обвинения эти не представляют ничего невероятного; но они остались недоказанными. Юрий Иванович умер в заключении, как говорят, голодной смертью. За ним пришла очередь Михаила Глинского. По своему близкому родству с Еленой и по своей государственной опытности он надеялся быть главным ее советником и руководителем; но место самого приближенного к ней человека занял молодой боярин князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, вероятно сблизившийся с ней при помощи своей сестры Аграфены Челядниной, мамки Ивана IV. Естественно между Глинским и Оболенским возникла вражда. Глинский не скрывал своего негодования на поведение племянницы, и Елена пожертвовала дядей для своего любимца. В августе того же 1534 года Михаил Глинский был посажен в тюрьму, где вскоре умер подобно Юрию. За Глинским наступила очередь младшего дяди государева, то есть Андрея Ивановича Старицкого; но с ним справились не так легко, и дело едва не дошло до междоусобной войны.
Князь Андрей вначале спокойно жил в Москве; когда же исполнились сорочины по кончине Василия, он собрался ехать в свой удел; причем просил Елену о прибавке ему городов. На сию просьбу отказали; но по обычаю на память о покойном прислали ему шубы, кубки и коней с дорогими седлами. Андрей остался недоволен. Этим неудовольствием воспользовались злые люди; одни начали смущать Андрея тем, что ему готовится участь брата Юрия, а другие доносили Елене, что Андрей дурно о ней говорит. Между правительницей и ее деверем начались взаимные пересылки и объяснения. Андрей приехал в Москву, примирился с Еленой, но отказался назвать людей, которые его ссорили; при сем он дал на себя клятвенную запись, в которой обязывался не принимать на свою службу бояр, дьяков и детей боярских и вообще никого, кто отъедет от великого князя. Однако примирение было непрочно. Андрей продолжал сердиться за то, что ему не прибавили городов, и, когда в 1537 году Елена стала звать его в Москву на совещание о казанских делах, он не поехал под предлогом болезни. В Старицу послали доктора Феофила, и последний не нашел у князя никакой серьезной болезни, хотя тот лежал в постели. Стали его звать в Москву именем великого князя в другой и в третий раз. Андрей прислал грамоту; в ней он называл себя холопом великого князя, описывал свою скорбь, потому что не верят его болезни, но, между прочим, выражался так: «А прежде сего, государь, того не бывало, чтобы нас к вам, государям, на носилках волочили».
В Москву донесли из Старицы, что князь Андрей собирается бежать. Тогда Елена отправила нескольких духовных особ, чтобы уговаривать его; причем митрополит Даниил уполномочивал этих послов отлучить Андрея от церкви, если он окажет неповиновение. В то же время был выставлен сильный военный отряд, чтобы загородить ему дорогу в Литву. Посольство уже не застало Андрея в Старице; ибо, извещенный о посылке войска, он тотчас с женой и маленьким сыном выступил в поход, окруженный многочисленной дружиной. Он двинулся к Новгороду Великому и стал рассылать грамоты новгородским помещикам и детям боярским, призывая их к себе и говоря: «Великий князь мал, а государство держат бояре, и вам у кого служить, а я вас рад жаловать». Действительно, многие помещики из погостов приехали к Андрею. Таким образом, дело получало весьма опасный характер, и московское правительство спешило принять энергические меры. В Новгороде архиепископ Макарий с духовенством начал совершать молебны об избавлении от междоусобной брани; а московские наместники и дьяки спешили укрепить Торговую сторону, стены которой обгорели во время большого пожара; собрали все население и в пять дней успели вывести новую стену, вышиной в рост человека. Навстречу Андрею вышел из Новгорода отряд с воеводой Бутурлиным; с другой стороны подошел московский отряд под начальством любимца Елены Телепнева-Оболенского. В Тухолской волости, верст за пятьдесят не доезжая до Новгорода, Андрей встретился с московскими войсками. Обе стороны уже выстроились к бою; однако Андрей не решился начать битву и согласился вступить в переговоры с князем Оболенским. Последний дал клятву, что если Андрей положит оружие и поедет с повинной в Москву, то останется цел и невредим. Андрей поверил, но едва он прибыл в столицу, как его схватили и заключили в оковы; а Оболенскому притворно была объявлена опала за самовольно данное обещание. Многих бояр Андреевых и детей боярских подвергли пыткам и торговой казни (т. е. сечению кнутом на торгу); после чего они также заключены в оковы; новгородских детей боярских, приставших к Андрею, числом 30 человек, сначала били кнутом, а потом повесили по всей новгородской дороге в известном расстоянии друг от друга. Андрей спустя несколько месяцев, подобно Юрию, умер в заключении насильственной смертью. Так сурово расправилось московское правительство с последней попыткой удельного князя возобновить старые междоусобия. Вместе с этой попыткой совсем прекратились и старые удельные отношения. Московское единодержавие после того уже не подвергалось подобным тревогам28.
Отголосок старых удельно-княжеских и боярских притязаний представляет также бегство в Литву двух знатных вельмож, князя Семена Бельского и окольничего Ивана Ляцкого, в августе 1534 года. Последний принадлежал к потомкам Андрея Кобылы (от которого пошли и Романовы); а Семен Бельский был сыном того Федора Бельского, который был внуком Владимира Ольгердовича Киевского и, как мы видели, при Казимире IV бежал в Москву к Ивану III, покинув свою новобрачную супругу. Так как ее удержали в Литве, то Федор Бельский потом женился на рязанской княжне, родной племяннице Ивана III. Три его сына, Иван, Семен и Дмитрий, занимали высшие ступени в московской боярской аристократии. Но один из них, именно Семен, не довольствовался тем, а возымел притязания не только на отцовский Бельский удел, но и на Рязань, как на свое наследственное княжение, за прекращением мужской линии. (По-видимому, около того времени умер в Литве бежавший туда последний князь Рязанский.) Он надеялся достигнуть своей цели с помощью польско-литовского короля Сигизмунда I, так как в это самое время король, по истечении перемирия, возобновил военные действия против Москвы. В Литве рассчитывали на малолетство Ивана IV, то есть на беспорядки или смуты, имеющие произойти от женского правления и боярских партий, и надеялись воротить Смоленскую область; для чего король заключил союз против Москвы с крымским ханом Саип-Гиреем. Семен Бельский и Иван Ляцкий были в числе московских воевод, высланных для обороны западных и южных пределов, и стояли в Серпухове; но отсюда с несколькими детьми боярскими перебежали в Литву. Эта измена произвела в Москве большую тревогу, судя по дошедшим до нас донесениям некоторых пограничных литовских воевод королю Сигизмунду. Вот что узнали они от своих лазутчиков и от разных московских перебежчиков. Боярская дума велела схватить и посадить в заключение Семенова брата Ивана Бельского (стоявшего с войском в Коломне против татар), князя Ивана Воротынского с сыном и князя Богдана Трубецкого, потому что был слух, что они также хотят отъехать в Литву; но любопытно, что третьего брата, Димитрия Бельского, не тронули, а только отдали его на поруки, отобрали у него коней и переписали имение; также отдали на поруки Михаила Юрьевича Захарьина и дьяка Меньшого Путятина. (В это самое время был заключен Михаил Глинский.) Перебежчики прибавляли, будто между московскими большими боярами идут сильные несогласия и они между собой на ножах и что если король щедро пожалует Семена Бельского и Ляцкого, то, услыхав о том, будто бы многие князья и дети боярские также отъедут в Литву. Особенно московское правительство тревожилось за Новгород и Псков, еще не успевшие примириться с потерей своей самобытности, и действительно, по тем же донесениям, в Пскове происходило какое-то движение; пользуясь удалением большей части детей боярских для защиты границ, черные люди псковичи стали часто сходиться на вече и о чем-то рассуждать, хотя наместники и дьяки запрещали им эти сходки. Не вполне полагаясь на верность самих наместников и дьяков, правительство велело вновь привести их к присяге вместе с детьми боярскими. Новгородскими наместниками тогда были князь Борис Горбатый и Михаил Семенович Воронцов, а псковскими князь Михаил Кубенский и Дмитрий Семенович Воронцов (брат Михаила Семеновича). Тогда же, по распоряжению из Москвы и по благословению владыки Макария, наскоро выстроена была стена вокруг Софийской стороны трудами всего городского населения, не исключая и духовного чина (на что с неудовольствием указывает новгородский летописец, говоря, что прежде городские стены ставили всей новгородской волостью).
Сигизмунд щедро наградил Бельского и Ляцкого волостями; однако расчет его на московские беспорядки и несогласия не оправдался: правительница и боярская дума обнаружили энергию и распорядительность в борьбе с внешними врагами. Во главе думы тогда стояли князь Василий Шуйский, Михаил Тучков, Михаил Юрьевич Захарьин, Иван Шигона Поджогин.
Сначала литовские войска имели успех. Гетман Юрий Радзивилл, соединясь с крымскими татарами, летом 1534 года опустошил Северскую украйну, нигде не встретив сопротивления в открытом поле; а потом он отрядил туда же воеводу киевского Андрея Немирова; но последний был отбит от Стародуба и Чернигова. В то же время князь Вишневецкий неудачно приступал к Смоленску. Главная московская рать оберегала тогда южные пределы государства, так как опасались вторжения татар. Только глубокой осенью часть ее двинулась в Литву; причем, в свою очередь, не встретила неприятеля в открытом поле и беспрепятственно опустошила страну; а передовой полк под начальством князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского верст за сорок доходил до самой Вильны. По известиям польским, русские на этом походе совершали большие жестокости, без пощады жгли, убивали, пленили; а многих детей и женщин сажали на кол. По-видимому, обе стороны отличались варварским способом ведения войны. Но есть известия, что относительно православного населения литовских областей русское войско поступало мягче, отпускало многих пленников на свободу, а храмы Божии воеводы приказывали не трогать и ничего из них не брать. В 1535 году литовское войско снова вторглось в Северскую украйну, взяло Гомель и осадило Стародуб. Князь Федор Телепнев-Оболенский (брат Ивана) мужественно оборонял этот город, снабженный пушками и пищалями. Но неприятели, защищаясь турами, близко подошли к стенам и успели тайно сделать подкоп. Московские воеводы еще мало были знакомы с такими осадными работами и потому не сумели их предупредить; когда подкоп взорвал часть стены и произвел пожар, город был взят; жители большей частью избиты, воевода попал в плен. Но тем и ограничились успехи литвы. Когда неприятели ушли, москвитяне возобновили Стародуб. Кроме того, они успели во время этой войны построить на литовских границах новые крепости Себеж, Велиж и Заволочье. Литовцы, пытавшиеся взять Себеж, потерпели под ним поражение. Видя, что разорительная война только затягивается и никакой смуты в Москве не произошло, Сигизмунд желал уже прекратить борьбу. Переговоры завязались сначала издалека: между гетманом Радзивиллом и князем Иваном Телепневым-Оболенским при посредстве брата последнего Федора, находившегося в литовском плену. Долго обе стороны спорили о том, где должны идти главные переговоры: в Москве, или в Литве, или на границе. Московская дума твердо стояла за честь своего государя, хотя и малолетнего, и настояла на том, чтобы великое литовское посольство прибыло в Москву; для чего ему по обычаю отправлена была из Москвы опасная грамота. Зимой 1537 года приехал полоцкий воевода Глебович с товарищами. Переговоры о вечном мире по обыкновению начались с условий невозможных: Литва потребовала уступки Новгорода и Пскова; потом предлагала заключить мир на основании границ, которые были при Казимире IV и Василии Темном; потом просила только уступки Смоленска или другого равного ему города. Но бояре не дали никаких уступок. Наконец, после многих споров согласились заключить не мир, а только пятилетнее перимирие, считая от Благовещеньева дня 1537 года: обе стороны остались при том, чем владели.
Это перемирие развязывало Москве руки по отношению к другим ее врагам: Крыму и Казани.
Во время войны Сигизмунда с Москвой хотя крымский хан Саип-Гирей и был его союзником, но в самом начале этой войны против Сайпа восстал его племянник Ислам-Гирей, и Орда разделилась между ними. Московское правительство думало воспользоваться этим разделением; оно вступило в сношения с Исламом, посылало ему поминки и старалось вооружить его против Литвы; в то же время оно не прерывало вполне сношений и с Саип-Гиреем. Меж тем московский беглец князь Семен Бельский, обманутый в своих надеждах на короля, отпросился у него под предлогом благочестивого путешествия в Иерусалим. Вместо того он отправился в Константинополь и начал подговаривать султана Солимана к войне с Москвой, думая с помощью турок и татар осуществить свои планы относительно Рязанского и Бельского уделов. Султан, по-видимому, согласился помогать ему и вместе с ним послал в этом смысле приказы хану Крымскому и паше Кафинскому. Но в это время уже прекратилась война Москвы с Литвой. Ислам-Гирей известил Москву о происках Бельского. Московское правительство стало уговаривать Ислама, чтобы тот схватил и выдал ему Бельского, обещая за то большие поминки. Ислам обещал; но сам он вскоре был убит одним из ногайских князей. Тогда Саип-Гирей снова соединил Орду под своей властью. Он немедля потребовал от Москвы больших поминков, грозя в противном случае прийти с войском, и уже не «голою ратью», как его старший брат Магмет-Гирей, а с пушечным нарядом и с конницей турецкого султана. Он требовал также, чтобы Москва оставила в покое его племянника Сафа-Гирея Казанского.
Мы видели, что Василий III посадил в Казани касимовского царевича Еналея как своего подручника. Но после Василия, во время войны с Литвой, в Казани снова взяла верх партия крымская; Еналей пал жертвой заговора, и казанцы опять призвали к себе Сафа-Гирея. Однако и московская партия не хотела уступить; некоторые казанские князья и мурзы известили московское правительство, что если оно пришлет старшего Еналеева брата Шиг-Алея, то они помогут ему снова сесть в Казани. Елена Васильевна, посоветовавшись с боярами, призвала Шиг-Алея из его белозерского заключения в Москву и оказала торжественный прием ему и его жене Фатиме; причем угощала их царским обедом и щедро наделила подарками. Но в то время война с Литвой еще продолжалась, и наши действия против казанцев не были удачны. Сафа-Гирей несколько раз вторгался и опустошал наши области поволжские и поокские. Когда же война с Литвой прекратилась, в Крыму вслед за тем было восстановлено единодержавие Саип-Гирея, который грозил вторжением, если московское войско пойдет на Казань. Это обстоятельство на время приостановило московские предприятия в ту сторону.
В связи с литовской войной и опасностями от татарских вторжений в управление Елены совершены постройки нескольких новых городов или крепостей (Заволочье, Себеж, Буйгород, Балахна, Мокшан) и обновление старых (Владимир, Новгород Великий, Устюг, Вологда, Пронск). Наиболее же замечательное построение того времени представляет московский Китай-город. Уже Василий Иванович задумал усилить укрепления столицы и поставить другую крепость рядом с Кремлем, в том же пространстве между Москвой-рекой и ее притоком Неглинной. Елена и бояре поспешили выполнить его намерение ввиду грозившей тогда Литовской войны, и летом 1534 года приступлено было к работам. Сначала вырыли глубокий ров от Неглинной к Москве-реке через Троицкую площадь, где происходили судные поединки, и так называемый Васильевский луг; чем отделили от Большого посада часть его, примыкавшую к Кремлю и заключавшую в себе по преимуществу торговые места. Потом вдоль этого рва в следующем 1535 году, при торжественном освящении митрополитом Даниилом, заложена каменная стена с башнями и воротами (Сретенская, Ильинская, Варварская и Козмодемьянская). Потом выведены две боковых стены, примкнувшие к Кремлю. Строителем был один из иноземных (итальянских) архитекторов, Петр Малый Фрязин. Издержки на это сооружение разложены были на бояр, духовенство и торговых людей. Пространство, заключенное между новыми стенами, получило название Китай-города. Другим замечательным правительственным актом этого времени является улучшение монеты. Доселе из гривны серебра обыкновенно выделывали 250 денег по новогородскому счету или 260 по московскому, то есть около двух рублей с половиной. Но страсть к легкой наживе произвела большую порчу монеты; многие начали разрезывать настоящие деньги пополам и подмешивать олово; так что в одну гривну вмещали до 500 денег, или до пяти рублей. Следствием чего, конечно, были затруднения в торговле, крики и ссоры при расплате. Уже Василий III начал строго преследовать порчу монеты; при нем и после него хватали многих подделыциков из москвичей, смолян, вологжан, костромичей, ярославцев и других и казнили их в Москве; лили им в рот расплавленное олово, отрубали руки и тому подобное. Но так как зло продолжалось, то в 1535 году Елена запретила обращение порченой монеты, велела ее отбирать и чеканить новую серебряную, так чтобы из гривны выходило 300 денег новогородских или три рубля. При сем введена небольшая перемена в изображении: на монете по-прежнему оттискивался великий князь на коне, но только вместо меча теперь у него в руке было копье; отчего новые деньги потом стали называться «копейками».
Елена, по всем признакам, обнаружила немало твердости и самостоятельности в делах правительственных. Она также показывала себя приверженной к православной церкви и подобно Василию III часто ездила с маленькими сыновьями на богомолье к Троице-Сергию и в другие обители. Но, очевидно, ей все-таки не удалось приобрести народное расположение; а знатные бояре стали питать против нее скрытое неудовольствие. Главной причиной тому была, конечно, зависть к молодому Телепневу-Оболенскому, который слишком неосторожно пользовался слабостью к себе правительницы и хотел играть первую роль в государстве. Следствием возникшей отсюда вражды является преждевременная кончина Елены. Находясь еще в цветущих летах и пользуясь здоровьем, она вдруг и неожиданно скончалась в апреле 1538 года. Такая внезапная кончина, естественно, объяснялась не чем иным, как отравлением29.
Началась девятилетняя боярщина, ознаменованная ожесточенной борьбой за власть, всякого рода своеволием и грабительствами.
Во главе боярской думы стояла тогда фамилия Шуйских, именно старший из них, князь Василий Васильевич, тот самый, который отличился энергией и жестокостью в деле смоленских изменников. Устранив Елену, Шуйский, конечно, не пощадил и ее любимца. Еще не прошла неделя после ее смерти, как князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский был схвачен вместе с сестрой своей Агриппиной Челядниной, мамкой великого князя. Оболенского уморили в темнице голодом, а его сестру сослали в Каргополь и постригли в монахини. Чтобы породниться с юным государем, Василий Шуйский женился на его двоюродной сестре Анастасии. (Она была дочь сестры Василия III Евдокии Ивановны и крещеного казанского царевича Петра Ибрагимовича.) Боярская дума освободила заключенных при Елене князей Ивана Бельского и Андрея Шуйского. Но тотчас обнаружилось взаимное соперничество этих двух знатнейших фамилий, то есть Шуйских и Бельских. Каждая из них имела многочисленных родственников, приятелей и клиентов, которых, конечно, старалась возвысить чинами бояр и окольничих и обогатить разными пожалованиями. Шуйские оказались сильнее и взяли верх, так что Иван Федорович Бельский вскоре был снова заключен; пострадали и его сторонники. В числе последних находились сам митрополит Даниил и Федор Мишурин, один из любимых дьяков Василия III. Этого Мишурина Шуйские схватили на своем дворе и отдали для казни детям боярским, которые раздели его донага и отрубили ему голову на плахе перед тюрьмой, без государева приказа. В это время сам Василий Шуйский внезапно умирает; его значение в боярской думе переходит к его брату Ивану. Первым действием сего последнего было свержение митрополита Даниила; с него взяли грамоту, по которой он будто бы сам отрекся от архиерейства, а потом сослали его в тот же Иосифов Волоколамский монастырь, откуда он был призван на митрополию. На его место возвели Иоасафа Скрипицына, игумена Троицкого (в феврале 1539 г.). Иван Шуйский очевидно уступал своему брату в уме и энергии; он отличался более грубостью, высокомерием и корыстолюбием. Иван IV впоследствии вспоминал, как Бельский расхищал царскую казну под предлогом уплаты жалованья детям боярским, а на самом деле присваивал ее себе; причем из царского золота и серебра приказывал ковать себе кубки и сосуды, подписывая на них имена своих родителей, как будто они достались ему в наследство. «А всем людям ведомо, – прибавляет Иван IV, – при матери нашей у Ивана Шуйского шуба была мухояр зелен на куницах, да и те ветхи, и коли бы то их была старина, и чем было сосуды ковати, ино лучше бы шуба переменити». Вспоминая о высокомерии и грубости того же Шуйского, царь говорит, что когда он в детстве играл со своим младшим братом Юрием, то князь Иван Шуйский тут же «сидит на лавке, локтем опершися о постелю нашего отца, ногу наложив». Многочисленные клевреты Шуйских, конечно, спешили захватить доходные места наместников и судей в областях, где безнаказанно угнетали народ всякими поборами и торговали правосудием. Так, в Пскове свирепствовали наместники князь Андрей Шуйский и князь Василий Репнин-Оболенский. Псковский летописец говорит, что они были свирепы, как львы, а люди их, как звери дикие; от их поклепов добрые люди разбегались по иным городам, и честные игумены из монастырей бежали в Новгород, и не только сами псковичи уходили от лихих наместников, но пригоро-жане не смели ездить в Псков. «А князь Андрей Михайлович Шуйский был злодей: дела его были злы на пригородах и волостях; (возбуждая) истцов на старые тяжбы, он выправлял с ответчиков с кого сто рублей, с кого более; мастеровые люди во Пскове все делали для него даром, а большие люди несли к нему дары». Хищения и насилия внутренние сопровождались и внешними бедствиями: южные и восточные пределы наши безнаказанно опустошались крымскими и казанскими татарами; Шуйские не умели дать им отпор.
Митрополит Иоасаф, хотя и возведенный Шуйским, однако скоро от них отшатнулся, и склонился на сторону их соперников Бельских. В следующем, 1540 году, по ходатайству митрополита перед великим князем и думой, Иван Бельский был внезапно освобожден и занял свое место в думе, где к нему тотчас пристало большинство бояр, тяготившееся владычеством Шуйских и их клевретов. Руководство правлением перешло в руки Бельского, и дела немедленно приняли оборот более благоприятный для государства.
Во-первых, было освобождено из заключения семейство несчастного дяди государева Андрея Ивановича Старицкого, именно его супруга Евфросинья и маленький сын Владимир; последнему потом возвратили даже отцовский удел. Далее, правительство вняло доносившимся отовсюду жалобам на лихоимство и неправды княжьих наместников и тиунов и стало раздавать так называемые губные грамоты по северным городам, пригородам и волостям. Этими грамотами давалось жителям право самим выбирать себе из боярских детей губных старост или голов, которые с помощью земских сотских и десятских ловили разбойников и татей, судили их вместе с присяжными людьми или целовальниками и сами же исполняли приговоры. Таким образом, разбойничьи и татебные дела исключались из ведения государевых наместников и тиунов и отдавались самим жителям. Подобные губные грамоты встречаются и несколько прежде, но особенно стали они распространяться в управление Бельского. Население встретило их очевидно с большой благодарностью. Так, псковский летописец с радостью сообщает о даровании такой грамоты Пскову и отозвании из него Андрея Шуйского. «И начали, – говорит он, – псковские целовальники и соцкие судить лихих людей на княжем дворе в судебнице над Великой рекой и смертной казнью их казнить; остался во Пскове наместником один князь Василий Репнин-Оболенский, и была ему нелюбка большая до Пскович за то, что у них как зерцало государева грамота, и была христианам радость и льгота великая от лихих людей и от поклепщиков и от наместников, от их неделыциков и ездоков, кои по волостям ездят».
Почувствовалась перемена и во внешних делах. Сафа-Гирей продолжал нападать на Муромский и Владимирский край; Сайп-Гирей требовал больших поминков, которые хотели обратить в постоянную дань, а между тем татары его опустошали рязанские и северские украйны. В Крыму продолжал действовать и поднимать Орду на Россию наш изменник Семен Бельский. Саип-Гирей, сговорясь напасть на Московское государство общими силами с Сафа-Гиреем, задумал сделать большое нашествие, которое и произвел летом 1541 года. Но московское правительство заранее приняло энергические меры. Против казанцев выставлена была рать, которая расположилась под Владимиром и находилась под начальством Ивана Шуйского. А для наблюдения за Крымом послана другая рать в Коломну. Вдруг в Москву от наших степных сторожей или станичников пришли вести, что в поле появились великие сакмы (следы): видно, что шли войска, тысяч сто или более. Саип-Гирей действительно поднял почти всю Орду и имел у себя турецкую помощь с пушками и пищалями, также ногаев, астраханцев, азовцев и других. Тогда из Москвы двинули к берегам Оки главную рать, под начальством Дмитрия Бельского с товарищами; а на помощь Шуйскому против казанцев послали костромских воевод и Шиг-Алея с касимовскими татарами. Юный великий князь с братом своим торжественно молился в Успенском соборе перед иконой Владимирской Богоматери и перед гробом Петра митрополита. Потом вместе с митрополитом Иоасафом он отправился в боярскую думу и здесь предложил на обсуждение вопрос, оставаться ли ему в столице или ехать в другие (северные) города? Большинство бояр говорило против отъезда великого князя, который по своему малолетству не мог бы перенести больших трудов, промышлять о себе и обо всей земле. Митрополит был того же мнения и указывал на пример Дмитрия Донского, как при нем была разорена Москва, покинутая князем. Решено было, чтобы великий князь остался в столице, под покровом Богородицы и московских чудотворцев. Столицу деятельно приготовляли к обороне, расставляли пушки и пищали, расписывали людей по воротам, стрельницам и по стенам; посад укрепляли еще надолбами. На Оку к воеводам послали государеву грамоту с увещанием без всякой розни, крепко стоять за православное христианство и с обещанием жаловать ратных людей, их жен и детей. Грамоту читали с умилением; воеводы давали друг другу слово пострадать за христианскую веру и за своего юного государя. На речи воевод ратные люди с воодушевлением отвечали: «Хотим с татарами смертную чашу пить». Когда татары подошли к Оке и хотели переправляться, их встретил передовой полк под начальством князя Турунтая Пронского. Хан велел действовать из пушек и пищалей, чтобы очистить берег для переправы. Но к Пронскому прибыли со своими отрядами князья Микулинский, Серебряный, Оболенский и другие; наконец, показался и Дмитрий Бельский с большим полком; стали подходить и русские пушки. Видя такую многочисленную рать, хан удивился и с сердцем выговаривал князю Семену Бельскому, который обещал ему свободный путь до Москвы, так как московские войска будто бы ушли под Казань. Обманувшись в своих расчетах, Саип-Гирей не отважился на бой и ушел назад. Дорогой он остановился было под Пронском и хотел его взять; но тут воевода Жулебин приготовил всех жителей, в том числе и женщин, к отчаянной обороне; а между тем приближались Микулинский и Серебряный, посланные в погоню за ханом. Саип-Гирей не стал их ждать и ушел. Так неудачно окончил он свое нашествие. Сафа-Гирей на сей раз не двинулся к Казани, узнав о принятых против него мерах и о сношениях недовольных казанских вельмож с русскими воеводами.