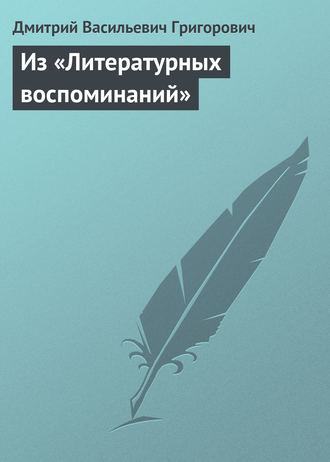
Д. В. Григорович
Из «Литературных воспоминаний»
Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое внимание не раз приковывали эти люди, – итальянцы по большей части, добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга; они являлись с шарманками, с кукольною комедией, собиравшею вокруг себя детское население дома, с певцами, плясунами и акробатами, ходившими на руках и делавшими saltomortale на голой мостовой; сколько помнится, они тогда никому не мешали – ни жителям, ни общественному порядку, – напротив, много прибавляли к одушевлению серого, унылого города. Следя за ними глазами, я часто спрашивал себя, какими путями могли они добраться до нас из Италии, сколько должны были перенести лишений в своем странствовании, как они у нас устроились, где и как живут, довольны ли или с горечью вспоминают о покинутой родине и т. д. Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «И так сойдет!» – казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели» – повести, которую я с жадностью перечитывал. Я прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию.
Около этого времени я случайно встретился на улице с Достоевским, вышедшим из училища и успевшим уже переменить военную форму на статское платье. Я с радостным восклицанием бросился обнимать его. Достоевский также мне обрадовался, но в его приеме заметна была некоторая сдержанность. При всей теплоте, даже горячности сердца, он еще в училище, в нашем тесном, почти детском кружке, отличался не свойственною возрасту сосредоточенностью и скрытностью, не любил особенно громких, выразительных изъявлений чувств. Радость моя при неожиданной встрече была слишком велика и искренна, чтобы пришла мне мысль обидеться его внешнею холодностью. Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных знакомствах и попытках и просил сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть ему теперешнюю мою работу, на что он охотно согласился.
Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то, – раздраженно заговорил вдруг Достоевский, – совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам… Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая…» Замечание это – помню очень хорошо – было для меня целым откровением. Да, действительно: звеня и подпрыгивая – выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; выражение: пятак упал не просто, а звеня и подпрыгивая, – этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом…
В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери – я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами.
Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Бальзак был любимым нашим писателем; говорю «нашим» потому, что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей. Не знаю, как потом думал Достоевский, но я до сих пор остался верен прежнему мнению и часто перечитываю некоторые из творений Бальзака. Не могу припомнить, каким образом, через кого перевод «Евгении Гранде» попал в журнал «Библиотека для чтения»; помню только, когда книга журнала попала к нам в руки, Достоевский глубоко огорчился, и было отчего: «Евгения Гранде» явилась едва ли не на треть в сокращенном виде против подлинника. Но таков уж, говорили, был обычай у Сенковского, редактора «Библиотеки для чтения». Он поступал так же бесцеремонно с оригинальными произведениями авторов. Последние были настолько смирны, что молчали, лишь бы добиться счастья видеть свою рукопись и свое имя в печати.
Увлечение Бальзаком было причиной, что Белинский, к которому в первый раз повел меня Некрасов, сделал на меня впечатление обратное тому, какое я ожидал. Настроенный Некрасовым, я ждал, как счастья, видеть Белинского; я переступал его порог робко, с волнением, заблаговременно обдумывая выражения, с какими я выскажу ему мою любовь к знаменитому французскому писателю. Но едва я успел коснуться, что сожитель мой, – имя которого никому не было тогда известно, – перевел «Евгению Гранде», Белинский разразился против общего нашего кумира жесточайшею бранью, назвал его мещанским писателем, сказал, что, если бы только попала ему в руки эта «Евгения Гранде», он на каждой странице доказал бы всю пошлость этого сочинения. Я был до того озадачен, что забыл все, что готовился сказать, входя к Белинскому; я положительно растерялся и вышел от него как ошпаренный, негодуя против себя еще больше, чем против Белинского. Не знаю, что он обо мне подумал; он, вероятно, смотрел на меня как на мальчишку, не умевшего двух слов сказать в защиту своего мнения.
Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. Такой почерк видел я впоследствии только у одного писателя: Дюма-отца. Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье, особенно восхищали его «Записки демона». Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три.
Раз утром (это было летом) Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанная.
– Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай, – сказал он с необычною живостью.
То, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь, явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди».
Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части? С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.







