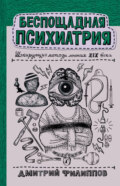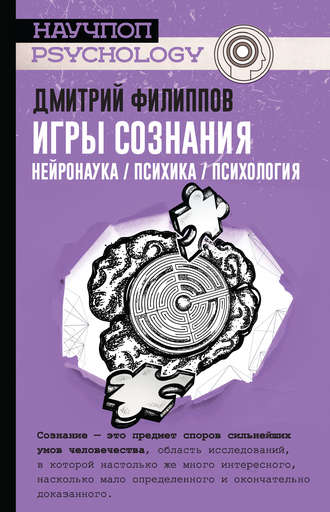
Дмитрий Филиппов
Игры сознания. Нейронаука / психика / психология
Шизофрения и self
Как психическая болезнь влияет на self (Я, собственное я, самость, эго, das Ich, The I)? Предполагается, что есть нарушения, которые не затрагивают self и не коверкают минимальную самость человека, и есть болезни с более серьезными последствиями. То, что в диагностических справочниках относят к «Расстройствам личности», не вредит self или, говоря на языке Уголовного кодекса, наносит self легкие повреждения или повреждения средней тяжести. Малая психиатрия работает именно с такими болезнями, при которых повреждения self квалифицируются как малозаметные, легкие и средние.
Что происходит с self при шизофрении? Быть может, именно из-за катастрофической поврежденности self эта болезнь считается такой «страшной»?
Изучение шизофрении со времен Блейлера не проходит мимо понятия «чувство self» [1]. В феноменологии шизофрении испорченность “чувства self” понимается как одна из ключевых характеристик больного сознания пациента. Эта испорченность проявляется по-разному.
Во-первых, self начинает слишком активно само себя осознавать. Яйность (самоидентичность, осознание границ собственного субъективного опыта), которая в норме остается незамеченной, как сердцебиение или дыхание, вместе с другими невидимыми слоями психики поднимается в рабочее пространство сознания. Внутрипсихические события становятся настолько рельефными, что воспринимаются как объекты внешнего мира.
Во-вторых, вместе с гиперрефлексией[15] приходит ослабление субъектности. Self ненормально активизируется и одновременно теряет силу. Ослабление субъектности проявляется в изменении ощущения агентности, т. е. представления о себе как о действующем субъекте, авторе своих поступков.
Известный симптом шизофрении – «голоса». Из-за ослабления границ self, внутренний голос воспринимается как звучащий извне. Гиперрефлексия добавляет впечатление, будто «голоса» агрессивно вторгаются в жизнь человека, докучая своими критическими комментариями.
***
Когда Крепелин сравнивал шизофрению с «оркестром без дирижера», он имел в виду не только заметные странности в речи и поведении, но и расстроенное самоощущение человека. Психиатров больше всего увлек первый аспект – нерациональность мышления шизофреника, необычность восприятия и причудливые убеждения.
Так получилось, что к проблеме self первыми подобрались философы-феноменологи, а психиатры взялись за self уже после них. Философия создала исходную систему координат для изучения self, обозначила точку, с которой начала движение к пониманию этого явления психиатрия, а позднее и нейронаука.
Признав, что шизофрения – это «расстройство яйности» [2], психиатры все равно склоняются к тому, чтобы изучать менее философские аспекты этой болезни. В американских клинических руководствах последний раз проблемы с «чувством self» упоминаются при описании шизофрении в DSM-3-R (1987 г.). Нарушение «чувства self» там предлагается понимать как дефект «границ эго», из-за которого человек теряет уверенность в собственной идентичности. Как следствие, появляется бред воздействия, будто сквозь брешь в границе self прорывается внешняя, враждебная сила.
DSM-4 (1994 г.) уже ничего не говорит о self в контексте шизофрении. На «чувство self» рекомендуется обратить внимание при диагностике пограничного расстройства личности. О неисправном self в этом случае сигнализирует неустойчивость я-концепции. Человек теряет сам себя – в том смысле, что он не может остановиться в выборе «версии самого себя»: резко меняет жизненные цели, ценности, гендерную идентичность, круг общения и т. д.
Наконец, в DSM-5 (2013 г.) «чувство self», помимо главы о пограничном расстройстве личности, встречается в диагностических критериях диссоциативного расстройства идентичности, где описывается нарушение чувства непрерывности self и чувства агентности. Человек становится наблюдателем собственного поведения и собственной речи, не имея сил повлиять на наблюдаемое.
Если учесть особенности психиатрической таксономии[16], то понятно, почему одно и то же ментальное состояние считается типичным для разных болезней. Нарушение агентности, т. е. нарушение восприятия себя как субъекта, который владеет собой и сам является автором своих действий, – эта проблема с self характерна для многих психических расстройств, включая шизофрению.
***
Как писал Мерло-Понти, настоящее – это структура, состоящая из двух абстрактных моментов, из субъекта и объекта. Особенность шизофрении (а если допустить смелое обобщение, то и практически всех аномалий психики) с точки зрения философской феноменологии в том, что эта болезнь разлучает субъект и объект, Я и мир. Структура настоящего распадается.
Self и мир теряют синхронность существования, которая обеспечивает человеку нормальное ощущение собственного тела. Человек, как учат философы-феноменологи, всегда воспринимает мир через свою «воплощенность». «Я-переживания каждый соотносит с телом. Он локализует их в теле», – учит Гуссерль. В здоровом состоянии человек не отвлекается на собственную телесность. Шизофреническая гиперрефлексия приводит к тому, что тело, его отдельные части и телесные процессы (говорение, чувственное восприятие) отчуждаются и рассматриваются как суверенные объекты.
Если отталкиваться от представления о шизофрении как о болезни self, то привычное деление симптомов на продуктивные и негативные кажется немного неуместным. Продуктивные симптомы якобы что-то добавляют сверх нормы, а негативные якобы что-то убавляют. Психика рисуется диагностами как магазин или склад, в котором всегда должно быть определенное количество предметов разных типов. Когда их становится больше нужного, говорят о продуктивной симптоматике, когда меньше – о негативной. Но то состояние, которое в былые времена назвали бы «безумием», не исчерпывается количественными характеристиками.
Ясно, что при шизофрении происходит нечто более фундаментальное – меняется организация внутренней жизни. Без концепции self описать это изменение практически невозможно.
Аудиогаллюцинации – это ведь внутренняя речь, по сути своей совершенно нормальное явление. Но из-за аварии self внутренний монолог попадает под увеличительное стекло гиперрефлексии и превращается в «голоса».
Негативная симптоматика не так необычна, как галлюцинации. Ее меньше изучают, потому что практически все, что причисляют к негативным симптомам (абулия[17], апатия[18], ангедония[19] и т. п.), встречается в жизни каждого человека. Но в субъективной стороне этих симптомов, быть может, скрывается самая суть изменений «чувства self».
Немецкий психиатр Вольфганг Бланкенбург называл это “потерей естественной самоочевидности” [3], т. е. исчезновением уверенности в доказанности существования self. И, как следует из приведенного утверждения Мерло-Понти, если self теряет самоочевидность, одновременно рушится внешний мир, т. е. мир больше не воспринимается в фоновом режиме как должное, как данность. Мир становится плохим.
***
Психиатры любят изучать разного рода когнитивные нарушения при шизофрении. Все эти нарушения относятся к тому, что Ясперс называл областью «объективных симптомов». Изучать этот аспект болезни легче всего. Это самый наивный уровень понимания шизофрении, проявляющийся в народном термине «сойти с ума». «Сойти с ума» – значит перестать быть умным, не поглупеть, а лишиться ума насовсем.
Но шизофрения не отнимает ум. Бредовым системам, существующим в сознании некоторых пациентов, свойственна нетривиальная комплексность и многомерность. Рефлексивное сознание шизофреника в каких-то случаях способно демонстрировать больше силы, чем рефлексивное сознание условно здорового человека.
Например, умение видеть закономерности там, где их не видит обычный человек. За пределами психиатрических стационаров таких людей называют «любителями конспирологии». Кстати сказать, главный инструмент для измерения силы ума, используемый в наши дни, тест IQ, практически полностью состоит из заданий по выявлению закономерностей. Интересно было бы выяснить, есть ли корреляция между хорошими результатами теста и увлечением “теориями заговора”. То, что корреляции между высоким IQ и развитым умом не существует, по-моему, ясно и без дополнительных исследований.
Вообще мышление при шизофрении напрасно считается дискредитированным и ослабленным. Локк много веков назад делил проблемы с интеллектом на две группы: в одной группе «идиоты», у которых слишком мало мыслей, а в другой группе «безумцы», у которых мыслей слишком много. Проблема в том, что распавшаяся связь между Я и миром убийственно влияет на характер мышления. Оно становится очень аналитическим и теряет спонтанность. В быту такой способ думать и говорить называют «занудством».
Поиск связи между дефектами self и ослаблением ума затруднен тем, что умственные функции можно оценить (оперативная память, внимание и др.), а к абстрактному понятию self довольно сложно подобраться с психометрическими инструментами.
Что касается нейронных коррелятов self, то их ищут, обращая внимание на те регионы мозга, которые патологически изменены у людей, не осознающих недостатки каких-либо своих способностей. Предположительно, именно здесь (задняя теменная и медиальная префронтальная кора) происходит работа по осознанию собственной самости [4].
***
Есть версия, что для понимания связи больного self с когнитивными нарушениями надо обратить внимание на то, как сознание больного человека работает с временем [5]. Взять, например, агентность. Пациенты могут по-разному концептуализировать нарушение агентности: их контролирует Бог/Дьявол, они в рабстве у инопланетян, ими командует телевизор или спецслужбы и т. п. Фабула бреда – лишь набор символов, с помощью которого оформляется дефект агентности, который происходит из-за сбоя в обработке сенсорных сигналов во времени. Рассинхронизация Я и мира происходит на уровне self и выражается в определенных психиатрических симптомах. Асинхронность можно выявить экспериментально с помощью тестов, когда от человека требуется оценить одновременность сигналов и длительность временного промежутка. При шизофрении с прохождением таких тестов бывают довольно серьезные затруднения.
Темпоральность[20] в философской феноменологии имеет очень важное значение. Время – это один из ключевых компонентов реальности, который определяет природу человеческого сознания. Сознание всегда живет внутри времени и общается с миром, находясь в потоке времени. Гуссерль объясняет, что такое темпоральность на примере восприятия музыки. Когда человек слушает музыку, он одновременно осознает ноту, звучащую сейчас, ноту, которая звучала раньше, и ноту, которая зазвучит после той, что звучит сейчас.
Когда при обработке временного потока происходят сбои, восприятие мира теряет стабильность. Восстановить ощущение стабильности мира человеку помогают шизофренические симптомы. Бредовые идеи играют роль смысловых подпорок, которыми человек пользуется для ремонта упавшего здания стабильного мироощущения.
***
Темпоральность, агентность – что еще ломается в self при шизофрении? Что-то происходит на базовом уровне дорефлексивного Я, там, где живой субъект ощущает себя живым. Self страдает от потери витальности[21], что клинически может проявляться в патологическом страхе смерти. К этому добавляются:
– потеря ощущения единства self (что проявляется в бессвязности мыслей и чувств);
– потеря ощущения онтической отделенности от мира (что проявляется в чувстве открытости сознания для внешних влияний);
– потеря ощущения собственной идентичности (что проявляется в бреде собственной сверхзначимости).
В гармоничном состоянии отделенность от мира и самоидентичность дополняют и поддерживают друг друга в структуре self. Непрерывность границ self обеспечивает человеку и миру, в котором человек существует, стабильность и порядок.
О том, что границы эго при шизофрении находятся в ненормальном состоянии, в свое время писали психоаналитики [6]. Считается, что понятие «границы эго» было введено учеником Фрейда Виктором Тауском в 1919 г. в работе «О возникновении “машины влияния” при шизофрении». Потом Пауль Федерн предложил всерьез изучить «границы эго» с психоаналитической точки зрения. Тауск и Федерн описывали эффект ослабления «границ эго» так же, как и другие исследователи шизофрении: потеря способности отличать вымыслы (домыслы) от объективной реальности.
Характерно то, как психоаналитики овеществляли нарушения целостности self. Фрейд и Федерн использовали метафору амебы, чьи границы всегда подвижны и в зависимости от условий среды расширяются или сужаются. Те, для кого границы амебы слишком призрачны, чаще говорили о стенах, ограничивающих территорию эго. Вильгельм Райх в 1940-х гг. писал не просто о стенах, а о «броне Я».
Влечение фрейдистов к физическим метафорам хорошо известно. В психоанализе, надо признать, чувствуется дух стим-панка: психика в описании Фрейда выглядит, как мудреный гидравлический агрегат, внутри которого перемещается энергия – где-то чрезмерно скапливается, где-то высвобождается наружу, вырываясь, как пар из свистка, а где-то внутреннее давление разрывает всю систему.
***
Проблем с применением концепции self при работе с шизофренией – две.
Первая проблема связана с тем, что понятие self зависит от того культурного контекста, в котором это понятие развивалось. Имеется в виду контекст западной культуры с характерным делением на «личность» и «коллектив», представлениями об индивидуальном опыте и его ценности. В культуре, менее индивидуалистичной чем западная, потребуется другая интерпретация понятия self [7].
Влияние установок западной культуры видно в том, как Крепелин описывал шизофрению. Он пишет о «потере внутреннего единства мысли, чувств и деятельности, нарушении высших чувств, нарушении воли, потере психической свободы, дезинтеграции личности» [8]. Подразумевается, что у self есть ядро, которое раскалывается при болезни. Шизофрения в таком описании выглядит, как своего рода внутриклеточный паразит, проникающий внутрь self и портящий его композицию и функциональность. Главные результаты деятельности этого паразита так печальны, потому что они не приветствуются культурой. Культура отрицательно оценивает потерю свободы, потерю воления, потерю чувства владения самим собой.
Свобода, автономия, неоспоримая агентность – все эти ценности с точки зрения транскультурной психиатрии не абсолютны. Можно представить общество, в котором одобряется состояние раба, без остатка отказавшегося от своей субъектности и во всем подчиняющегося другому человеку, группе людей или организации. В таком обществе образ независимого, самостоятельно решающего и свободно действующего человека будет вызывать неодобрение и пробуждать подозрения в его душевной ненормальности.
Еще одна проблема – общая для феноменологического подхода к психопатологии. Со времен Ясперса психиатрия, с чем бы она ни сталкивалась, делает очень большую ставку на способность врача разгадывать внутренний мир пациента, ориентируясь по той карте, которая дается врачу самим пациентом. Для концептуализации шизофрении self – хорошее рабочее понятие (с поправкой на культурный контекст). Но, как и все разновидности феноменологических концепций в психиатрии, «чувство self» стоит на очень шатком основании, составленном из интеллектуальных спекуляций и философских допущений.
Проблема с оценкой состояния self при диагностике шизофрении в том, что неполадки с self случаются на дорефлексивном уровне. Корни болезни уходят в глубочайший, таинственный слой яйности, но говорить с врачом о своих переживаниях приходится на конвенциональном, совершенно обычном языке. В итоге пациент передает собеседнику нарратив, сформировавшийся уже после осмысливания субъективного опыта, после проведения работы по подбору слов и метафор.
Кроме того, большая часть исследований, посвященных феноменологии шизофрении, основана на информации, собранной у пациентов, которых уже привели в стабильное состояние. Получается, что «увидеть» больное self пациента не удается из-за целой системы фильтров, один из которых – время, отделяющее момент беседы в стабильном состоянии от момента острого психоза.
В этом еще одно слабое место феноменологической психиатрии, появившейся в точке плодотворного пересечения философии и медицины, и более 100 лет помогающей врачам ослаблять страдания пациентов. Изменить отношение к феноменологическому методу побуждает не количество несовершенств этого метода, а его все четче проявляющаяся анахроничность. Чем больше обоснований получают методы объективного (нейробиологического) изучения психопатологии, тем больше сомнений в ценности феноменологического подхода, описанного некогда врачом и философом Карлом Ясперсом[22].
***
[1] Moe AM, Docherty NM. Schizophrenia and the Sense of Self. Schizophrenia Bulletin. 2014;40(1): 161–168.
[2] Sass LA, Parnas J Schizophrenia, Сonsciousness and the Self. Schizophr Bull. 2003; 29(3): 427–44.
[3] Ibid.
[4] Kircher T, David AS. Self-consciousness: an Integrative Approach from Philosophy, Psychopathology and the Neurosciences. (ed. by T. Kircher, AS. David) The Self in Neuroscience and Psychiatry. Cambridge University Press; 2003. pp. 445–473.
[5] Martin B., Wittmann M., Franck N., Cermolacce M., Berna F. and Giersch A. (2014) Temporal Structure of Consciousness and Minimal Self in Schizophrenia. Front. Psychol. 5: 1175.
[6] Г. Габбард, Э. Лестер. Психоаналитические границы и их нарушения. Класс, 2014.
[7] Maj M. The Self and Schizophrenia: Some Open Issues. World Psychiatry. 2012;11(2): 65–66.
[8] цит. по Fabrega H. The Self and Schizophrenia: a Cultural Perspective. Jr Schizophr Bull. 1989; 15(2): 277–90.
Переименование шизофрении
Проблема психиатрических диагнозов не в том, что они бывают недостоверными. Недостоверность и ненадежность диагнозов – это проблема всей медицины. Пока в роли медиков выступают люди, а не безошибочные роботы, разногласия при оценке тех или иных состояний организма неизбежны. Правда, в области диагностики психических болезней такая несогласованность воспринимается особенно чувствительно.
Исследования показывают, что разные психиатры с одинаковым уровнем компетенции часто ставят разные диагнозы одному и тому же пациенту. Например, в одном исследовании приводятся прискорбные сведения о том, как американские психиатры ставят диагнозы по DSM-5 [1]. Для анализа согласованности количественных данных в статистике используется коэффициент каппа Коэна. Значение каппы Коэна выше 0,8 говорит о хорошей согласованности систем. Так вот в этом исследовании ни один из психиатрических диагнозов не набрал 0,8. Только три диагноза поднялись выше 0,6, а показатель шизофрении был 0,46. Это значит, что вероятность получить один и тот же диагноз у двух разных психиатров удручающе мала.
Но дело в том, что эта вероятность не очень велика и в других сферах медицины. При диагностике инфекции послеоперационной раны каппа Флейса (аналог каппы Коэна для сравнения более чем двух систем оценки) составляет 0,44 [2]. При выявлении метастаз в позвоночнике – до 0,59 [3].
В то же время есть другие исследования, которые говорят, что с психиатрической диагностикой все не так уж плохо. Например, в 1991 г. посчитали каппу Коэна для DSM-3-R. У шизофрении результат – 0,94 [4]. Если диагностику по DSM-5 проводить с использованием грамотно составленных опросников, то каппа Коэна может быть очень даже впечатляющей, достигая в случае с биполярным расстройством 1, т. е. уровня идеальной согласованности результатов диагностики разными специалистами [5].
При поиске метастаз и инфекций врачи ошибаются и допускают неточности, потому что их диагностическое вооружение или личный навык владения этим оружием далеки от абсолютного совершенства. Но в случае с психиатрией слабость связана с концептуальными особенностями работы врача-психиатра.
***
В каком-то смысле вся психиатрическая диагностика представляет собой околофилософское исследование, качественно отличающееся от работы лаборанта, ищущего в чашке Петри признаки инфекции. Психиатрия развивается как саморедактирующийся дискурс. Ярче всего этот процесс иллюстрируется историей переименования болезней. В изменении имен есть что-то деконструкторское и постмодернистское à la Деррида. Психиатры, увлеченно переименовывающие болезни, встают в один ряд с объектом их изучения – бредящими людьми с разрушенным синтаксисом, которые придумывают неологизмы[23], извращают метафоры и путаются в ими же выдуманной терминологии.
Справедливости ради надо сказать, что термины в психиатрии иногда меняются по причинам, формально находящимся вне психиатрической науки.
Подходящий пример – Япония. Отказ от японского слова, обозначающего шизофрению, в Японии произошел по инициативе сообщества родственников больных людей. Это слово приносило с собой лишнее напряжение в социальную жизнь пациентов. Отказаться от одного слова и взять другое слово – несложно. Было решено, что термин не так уж ценен, если он не отражает этиологию[24], симптоматику и характер болезни, а лишь маркирует некий набор явлений психической жизни.
Для японцев «болезнь расколотого сознания» (так иероглифами передается греческое слово «шизофрения») – не просто неудобная этикетка, которую захотелось заменить на новую. В 1930-е гг. японская психиатрия заимствовала вместе со словом «шизофрения» крепелиновское учение о том, что это слово обозначает. Западное слово пришло в японский культурный контекст вместе со своими коннотациями, а именно вместе с представлением о том, что у больного шизофренией катастрофически нарушены ментальные процессы, у него ослаблена воля, он не может функционировать как полноценный член общества, и он неизлечим.
Был еще один нюанс. С самого начала изучения шизофрении исследователи обсуждали роль наследственности. Японию в то время увлекла мода на евгенику[25]. 1930-е гг. – непростой период человеческой истории, когда политика сблизилась с разного рода учениями, предлагавшими радикальные способы переделки общества. Один из наиболее опасных гибридов получился в результате скрещивания политики и евгеники. В Японии эта тенденция воплотилась в Евгеническом законе 1940 г., обязавшем подвергать принудительной стерилизации психически больных.
Между прочим, с позиции японских националистов, евгеническая политика абсолютно неуместна в Японии. Правительство, берущееся чистить генофонд, ведет себя как зоотехник на ферме, но японцы – народ божественного происхождения, который невозможно сделать еще лучше.
Как бы то ни было, Евгенический закон отменили только в 1996 г. В свете воспоминаний о евгенике и теории чистоты расы японский термин, использовавшийся для обозначения шизофрении, обрел шлейф мрачноватых исторических ассоциаций. Этот вид стигмы понятен не одним японцам.
Так получилось, что к шизофрении прилепился не только имидж жуткой болезни, уничтожающей self, но и представление о том, что болеют этой болезнью люди, стоящие особенно низко в иерархии человеческих существ – не просто опасные для общества, но предопределенные к пожизненному несчастью. Есть мнение, что люди больше боятся соседства с больными, чье ненормальное состояние вызвано наследственностью (т. е. «родовым проклятьем»), а не социальными или психологическими причинами [6].
Вводя в 2002 г. новый термин («болезнь потерянной согласованности» или «расстройство, связанное с потерей координации мышления»), японские психиатры подчеркивали важность изменений, произошедших в науке о шизофрении. Эта болезнь больше не считается фатально неизлечимой, а больного не нужно отделять от человеческого сообщества, выгоняя его, как некогда выгоняли прокаженных.
В этом кроется духовная подоплека движения за переименование психических болезней. В представлении о такого рода недугах в обывательском сознании накопилось слишком много искажений. Через многие популярные идеи о проблемах с психикой просвечивает противоречивая и часто мешающая лечению тема судьбы. Наука вступает в контакт с этим нуминозным объектом – фатумом, предопределением, родовой судьбой – в области генетики.
Хорошо, что наука – это все-таки оптимистический проект в истории цивилизации. Ореол грусти, который окружает все, что связано с верой в существование неисправимых факторов вроде наследственности, по идее, должен рассеиваться в лаборатории ученого, желающего не только изучить природу, но и исправить ее. Начать эту работу можно с формальности – переместить обозначение болезни из семантического пространства, наполненного иррациональными верованиями, в пространство биологии.
Японский опыт показал, что ребрендинг шизофрении довольно быстро дает положительный результат. До переименования только 7 % врачей прямо сообщали пациентам, чем они больны. После переименования 78 % пациентов узнавали свой диагноз от врачей [7]. Врачи перестали стесняться и смело сообщали пациентам, как звучит их диагноз [8]. В России эта стеснительность, являющаяся обратной стороной стигматизации, заставляет психиатров шифроваться в присутствии пациентов и употреблять эвфемизмы типа «эс-си-эйч» (sch), только чтобы не произносить страшное слово.
Вместе с Японией на переименование решились корейские психиатры. Там термин «расстройство расколотого ума» был заменен на «нарушение внутренней сонастроенности». В Корее, кстати сказать, из тех же соображений был подобран новый перевод для «эпилепсии». В древности эпилепсия в Восточной Азии трактовалась как проявление одержимости злыми духами и название болезни, которым пользовались до последнего времени, содержало в себе намек на «сумасшествие». Новое корейское название эпилепсии – цереброэлектрическое расстройство [9].
В Гонконге с начала 2000-х гг. вместо китайского перевода слова «шизофрения» стали применять понятие «дисфункция мышления и восприятия». В Сингапуре официального переименования не произошло, но психиатры предпочитают вместо «болезни расколотого ума» говорить «нарушение мышления». На Тайване в 2012 г. приняли новый термин – «расстройство с нарушением функции мышления и восприятия».
В Европе есть свой опыт масштабного психиатрического ребрендинга. То, что раньше называли маниакально-депрессивным психозом, теперь называют биполярным расстройством. Оставив в стороне теоретическую сторону вопроса, можно сравнить звучание двух терминов. На эту тему проводились социологические исследования, и они показали, что в термине «маниакально-депрессивный психоз» люди улавливают отсылки к идее обреченности и неизлечимости. К тому же там присутствует слово «маньяк», крепко ассоциирующееся с серийными убийцами. «Биполярное расстройство» звучит менее пугающе. «Расстройство интеграции», одна из предлагаемых замен для слова «шизофрения», воспринимается обычными людьми как довольно безопасный с точки зрения социальной угрозы диагноз. Но желание дистанцироваться от человека с «расстройством интеграции» оказывается даже сильнее, чем настороженность в отношении человека с «шизофренией» [10].
Вариантов на замену «шизофрении» довольно много. Вот некоторые из них.
Синдром психотической восприимчивости [11]. Логика выбора ясна. Если в шизофрении главное – это психоз, то как тогда быть с тем фактом, что психозы случаются лишь эпизодически? Состояние, в котором шизофреник живет большую часть времени, можно считать состоянием с повышенной наклонностью к психозам. Важно также употребление слова «синдром». Этим словом дается указание на специфическую композицию болезни, которая выглядит как набор отдельных характеристик, «срабатывающих» одновременно. «Восприимчивость» или «склонность» можно смело использовать, не рискуя оставить за бортом какой-либо из негативных или продуктивных симптомов шизофрении.
Нейроэмоциональное расстройство интеграции [12]. Соответственно вместо параноидной шизофрении – нейроэмоциональное расстройство интеграции защитного типа. Вместо кататонической шизофрении – нейроэмоциональное расстройство интеграции моторного типа. Вместо шизофреноподобного расстройства – временное нейроэмоциональное расстройство интеграции. Вместо шизоаффективного расстройства – нейроэмоциональное расстройство интеграции биполярного типа. Есть подозрение, что из-за ассоциаций с неврологией такое настойчивое использование префикса нейро- приведет к путанице.
Синдром аберрантного[26] выделения важности [13]. В новом термине озвучивается мысль о том, что психическая патология возникает тогда, когда сознание по каким-то причинам выбирает аномальный способ интерпретировать внешние события. Это один из наиболее «антипсихиатрических» терминов, предлагаемых на замену «шизофрении». Он отсылает к смелым теориям о зыбкости и фактическом отсутствии границ между болезнью и нормой. Можно вспомнить, например, психоаналитика Винникота, считавшего, что психоз – это не более чем регрессия к тому состоянию, которые было нормальным в раннем детстве [14].
Болезнь Крепелина-Блейлера [15]. Традиционный и простой способ подобрать термин – использовать в названии имя того, кто совершил научное открытие. Однако, если уж ставить задачу очистить репутацию шизофрении и ослабить стигму, то, наверное, не совсем уместно прямолинейное использование слова «болезнь».
CONCORD (Youth onset CONative, COgnitive and Reality Distortion syndrome), начинающийся в юности синдром нарушения мотивации, когнитивных функций и восприятия реальности [16]. Самое странное в этом названии – то, что предлагаемая аббревиатура переводится с английского как «согласие».
Синдром дисфункции восприятия [17]. Строго говоря, нарушение восприятия встречается не только при шизофрении и не только у психически больных людей. В определенном смысле у близорукого человека тоже нарушено восприятие. Термин поэтому звучит слишком расплывчато.
***
Доводы против переименования шизофрении концентрируются вокруг вопросов более фундаментальных, чем стигматизация, с которой сталкиваются пациенты. В конце концов, в истории языка много примеров того, как новое слово со временем окрашивалось в те же эмоциональные краски, что и старое, стигматизированное слово. Пройдет время, к новым словам привыкнут и перенесут на них старые суеверия.