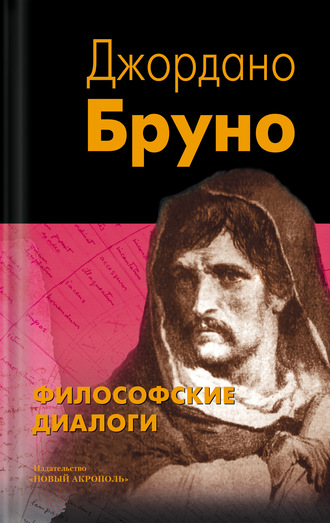
Джордано Бруно
Философские диалоги
Смерть Бруно
История повторяется. Конец философа начинается с измены его учеников. В 1591 году молодой аристократ Джованни Мочениго приглашает Бруно в Венецию, в свой дом, с просьбой обучить его «тайнам философии». Отношения учителя и ученика с самого начала складываются плохо. Мелочная, поверхностная и эгоистичная природа Мочениго, пронизанная страхом и праздноверием и требующая «экзотической информации», не могла объять широкие дали и глубокую мудрость учения Бруно.
Практически сразу он начинает обвинять Бруно в «демоническом пакте с дьяволом» и, противореча самому себе, упрекает его в «неисполнении данного ему обещания», обвиняя учителя в том, что тот учит его абстрактным моральным теориям и не открывает тайн магии. Чтобы отомстить за обиду и неудавшийся шантаж, он пишет донос на Бруно и предает его инквизиции «по велению совести и приказу исповедника». В ночь ареста Бруно Мочениго крадет все его рукописи и передает их дальше «по назначению», став, таким образом, виновником уничтожения ценнейших философских трудов. Он же передает в руки инквизиции тот материал, на основании которого философа осуждают на смерть.
Пребывание Бруно в тюрьмах инквизиции было долгим и мучительным. Ситуация ухудшается, когда в 1593 году его переводят в тюрьму инквизиции в Риме, где он и остается до дня своей казни.
В течение семи лет философа содержат в тюрьме в ужаснейших условиях, подвергают постоянным допросам и мучительным телесным пыткам, надеясь сломить его волю, добиться его раскаяния и отречения от всех своих идей и учений, признания заключенной в них ереси.
Все документы и свидетельства современников подтверждают, что Бруно держался с непоколебимым мужеством, твердостью и непримиримостью. Чем дольше продолжались пытки, тем сильнее становилось священное упорство философа, отвечающего на все вопросы одними и теми же словами: «Я не должен и не желаю отрекаться, мне не от чего отрекаться, я не вижу оснований для отречения…»
Смертный приговор Бруно был изложен инквизицией в пяти документах: «Призвав имя господа нашего Иисуса Христа и его преславной матери приснодевы Марии… называем, провозглашаем, осуждаем, объявляем тебя, брата Джордано Бруно, нераскаянным, упорным и непреклонным еретиком… Ты должен быть отлучен, как мы тебя отлучаем от нашего церковного сонма и от нашей святой и непорочной Церкви, милосердия которой ты оказался недостоин…»
Услышав приговор, в зловещей тишине Джордано Бруно произносит последние слова перед смертью: «Кажется, что вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его».
Образцом чудовищного лицемерия является просьба о более мягкой казни для Бруно – «без пролития крови, учитывая посмертную судьбу» его «еретической души». На самом деле просьба состояла в том, чтобы из двух форм казни, предусмотренных для еретиков, выбрать вторую – осужденного не четвертовать раскаленными щипцами (так как в этом случае его душа попадет в ад), а сжечь без пролития крови (такой вариант оставляет еще шанс на пребывание души в раю).
Казнь состоялась 17 февраля 1600 года на Площади Цветов в Риме. Отмечая очередной церковный праздник, город бурлил сотнями тысяч паломников. Во всех церквях читались мессы, распевались псалмы, шествия с образами святых отовсюду направлялись к собору Святого Петра. Костры на Кампо ди Фьори входили в обычную программу праздника. Еще папа Климент VIII провозгласил, что перед началом церковных торжеств нужно воздать хвалу Господу святым делом – осуждением и сожжением еретиков. Казнь Бруно происходила под утро, при свете факелов. Чтобы продлить мучения казнимого, сначала развели небольшой костер и постепенно усиливали огонь, подбрасывая сухой хворост. Все то время, пока пламя постепенно пожирало тело философа, его живой взгляд не переставал скользить по собравшейся толпе. Бруно умер молча, не проронив ни слова, не издав ни стона.
Так ушла с арены этого мира Душа одного из благороднейших людей эпохи Возрождения, оставив за собой божественные следы.
В качестве эпитафии мы процитируем слова профессора X. А. Ливраги: «Никогда не забывайте: следы Титана разные, но звезды, отражающиеся в этих следах, – всегда одни и те же…»
Елена Сикирич,президент культурной ассоциации«Новый Акрополь» в России
О ПРИЧИНЕ, НАЧАЛЕ И ЕДИНОМ
DE LA CAUSA,
PRINCIPIO E UNO
1584
Перевод М. A. Дынника
Печатается no изданию: Джордано Бруно. Диалоги. – М.: Госполитиздат, 1949.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО, написанное знаменитейшему СИНЬОРУ МИКЕЛЮ ДИ КАСТЕЛЬНОВО[1],
синьору ди Мовисьеро, Конкресальто и ди Жонвилля, кавалеру Ордена христианнейшего короля, советнику Его тайного совета, капитану 50 солдат и послу у светлейшей королевы Англии
Знаменитейший и единственный кавалер, обращая взоры от созерцания к восхищению вашим великодушием, настойчивостью и заботливостью, при помощи которых вы, прибавляя услугу к услуге, благодеяние к благодеянию, меня победили, обязали и связали и обычно преодолеваете все трудности, избегаете любой опасности и приводите в исполнение все ваши почетнейшие намерения, я начинаю понимать, сколь удачно вам подходит тот благородный девиз, которым вы украшаете свой грозный нашлемник, где та текучая влага, что нежно ранит, капая непрерывно и часто, благодаря своей настойчивости размягчает, выбивает, растирает, ломает и утончает некий плотный, жесткий, твердый и грубый камень.
С другой стороны, вспоминая, что вы (не говоря уже об остальных ваших главных подвигах), благодаря божественному препоручению и высокому провидению и предназначению, являетесь для меня достаточным и сильным защитником от несправедливых оскорблений, какие я претерпеваю (где нужно было обладать духом поистине героическим, чтобы не опустить рук, не отчаяться и не дать себя победить столь стремительному потоку преступной лжи, при помощи которой изо всей силы меня осуждала зависть невежд, предубеждение софистов, клевета недоброжелателей, нашептывания прислужников, злословие корыстолюбцев, неприязнь челяди, подозрения глупцов, недоумения болтунов, усердие лицемеров, ненависть варваров, бешенство плебеев, неистовства людей известных, сетования побитых, вопли наказанных; где недоставало лишь грубой, глупой и коварной злобы женщины, чьи лживые слезы обычно более могущественны, чем любые вздувшиеся волны и грозные бури предубеждений, зависти, злословия, нашептываний, предательств, гнева, злобы и неистовства); вот вижу я здесь ту устойчивую, крепкую и постоянную скалу, что вновь возникает и показывает верхушку над вздымающимся морем, что ни гневным небом, ни из страха перед непогодою, ни от могучих ударов вздувшихся волн, ни стремительными воздушными бурями, ни могучим дыханием Аквилона ничуть не сталкивается, не сдвигается и не сотрясается, но тем более укрепляется и подобной субстанцией окаменевает и облекается. Вы же одарены двойной добродетелью, благодаря которой могущественными становятся текучие и нежные капли, и тщетно грозятся бурные волны, и крепкий камень становится слабым против капель, и могучая вздымается против потоков теснимая ими скала. Вы одновременно безопасная и спокойная гавань для истинных муз и губительный утес, о который разбиваются лживые снаряжения и наступательные действия враждебных им кораблей. Меня же никто никогда не мог обвинить в неблагодарности, никто не порицал за невоспитанность и никто по справедливости не мог на меня пожаловаться. Ненавидимый глупцами, презираемый низкими людьми, хулимый неблагородными, порицаемый плутами и преследуемый зверскими отродьями, я любим людьми мудрыми; ученые мной восхищаются, меня прославляют вельможи, уважают владыки и боги мне покровительствуют. Благодаря такому столь великому покровительству вами я был укрыт, накормлен, защищен, освобожден, помещен в безопасном месте, удержан в гавани, как спасенный вами от великой и гибельной бури. Вам я посвящаю этот якорь, эти снасти, эти разорванные паруса и эти товары, самые дорогие для меня и самые драгоценные для будущего мира, с тем чтобы ваше покровительство спасло их от потопления в преступном, мятежном и враждебном мне океане. Они-το, покоясь в священном храме Славы, мощно сопротивляясь наглости невежества и прожорливости времени, вечно будут свидетельствовать о вашем победоносном покровительстве, с тем чтобы мир знал, что благородное и божественное потомство, вдохновленное возвышенной мудростью, зачатое размеренным чувством и порожденное ноланской музой, благодаря вам не умерло в завязи и надеется жить до тех пор, пока земля будет поворачивать свою живительную поверхность к вечному зрелищу других сияющих звезд.
ДЖОРДАНО НОЛАНСКИЙ К НАЧАЛАМ ВСЕЛЕННОЙ
Вновь направляя свой бег в высоту из Летейских
пределов,
Ты появись, о Титан, в круге светил, я молю.
Хоры блуждающих звезд, я к вам свой полет направляю,
К вам поднимусь, если вы верный укажете путь.
Ввысь увлекая меня, ваши смены и чередованья
Пусть вдохновляют мой взлет в бездны далеких миров.
То, что так долго от нас время скупое скрывало,
Я обнаружить хочу в темных его тайниках.
Что же мешает твоим, ум озабоченный, родам?
Следует ли эту дань грубому веку отдать?
Землю потоки теней покрывают, – однако вершину
Все же ты, о наш Олимп, к яркому солнцу вздымай.
К СВОЕМУ ДУХУ
Ты глубоко, гора, в земле залегаешь корнями,
Но неудержно стремишь к звездам вершину свою.
Ум, высочайший предел ты всех вещей постигаешь,
Солнечный свет оттенив мраком подземных глубин.
Так не теряй своих прав и понапрасну не медли
Там, где потоки свои мрачный струит Ахеронт.
Смело стремись в высоту, в отдаленные сферы природы,
Ибо вблизи Божества ты запылаешь огнем.
К ВРЕМЕНИ
Старец медлительный ты, ты же быстрое. И замыкаешь
И размыкаешь. Назвать добрым тебя или злым?
Щедрость и скупость – все ты. Дары принося,
их уносишь.
Если ты что породишь, ты же убийца ему.
Все, что наружу несешь, ты вновь укрываешь в глубинах.
Все, что явило на свет, жадно глотаешь опять.
Так как ты все создаешь и так как ты все разрушаешь,
Я затрудняюсь назвать добрым тебя или злым.
Там же, где грозный удар в бешенстве ты замышляешь,
Злой угрожая косой, руку свою удержи;
Где отпечатки следов Хаос угрюмый скрывает,
Добрым себя не являй и не являй себя злым.
О ЛЮБВИ
Любви доступны истины вершины.
Сквозь адамантовы проникнув огражденья,
Мой гений свет несет; для наблюденья
Рожден, живет он вечным властелином;
Земли, небес и адовой стремнины
Правдивые дает изображенья,
Врагам наносит смело пораженья,
Внедряется в сердечные глубины.
Чернь низкая, зреть истину старайся.
Прислушайся к моим словам нелживым.
Безумная, раскрой глаза со мною.
Ребенком звать любовь ты не пытайся.
Сама изменчива – ты мнишь ее пугливой,
Незрячей будучи – зовешь ее слепою.
* * *
Единое, начало и причина,
Откуда бытие, жизнь и движенье,
Земли, небес и ада порожденья,
Все, что уходит вдаль и вширь, в глубины.
Для чувства, разума, ума – картина:
Нет действия, числа и измеренья
Для той громады, мощи, устремленья,
Что вечно превышает все вершины.
Слепой обман, миг краткий, доля злая,
Грязь зависти, пыл бешенства с враждою,
Жестокосердье, злобные желанья
Не в силах, непрерывно нападая,
Глаза мои задернуть пеленою
И солнца скрыть прекрасное сиянье.
ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ
Собеседники:
Элитропий, Филотей, Армесс[2]
Элитропий. Как узники, привыкшие к мраку, освобожденные из глубины темной башни, выходят к свету, так многие, изощрившиеся в вульгарной философии, страшатся, восхищаются и приходят в замешательство, не будучи в силах переносить новое солнце твоих ясных понятий.
Филотей. Недостаток происходит не от света, но от глаз: чем более прекрасным и ярким будет солнце само по себе, тем более ненавистным и особенно неприятным оно будет для глаз ночных сов.
Элитропий. Трудное, редкое и необычное дело предпринимаешь ты, о Филотей, поскольку ты хочешь их вывести из мрачной пропасти к открытому, спокойному и ясному виду звезд, которые мы видим рассеянными в таком прекрасном разнообразии по синему плащу неба. Хотя твое благочестивое усердие будет только полезно людям, тем не менее нападки неблагодарных по отношению к тебе будут столь же разнообразны, сколь разнообразны те животные, которых благосклонная Земля порождает и взращивает в своем материнском и обильном лоне, если только верно, что человеческий род, в частности в каждом своем индивидууме, показывает разнообразие всех других, так что в каждом человеческом индивидууме целое проявляется более выразительно, чем в индивидуумах других видов. Вот почему некоторые, подобно подслеповатому кроту, лишь только почувствуют открытый воздух, как уже снова, разрывая землю, устремляются к своим родным темным тайникам. Другие, как ночные птицы, едва только увидят, что с ясного востока восходит розовая посланница солнца, как из-за слабости своих глаз стремятся скрыться в свои мрачные убежища. Все одушевленные существа, скрывающиеся от лика небесных светил и предназначенные для вечных расселин, провалов и пещер Плутона, призванные ужасным и мстительным зовом Алекто[3], раскрывают крылья и быстро направляются к своим жилищам. Но все те одушевленные существа, которые рождены для того, чтобы видеть солнце, радуясь окончанию ненавистной ночи, возблагодарив благосклонность неба и приготовившись воспринять центрами шаровидных кристаллов своих глаз столь сильно желанные и долгожданные лучи, сердцем, голосом и руками поклоняются востоку. После того как прелестный Титан погнал своих пламенных коней с золотого востока, нарушая снотворное молчание влажной ночи, начинают рассуждать люди, блеять невинные, беззащитные и покрытые руном отары, мычать рогатые стада под наблюдением грубых земледельцев. Ослы Силена ревут, чтобы снова, защищая смущенных богов, устрашать глупейших гигантов[4]; поворачиваясь на своем грязном ложе, назойливым хрюканьем оглушают их здоровенные свиньи. Тигры, медведи, львы, волки и лживые лисицы, высовывая головы из свои берлог, с пустынных высот наблюдают ровное поле охоты, испуская из своих звериных глоток хрюканье, рычанье, вой, рев, рыканье и рявканье. В воздухе и под листвой ветвистых деревьев петухи, орлы, павлины, журавли, горлинки, скворцы, воробьи, соловьи, галки, сороки, вороны, кукушки и цикады, не мешкая, отвечают и удваивают свое шумливое щебетанье. И еще с водной неустойчивой поверхности белые лебеди, пестрые утки, хлопотливые гагары, болотные чирки, хриплые гуси, жалобно квакающие лягушки наполняют уши своим шумом, так что жаркий свет солнца, рассеявшись в воздухе этого более счастливого полушария, будет сопровождаем приветствиями, быть может даже докучными, столь многих и столь разнообразных голосов, сколь разнообразны животные, которые их издают.
Филотей. Не только обычно, но и естественно и необходимо, чтобы каждое одушевленное существо подавало свой голос, и невозможно, чтобы животные производили членораздельные звуки и делали правильные ударения, как люди, ибо противоположны их телосложения, различны вкусы и неодинаково питание.
Армесс. Пожалуйста, дайте мне возможность сказать также и со своей стороны не относительно света, но относительно некоторых обстоятельств, не столь увеселяющих внешние чувства, сколь тревожащих внутреннее чувство того, кто видит и наблюдает. Ибо ради вашего мира и вашего покоя, которых с братской любовью я вам желаю, я не усмотрел, чтобы из ваших разговоров могли быть образованы комедии, трагедии, элегии и диалоги, подобные тем, которые, будучи недавно выпущены вами в свет, заставили вас замкнуться и уединиться в своем жилище.
Филотей. Говорите свободно.
Армесс. Я не буду говорить, как святой пророк, как отвлеченный созерцатель, как апокалиптический кудесник или как ангелоподобная валаамская ослица; и не буду рассуждать, как вдохновенный Вакхом, как надувшийся ветром распутных муз Парнаса, или как Сибилла, оплодотворенная Фебом, или как вещая Кассандра, как наполненный от головы до пяток аполлониевым вдохновением, как прорицатель, просветленный оракулом или дельфийским треножником, как Эдип, распутывающий хитросплетения Сфинкса, как Соломон, разгадывающий загадки царицы Савской, как Калхас, истолкователь олимпийского совета, как вдохновенный Мерлин или как человек, ушедший из грота Трофония[5]. Но я буду говорить обычным и общераспространенным способом, как человек, который имеет совершенно другие намерения, чем дистиллировать сок большого и малого мозга, пока у него не останется в качестве сухого остатка твердая и нежная оболочка головного мозга; как человек, говорю я, который не имеет другого мозга, кроме своего собственного, которому отказывают в своем благоволении даже последние боги на Олимпе, составляющие небесную челядь (те, говорю я, которые не едят амброзии и не пьют нектара, но утоляют жажду подонками из бочки и разлитым вином, если не хотят удовольствоваться водой и нимфами; те, говорю я, которые обычно бывают более близкими к нам, более интимными и более разговорчивыми), как, например, бог Вакх или Силен – пьяный наездник на осле, Пан, Вертумн, Фавн, Приап, не удостаивающие уделить мне больше того, что они обычно сообщают даже своим лошадям.
Элитропий. Слишком длинное предисловие.
Армесс. Терпение, – заключение будет коротким. Выражаясь кратко, я дам вам возможность услышать слова, которые не нужно разъяснять, как бы подвергая их дистилляции, перегоняя в реторте, вываривая в ванне и сублимируя по рецепту квинтэссенции; но это будут слова, вложенные мне в голову кормилицей, которая была почти столь же толстокожа, грудаста, пузата, крутобедра и толстозада, как и та лондонка, которую я видел в Вестминстере; ее желудок согревался парой грудей, которые были равны сапогам гиганта Сан-Спарагорио и которые, если бы обработать их на кожу, наверно, образовали бы две феррарские волынки.
Элитропий. На этом следовало бы закончить предисловие.
Армесс. Сверх того, в заключение я хотел бы, чтобы вы объяснили (оставляя в стороне голоса и звуки, вызванные светом и блеском вашей философии), какими бы голосами хотели бы вы, чтобы мы, в частности, приветствовали тот блеск учения, который возник из книги «Пир на пепле»[6]? Какие это животные читали «Пир на пепле»? Я спрашиваю, водные ли это или воздушные, земные или лунные? И, оставляя в стороне предложения Смита, Пруденция, Фруллы, я хочу знать, ошибаются ли те, кто говорит, что ты обладаешь голосом бешеной и яростной собаки, а кроме того, что ты поступаешь то как обезьяна, то как волк, то как сорока, то как попугай, то как одно животное, то как другое, перемешивая предложения трудные и серьезные, нравственные и физические, подлые и благородные, философские и комические?
Филотей. Не удивляйтесь, братец, потому что это было не что иное, как пирушка, где мозги начинают управляться чувствами, внушаемыми им действием вкусов и запахов, напитков и пищи. Каковым может быть материальный и телесный пир, таким же точно оказывается словесный и духовный. Итак, этот диалогический пир имеет свои различные и разнообразные части в той же мере, как и тот, другой, имеет различные и разнообразные свои части; равным образом первый имеет специфические условия, обстоятельства и средства, подобно тому как и второй может иметь свои.
Армесс. Пожалуйста, помогите мне понять.
Филотей. Там, как это принято и как нужно, обычно находятся обыкновенная пища и салат, фрукты и домашние кушанья из кухни и из аптеки, для здоровых и для больных, холодные и горячие, в сыром виде и печеные, из животных, обитающих в воде и на земле, домашних и диких; жареное и вареное, созревшее и зеленое; вещи, которые служат только для питания, и такие, которые угождают вкусу; солидные и легкие, соленые и пресные, грубые и тонкие, горькие и сладкие! Так же и здесь с определенной последовательностью вам явились противоположности и разновидности, приспособленные к противоположным и разнообразным желудкам и вкусам тех, кому случалось присутствовать на нашем символическом пире, с тем чтобы никто не жаловался, что напрасно присоединился, а кому это не нравится, тот пусть примет участие в каком-либо другом пиршестве.
Армесс. Верно. Но что же ты скажешь, если кроме того на вашем пиру, на вашем ужине окажутся вещи, непригодные ни для салата, ни для пищи, ни для фруктов, ни для обычных кушаний, ни холодные, ни горячие, ни сырые, ни печеные; которые не удовлетворяют аппетита и не утоляют голода, не пригодны ни для здорового, ни для больного и, как оказывается, не вышли ни из рук повара, ни из рук аптекаря.
Филотей. Ты увидишь, что и в этом отношении наш пир не отличается от любого другого. Так же как и там, при самом лучшем угощении или же тебя обожжет какой-нибудь слишком горячий кусок, так что необходимо снова выбросить его наружу либо со слезами и плачем заставить его продвигаться по небу, пока не удастся его проглотить при помощи сильного толчка глотки; или у тебя заболит какой-нибудь зуб; или же пострадает твой язык, прикушенный благодаря хлебу; или какой-нибудь камушек поломает тебе зубы и поместится в них, заставляя тебя дышать всем ртом; или какой-нибудь кусок кожи или волос повара пристанет к твоему небу, вызывая у тебя рвоту; или же какая-нибудь рыбья кость остановится в твоем горле, заставляя тебя слегка кашлять; или же застрянет у тебя в глотке какая-нибудь косточка, подвергая тебя опасности задохнуться, – так и на нашем пире, благодаря общему нашему неудобству, находятся вещи, соответствующие и аналогичные этим. Все это происходит из-за прегрешения древнего прародителя Адама, из-за которого развращенная человеческая природа осуждена всегда иметь неприятности, присоединенные к приятному.
Аримесс. Благочестиво и свято. Но что вы ответите тем, кто говорит, что вы взбешенный циник?
Филотей. Я легко соглашусь с этим, если не целиком, то отчасти.
Армесс. Но знаете ли вы, что не так достойно порицания получать оскорбления, как наносить их?
Филотей. Для меня достаточно, что мои могут быть названы воздаянием, другие же были нападением.
Армесс. Даже боги могут получать оскорбления, претерпевать клевету и переносить хуления, но хулить, клеветать и оскорблять свойственно людям грубым, низким, ничтожным и преступным.
Филотей. Это верно. Однако мы не оскорбляем, но, стремясь к тому, чтобы к полученным неприятностям не присоединялись еще другие, отражаем оскорбления, сделанные не столько нам, сколько пренебрегаемой философии.
Армесс. Вы желаете, следовательно, казаться кусающейся собакой, чтобы никто не решался вас беспокоить.
Филотей. Это так, ибо я стремлюсь к спокойствию, и мне неприятны оскорбления.
Армесс. Так; но считают, что вы поступаете слишком решительно.
Филотей. С тем чтобы они не вернулись в другой раз и чтобы другие научились не вступать в диспуты со мной и с другими, пользуясь для этих умозаключений подобными средними терминами.
Армесс. Оскорбление было частным, месть – публичной.
Филотей. От этого она не становится несправедливой, ибо многие ошибки, которые по справедливости наказываются публично, совершаются частным образом.
Армесс. Но благодаря этому вы портите свою репутацию и делаете себя более хулимым, чем они, ибо публично будут говорить, что вы нетерпеливы, фантастичны, странны и легкомысленны.
Филотей. Я не озабочен этим. Лишь бы только они или иные не беспокоили меня, и для этого я показываю им палку циника, чтобы они оставили в покое меня с моими делами, и если они не желают меня ласкать, то зато они воздерживаются от проявления своей невежливости по отношению ко мне.
Армесс. Кажется ли вам, что достойно философа прибегать к мести?
Филотей. Если бы те, кто меня беспокоит, были Ксантиппой[7], то я был бы Сократом.
Армесс. Разве ты не знаешь, что всем людям подобает быть великодушными и терпеливыми, благодаря чему они уподобляются богам и героям, которые, по мнению одних, мстят поздно, а по мнению других, вовсе не мстят и не гневаются.
Филотей. Ты заблуждаешься, думая, что я прибегаю к мести.
Армесс. А как же?
Филотей. Я прибегаю к исправлению, благодаря которому мы также становимся подобными богам. Ты знаешь, что бедному Вулкану Юпитером было поручено работать также и в праздничные дни; и его несчастная наковальня беспрестанно получала столь многочисленные и столь яростные удары молотков, что не успевал еще один из них подняться, как другой уже опускался, для того чтобы достаточно было справедливых молний, которыми наказываются преступники.
Армесс. Есть разница между вами и кузнецом Юпитера – супругом Кипрской богини.
Филотей. Достаточно и того, что я, быть может, похож на него тем терпением и великодушием, которые я проявил в этом деле, не отпуская всей узды негодования, не возбуждая гнева самыми сильными ударами шпор.
Армесс. Не всякому подходит быть исправителем нравов, особенно же множества людей.
Филотей. Добавьте к этому: особенно когда множество его не трогает.
Армесс. Говорят, что не следует вмешиваться в дела чужой страны.
Филотей. А я скажу две вещи: во-первых, что не следует убивать иностранного врача за то, что он пытается прибегнуть к таким способам лечения, каких местные не применяют, а во-вторых, что для истинного философа всякая страна есть родина.
Армесс. Но если они тебя не признают ни за философа, ни за врача, ни за соотечественника?
Филотей. Это еще не значит, что я не являюсь ими.
Армесс. Кто вам в этом поверит?
Филотей. Божества, пославшие меня сюда, я, находящийся здесь, и те, у кого есть глаза, чтобы меня здесь видеть.
Армесс. У тебя весьма немногочисленные и малоизвестные свидетели.
Филотей. Весьма немногочисленны и малоизвестны истинные врачи, но почти все действительно больны. Я хочу сказать, что они не имеют права прибегать к подобным средствам по отношению к тем, кто доставляет им похвальные благодеяния, независимо от того, иностранцы они или нет.
Армесс. Мало кто признает эти благодеяния.
Филотей. Разве от этого жемчужины становятся менее драгоценными и мы не должны всеми силами охранять их и заставлять охранять, освобождать их и ограждать и защищать от того, чтобы свиньи не топтали их ногами? И столь благосклонны ко мне вышние, мой Армесс, что я никогда не обращаюсь к подобной мести из грязного самолюбия или из низменной заботы частного человека, но лишь из любви к столь возлюбленной моей матери-философии и из усердия, возбужденного оскорблением ее величия. Она изолгавшимися родственниками и сыновьями (ибо нет низкого педанта, фразистого лентяя, глупого фавна, невежественного обманщика, который бы не пожелал причислиться к ее семье, выставляя напоказ свои книги, или же отпуская длинную бороду, или же каким-либо другим способом придавая себе важность) доведена до того, что для народа слово философ значит обманщик, бездельник, педант, жулик, шут, шарлатан, годный для того, чтобы служить для веселого времяпрепровождения в доме и для пугания птиц в поле.
Элитропий. По правде говоря, большинство людей уважает философов еще меньше, чем священников, потому что последние, будучи самого низкого происхождения, все же не довели духовенство до такой степени презрения, до какой довели философию люди, достойные называться зверями всякого рода.
Филотей. Восхвалим же по достоинству древность, когда философы были таковы, что выдвигались в законодатели, советники и цари, когда советники и цари возвышались в священники. В наше время большинство священников таково, что их презирают, а вместе с ними презирают и божественные законы. Почти все философы, каких мы видим, таковы, что к ним относятся с презрением, а благодаря им – и к науке. Кроме того, среди них толпа негодяев, подобно тому как сорная трава заглушает рожь, своим диким бредом подавляют редкую добродетель и истину, которые доступны немногим.
Армесс. Я не нахожу философа, который бы так гневался за пренебрежение философией, и не вижу, о Элитропий, никого, кто бы так волновался за свою науку, как Теофил; что было бы, если бы все другие философы были так же настроены, то есть столь же вспыльчивы?
Элитропий. Другие философы не открыли столько, не должны столько охранять и столько защищать. И они легко могут пренебрегать такой философией, которая ничего не стоит, или другой, которая стоит мало, или той, которой они не знают; но тот, кто нашел скрытое сокровище Истины, пораженный красотой этого божественного лика, не менее ревниво заботится, чтобы она не подвергалась искажению, пренебрежению и осквернению, чем кто-нибудь другой, испытывающий грязное влечение к золоту, карбункулу и бриллианту или плененный женской красотой.
Армесс. Но поразмыслим и вернемся снова к вопросу. О вас говорят, Теофил, что в своем «Пире» вы осуждаете и оскорбляете целый город, целую область, целое государство[8].
Филотей. Этого я никогда не предполагал, никогда не замышлял и никогда не делал; и если бы я это предполагал, замышлял или делал, я сам осудил бы себя как наихудшего и готов был бы к тысяче пересмотров, к тысяче отказов, к тысяче отступлений, не только если бы я оскорбил благородное и древнее государство, подобное этому, но любое другое, сколь бы ни считали его варварским; не только, говорю я, любой город, сколь бы его ни порицали как нецивилизованный, но и любой род, сколь бы его ни считали диким, и любую семью, сколь бы ее ни называли негостеприимной; ибо не может быть государства, города, поколения или целого дома, обитатели которого имели бы одни и те же нравы и где не встречались бы противоположные и противоречащие друг другу характеры, вследствие чего то, что нравится одному, не нравится другому.
Армесс. Верно, я все прочел, перечитал и хорошо обдумал, и хотя относительно частностей я нахожу вас, не знаю почему, немного несдержанным, но в общем я считаю ваше поведение безупречным, разумным и скромным. Все же слухи, распространившиеся о вас, носят неблагоприятный характер, как я вам сейчас говорил.
Элитропий. Подобные слухи распространяются из-за низости кое-кого из тех, кто чувствует себя затронутым: они-то из мести, видя, что им недостает собственного разума, учености, одаренности и силы, насколько умеют, измышляют обманы, которым могут доверять лишь им подобные, и ищут соучастников, чтобы упреки, направленные против частных лиц, выдать за оскорбление обществу.
Армесс. Напротив, я думаю, что имеются люди не без разумения и понимания, которые считают оскорбление общим, потому что вы приписываете подобные обычаи целому поколению.
Филотей. Таковы ли эти упомянутые обычаи, чтобы подобные им, а также худшие и гораздо более странные в роде, виде и числе не встречались в известнейших странах и областях мира? Разве вы назвали бы меня оскорбляющим родину и неблагодарным ей, если бы я сказал, что подобные и еще более преступные обычаи встречаются в Италии, в Неаполе, в Ноле? Разве этим унижена будет страна, благословленная небом, которая одновременно и в одинаковой степени может называться головой и правой рукой земного шара, правительницей и владычицей других поколений и всегда нами и другими считалась учительницей, кормилицей и матерью всех добродетелей, учений, культур, учтивостей и приличий? Преувеличена ли похвала, воспеваемая ей теми же нашими поэтами, которые не в меньшей степени называют ее учительницей всех пороков, обманов, скупостей и жестокостей?





