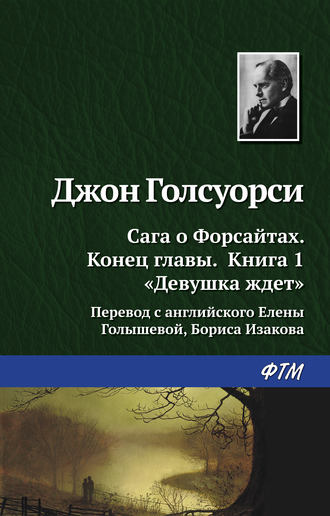
Джон Голсуорси
Девушка ждёт
Глава седьмая
Направляясь в понедельник вечером в Челси, Адриан размышлял о судьбе этой части города. Как она изменилась! Он помнил, что еще в конце прошлого века обитатели Челси были немножко похожи на троглодитов – люди боялись вылезать из своего логова; изредка среди них попадался светский лев или историк. Тут обитали поденщицы, художники, не терявшие надежды уплатить за квартиру; писатели, жившие на четыре шиллинга семь пенсов в день; дамы, готовые раздеться догола за шиллинг в час; супружеские пары, почти созревшие для развода; любители пропустить стаканчик; и тут же – поклонники Тёрнера[12], Карлейля[13], Россетти[14] и Уистлера[15]; кабатчики, немало всяких грешников и обычная прослойка мещан. Однако за фасадами домов, выходивших на Темзу и чем дальше, тем больше принимавших величавый вид, постепенно побеждала респектабельность, – и вот она уже идет на приступ закоснелой Кингс-Род, создавая даже там бастионы Искусства и Моды.
Дом Дианы Ферз находился на Окли-стрит. Адриан помнил время, когда он ничем не отличался от других и жили в нем заурядные обыватели; но за шесть лет, которые провела здесь Диана, дом превратился в прелестный уголок. Хорошенькие сестры Монтджой в свое время пленяли высший свет, но младшая из них – Диана – была красивее, изящнее и остроумнее всех; это была одна из тех женщин, которые без особых затрат и без ущерба для своей добродетели умеют добиться того, чтобы все вокруг них покоряло своей изысканностью и вызывало всеобщую зависть. В обоих ее детях, в собаке колли (чуть ли не последней колли во всем Лондоне), в ее клавикордах, в кровати с пологом, в бристольском хрустале, в обивке мебели, в коврах было столько вкуса, что душа радовалась. Да и сама она радовала глаз своей все еще прекрасной фигурой, ясными и живыми черными глазами, тонким овалом лица, матовой кожей и милой картавостью. Картавость эта была свойственна всем сестрам Монтджой, – они унаследовали ее от матери, уроженки северной Шотландии, – и за тридцать лет они сделали немало, чтобы отучить общество от тявканья, модного в девяностых годах, и привить ему милую манеру проглатывать «р» и «л». Когда Адриан спрашивал себя, почему Диана при ее скромных средствах и сумасшедшем муже была везде принята в обществе, ему приходил на ум двугорбый верблюд. Два горба этого животного похожи на две части Общества (с большой буквы), соединенные мостиком, которым редко кто пользуется после первого знакомства. Семейство Монтджой, принадлежавшее к очень древнему роду землевладельцев из Дамфришира и связанное в прошлом бесчисленными браками с высшей аристократией, обладало чем-то вроде наследственного местечка на переднем горбу, – позиция не очень выгодная, так как голова верблюда очень ограничивает кругозор; Диану наперебой приглашали в самые знатные дома, где интересовались только охотой, попечительством в больницах, придворными церемониями и вывозом девушек на выданье в свет. Адриан знал, что Диана редко принимала такие приглашения. Она предпочитала второй горб верблюда, – его хвост не закрывал обширного и увлекательного вида на мир. Ну, и странная же компания примостилась на этом втором горбу! Многие, как и сама Диана, перебрались сюда с переднего горба через заветный мостик, другие вскарабкались вверх по хвосту, кое-кто свалился прямо с неба или – как его иногда называли – из Америки. Адриан никогда не претендовал на место здесь, но он хорошо знал, что тому, кто этого добивается, нужно обладать какими-нибудь талантами: либо превосходной памятью, которая позволяет вам безошибочно пересказать все, что вы прочли или услышали, либо природным даром остроумия. Не обладая ни тем, ни другим, вы могли появиться на этом горбу только раз – больше вас туда не пускали. К этому, конечно, требовалась и некоторая оригинальность, без излишнего, однако, чудачества, и оригинальность эта должна была быть выражена достаточно ярко. Желательно, конечно, чтобы вы пользовались известностью в какой-то области, но это не было условием sine qua non [16]. He мешало иметь хорошее воспитание, лишь бы оно не делало вас скучным. Красота давала вам право на вход, но только если ей сопутствовала живость ума. Не мешали и деньги, но одни они не открывали вам туда доступа. Адриан заметил, что знание искусства, хотя бы с чужих слов, ценилось здесь выше умения создавать произведения искусства; не мешали и деловые способности, если они не превращали вас в сухаря. Кое-кто попадал сюда потому, что свободно вращался в «кулуарах» и повсюду считался своим человеком. Но превыше всего ставилось умение вести беседу. Отсюда, с этого заднего горба, приводились в движение скрытые пружины, но Адриан сомневался, управляют ли они движением верблюда, что бы ни думали те, кто эти пружины нажимал. Он знал, что Диане принадлежит такое прочное место в этом сборище любителей званых обедов, что она могла бы бесплатно кормиться круглый год и не проводить ни одного воскресенья дома. И, видя, как она постоянно жертвует этим ради того, чтобы провести лишний вечер с ним и с детьми, он был глубоко ей благодарен. Война разразилась сразу после ее свадьбы с Рональдом Ферзом; Шейла и маленький Рональд родились уже после его возвращения с фронта. Теперь Шейле исполнилось семь, а Рональду – шесть лет, и – как всегда усердно подчеркивал Адриан – они были «маленькими Монтджоями до мозга костей». Внешностью и живым характером они, несомненно, пошли в мать. Но – это знал он один – тень на ее лице в минуты задумчивости говорила о том, что ей вообще не следовало их иметь. И он один знал, что постоянное напряжение, в котором она жила с таким неуравновешенным человеком, каким стал Ферз, настолько убило в ней всякую чувственность, что она прожила четыре года своего фактического вдовства без малейшей потребности в любви. Он не сомневался, что она привязана к нему по-настоящему, но понимал, что привязанность эта не перешла в страсть.
Адриан пришел за полчаса до обеда и поднялся в детскую на верхнем этаже. Француженка-гувернантка поила детей на ночь молоком с сухариками; они встретили Адриана с восторгом и потребовали, чтобы он рассказывал дальше сказку, которую начал в прошлый раз. Француженка, уже умудренная опытом, удалилась. Адриан уселся и, глядя на сияющие детские лица, начал с того места, где остановился.
– Так вот, лодочник был громадный детина, весь коричневый от загара; его выбрали за силу, – ведь берег здесь кишмя кишел белыми единорогами.
– У-у! Дядя Адриан, единорогов не бывает.
– В то время они были, Шейла.
– Куда же они подевались?
– Теперь остался только один, – он живет там, куда белому человеку не добраться из-за мухи «бу-бу».
– А что такое муха «бу-бу»?
– Муха «бу-бу», Рональд, залезает человеку в тело и разводит там мушек.
– Да ну?
– Так вот, когда вы меня перебили, я рассказывал, что берег кишмя кишел единорогами. Лодочника звали Маттагор, и вот как он справлялся с единорогами. Заманив их на берег охапкой кринибобов…
– А что такое кринибобы?
– Они похожи на клубнику, а вкус у них, как у морковки…. Лодочник подкрадывался к ним сзади…
– Если он заманивал их кринибобами, значит, он был впереди; как же он мог подкрадываться сзади?
– Он нанизывал кринибобы на веревку из древесного волокна и развешивал их в ряд между двумя заколдованными деревьями. Как только единороги принимались щипать кринибобы, он появлялся из кустов босиком, совершенно бесшумно и попарно связывал их хвостами друг с другом.
– Но они же чувствовали, что им связывают хвосты!
– Нет, Шейла, белые единороги хвостами ничего не чувствуют… Потом он опять прятался в кусты, щелкал языком, и единороги бросались бежать куда попало.
– А хвосты у них не отрывались?
– Никогда. В том-то вся и хитрость, – ведь лодочник любил животных.
– Наверно, единороги больше никогда не приходили?
– Вот и не угадал, Рони. Они так любили кринибобы!
– А он ездил на них верхом?
– Да, иногда он вскакивал на спины двух единорогов и уносился в джунгли, стоя одной ногой на спине одного, а другой – на спине другого; да еще посмеивался в кулак. Сами понимаете, что под охраной такого человека лодки были в безопасности. Сезон дождей еще не начался, сухопутных акул кругом было не так уж много, и экспедиция совсем уже собралась в путь, когда…
– Что – когда, дядя Адриан? Это ведь только мамочка.
– Рассказывайте, Адриан.
Но Адриан молчал; взгляд его был прикован к той, которая к ним приближалась. Потом, с трудом отведя глаза, он посмотрел на Шейлу и продолжал:
– Теперь я должен вам объяснить, почему так важна была луна. Они не могли выступить в поход прежде, чем не увидят, как молодая луна выплывает им навстречу сквозь заколдованные деревья.
– А почему?
– Об этом я и хочу рассказать. В те дни люди, а в особенности племя воттакмолодцов, поклонялись всему, что красиво: такие красивые вещи, как мама, рождественские псалмы или молодые картофелинки очень им нравились. И прежде, чем что-нибудь сделать, они ждали знамения.
– А что такое знамение?
– Вы знаете, что такое воскресенье, – оно бывает в конце, после пятницы и субботы, а знамение бывает в начале, – оно приносит счастье. И знамение обязательно должно быть красивое. А молодая луна до начала сезона дождей была красивее всего на свете; вот они и ждали, чтобы луна вышла им навстречу сквозь заколдованные деревья, – как мама вышла к нам сейчас из той комнаты!
– Но у луны нет ножек.
– Нет, она плывет. И вот однажды вечером она выплыла к ним, такая прекрасная и стройная – самая красивая на свете, и глаза ее так сияли, что все сразу поняли – экспедиция будет удачной. Они пали перед луной ниц и воскликнули: «Знамение! Не покидай нас, и мы пройдем через пустынные пески и воды, с отражением твоего сияния в глазах и будем счастливы твоим счастьем во веки веков. Аминь!» И с этими словами все они уселись в лодки, – воттакмолодцы с воттакмолодцами, воттакфеи с воттакфеями. А молодая луна осталась там над верхушками заколдованных деревьев, благословляя их ласковым взглядом. Но один человек отстал. Это был старый воттакмолодец, который полюбил луну так сильно, что забыл все на свете, и он пополз к ней, надеясь хоть коснуться ее ног.
– Но ведь у луны нет ног!
– Он-то думал, что есть, – она ему казалась женщиной из серебра и слоновой кости. Вот он полз и полз мимо заколдованных деревьев, но так и не мог ее достать, – ведь это была луна.
Адриан умолк, и наступила тишина. Потом он сказал:
– Продолжение следует, – и вышел из комнаты.
В холле его нагнала Диана.
– Адриан, вы мне портите детей. Разве вы не знаете, что басни и сказки больше не должны отбивать интерес к технике? После вашего ухода Рональд спросил: «Дядя Адриан и правда верит, что ты луна, мамочка?»
– А вы как ответили?..
– Уклончиво. Но они ужасно хитрые.
– Что ж, спойте мне «Водоноса», пока нет Динни и ее кавалера.
Она пела, а Адриан не сводил с нее восторженных глаз. Голос у нее был хороший, и она отлично спела эту старинную тоскливую песню. Едва умолк последний звук, как горничная доложила:
– Мисс Черрел. Профессор Халлорсен.
Динни вошла с высоко поднятой головой, и Адриан отметил про себя, что взгляд ее не предвещает ничего хорошего. Он видел такие глаза у школьников, когда они собирались дать трепку новичку. За ней вошел Халлорсен, пышущий здоровьем и чересчур высокий для этой маленькой гостиной. Когда его представили Динни, он низко поклонился.
– Ваша дочь, господин хранитель музея?
– Нет, племянница; сестра капитана Хьюберта Черрела.
– Вот как? Считаю за честь с вами познакомиться, мисс Черрел.
Адриан заметил, что, встретившись взглядом, они не сразу смогли отвести друг от друга глаза.
– Как вам нравится гостиница Пьемонт, профессор? – спросил он.
– Готовят отлично, но там слишком много нашего брата, американца.
– Прилетели целой стаей?
– Да. Недельки через две мы снимемся и улетим.
Динни, воплощенную английскую женственность, сразу же взбесил цветущий вид здоровяка Халлорсена, да еще по сравнению с изможденным Хьюбертом. Она села рядом с этим олицетворением мужества с твердым намерением выпустить в его толстую шкуру весь запас своих стрел. Однако он принялся разговаривать с Дианой, и она, еще не кончив есть бульон с черносливом, поглядела на него исподтишка и решила изменить тактику. Все же он – иностранец и гость, а она – девушка воспитанная. И тихая вода берега подмывает, подумала Динни. Она не выпустит своих стрел; напротив, она «очарует его улыбкой и лестью»[17]; это будет куда вежливее по отношению к Диане и дяде Адриану и в конечном счете стратегически выгоднее. С коварством, достойным поставленной цели, она дождалась, пока он не завяз в проблемах английской политики, – по-видимому, он считал политику одной из самых важных сторон человеческой деятельности, – и, кинув на него взгляд, достойный кисти Боттичелли, сказала:
– Нам тоже следовало бы относиться к американской политике серьезнее, профессор. Но ведь нельзя же принимать ее всерьез, не так ли?
– Вероятно, вы правы, мисс Черрел. Все политики руководствуются одним и тем же правилом: придя к власти, не повторяй того, что ты говорил, будучи в оппозиции; в противном случае тебе придется взяться за то, с чем не справились твои предшественники. По-моему, единственная разница между партиями та, что у одних в государственном автобусе места сидячие, а у других – стоячие.
– А в России все, что осталось от других партий, забилось под сиденья.
– Ну, а в Италии? – спросила Диана.
– И в Испании? – добавил Адриан.
Халлорсен заразительно рассмеялся.
– Диктатура не имеет отношения к политике. Это просто шутка.
– Нет, это не шутка, профессор.
– Скверная шутка, профессор.
– В каком смысле шутка, профессор?
– Обман. Диктатор полагает, что человек – это глина в его руках. Стоит раскрыть обман, как его песенка спета.
– Позвольте, – сказала Диана, – но если большинство народа поддерживает диктатуру, – разве тогда это не демократия или не правление с согласия управляемых?
– Я бы сказал – нет, миссис Ферз, если оно, конечно, не подтверждается ежегодными выборами.
– Кое-кто из диктаторов умеет добиваться своего, – сказал Адриан.
– Дорогой ценой. Возьмите Диаса в Мексике. За двадцать лет он превратил ее в цветущий край, но посмотрите, что с ней стало с тех пор, как его нет. Вы никогда не добьетесь того, к чему народ еще не подготовлен.
– Беда нашего и вашего государственного устройства в том, профессор, – сказал Адриан, – что целый ряд реформ, назревших в сознании народа, не осуществляется по одной простой причине: избранные на короткий срок правители на это не решаются, боясь потерять свою мнимую власть.
– Тетя Мэй, – тихонько вставила Динни, – на днях мне сказала: почему бы не избавиться от безработицы, приняв программу перестройки трущоб, и не убить двух зайцев сразу?
– Да ну? Прекрасная мысль! – сказал Халлорсен, обратив к ней свое румяное лицо.
– Денежные магнаты, – сказала Диана, – хозяева трущоб и строительной промышленности, этого не допустят.
– Нужны ведь и деньги, – добавил Адриан.
– Ну, это просто. Ваш парламент может взять на себя необходимые полномочия для такого важного дела; и почему бы ему не выпустить заем? Деньги-то ведь вернутся; это же не военный заем, от которого ничего не остается, кроме порохового дыма. Сколько у вас идет на пособия по безработице?
Никто из присутствующих не мог на это ответить.
– Наверно, то, что вы сбережете на пособиях, с избытком окупит любой заем.
– Беда в том, что нам не хватает простодушной веры в свои силы, – с невинным видом произнесла Динни. – Тут нам далеко до вас, американцев, профессор Халлорсен.
На лице американца промелькнула мысль: «Ну и ехидна же вы, мадам».
– Что ж, мы, конечно, проявили большое простодушие, когда пришли сражаться во Францию. Но мы его потеряли. В следующий раз предпочтем посидеть у своего камелька.
– Неужели в тот раз вы были уж так простодушны?
– Боюсь, что да, мисс Черрел. Из ста американцев не найдется и пяти, кто бы считал, что немцы представляют для нас, по ту сторону океана, хоть малейшую опасность.
– Так мне и надо, профессор.
– Что вы! Я совсем не хотел… Но вы подходите к Америке с европейской меркой.
– Вспомните Бельгию, профессор, – сказала Диана, – вначале даже мы были простодушны.
– Простите, мадам, но неужели судьба Бельгии действительно вас так тронула?
Адриан чертил вилкой круги на скатерти; теперь он поднял голову.
– Меня судьба Бельгии тронула. Впрочем, я не думаю, чтобы это имело политическое или иное значение для генералов, адмиралов, крупных дельцов – для большей части власть имущих. Все они знали заранее, что в случае войны мы неизбежно окажемся союзниками Франции. Но на простых людей, вроде меня, и на добрые две трети населения, не ведавшего, что творится за кулисами, – словом, на рабочий класс в целом, – события эти произвели огромное впечатление. Мы словно увидели, что, как бишь его, «Человек-гора» напал на самого маленького боксера легкого веса, а тот принимает удары и дает сдачи, как настоящий мужчина.
– Вы это здорово объяснили, – сказал Халлорсен.
Динни вспыхнула. Неужели этот человек способен на великодушие? Потом, словно испугавшись, что такая мысль – предательство по отношению к Хьюберту, она колко заметила:
– Я читала, что трагедия Бельгии проняла даже Рузвельта[18].
– Она многих у нас проняла, мисс Черрел; но Европа от нас далеко, а на воображение действует только то, что случается рядом.
– Ну да; к тому же, как вы сами сказали, в конечном счете вы все же не остались в стороне.
Халлорсен пристально поглядел в ее наивное лицо, поклонился и промолчал.
Но, прощаясь с ней в конце этого не совсем обычного вечера, он заметил:
– Боюсь, что вы на меня сердитесь, мисс Черрел.
Динни улыбнулась и ничего не ответила.
– Все-таки позвольте надеяться, что я вас еще увижу.
– Вот как! А зачем?
– Может, мне удастся изменить ваше мнение обо мне.
– Я очень люблю брата, профессор Халлорсен.
– А я все же думаю, что ваш брат насолил мне больше, чем я ему.
– Надеюсь, будущее подтвердит, что вы правы.
– Это звучит грозно.
Динни только кивнула.
Она поднялась в свою комнату, кусая губы от злости. Ей не удалось ни покорить, ни уязвить противника; и вместо откровенной вражды он вызывал у нее какие-то противоречивые чувства.
Его рост давал ему какое-то обидное преимущество. «Он похож на этих субъектов в штанах с бахромой, из кинофильмов, – думала она, – на ковбоя, который похищает девчонку, а она не очень-то сопротивляется, – он смотрит на тебя так, словно ты уже лежишь у него поперек седла. Первобытная грубая сила во фраке и белой манишке! Сильная, хотя отнюдь и не молчаливая личность!»
Окна ее комнаты выходили на улицу, и ей были видны платаны на набережной, Темза и широкий простор звездной ночи.
– Не поручусь, что ты уедешь из Англии так скоро, как думаешь, – сказала она вслух.
– Можно войти?
Она повернулась и увидела в дверях Диану.
– Ну, Динни, как вам понравился друг наш – враг наш?
– Герой из ковбойского фильма пополам с великаном, которого убил мальчик-с-пальчик.
– Адриану он понравился.
– Дядя Адриан слишком много общается со скелетами. Когда он видит упитанного человека, он теряет голову.
– Да, это «настоящий мужчина», – говорят, они покоряют женщин с первого взгляда. Но вы вели себя отлично, Динни, хотя вначале глаза у вас метали молнии.
– Но ведь они его не испепелили! И даже не обожгли.
– Ничего! У вас еще все впереди. Адриан попросил леди Монт пригласить его на завтра в Липпингхолл.
– Неужели?!
– Вам остается только поссорить его там с Саксенденом, и дело Хьюберта в шляпе. Адриан нарочно не сказал вам об этом – боялся, что вы себя выдадите. Профессору захотелось отведать английской охоты. Бедняга даже не подозревает, что попадет в логово львицы. Ваша тетя Эм, наверно, его очарует.
– Халлорсен! – пробормотала Динни. – Наверно, в нем есть скандинавская кровь.
– Он говорит, что мать его из Новой Англии, старинного рода, но вышла за человека пришлого. Его родина – штат Вайоминг. Прелестное название: Вайоминг.
– «Безбрежные просторы прерий»… Почему меня так бесит выражение «настоящий мужчина»?
– Потому что напоминает большой подсолнечник, который вдруг распустился у вас в комнате. Но «настоящие мужчины» водятся не только на «безбрежных просторах прерий»; вы увидите, Саксенден тоже из этой породы.
– Правда?
– Да. Спокойной ночи, дорогая. И пусть ни один «настоящий мужчина», не тревожит ваш сон!
Динни разделась и снова вынула дневник Хьюберта; она перечитала страницу, которую себе отметила.
«Сегодня чувствую себя скверно, – как выжатый лимон. Держусь только мыслью о Кондафорде. Что бы сказал старый Фоксхэм, если бы видел, как я лечу мулов! Средство, которое я придумал для них от поноса, привело бы в ужас кого хочешь, но им оно помогает. Бог был в ударе, когда создавал желудок мула. Ночью мне снилось, будто я стою дома на опушке рощи и фазаны летят надо мной один за другим, а я, хоть убей, не могу спустить курок, – словно меня сковало параличом. Без конца вспоминаю старого Хэддона и его слова: „А ну-ка, стреляй! Упрись в землю пятками и целься прямо в голову!“ Славный старик! Вот это был человек… Дождь прошел. Сухо – впервые за десять дней. И звезды высыпали.
Море, да остров, да лунный рог.
Звезд немного, но зато каких! [19]
Эх, если бы я мог уснуть!..»







