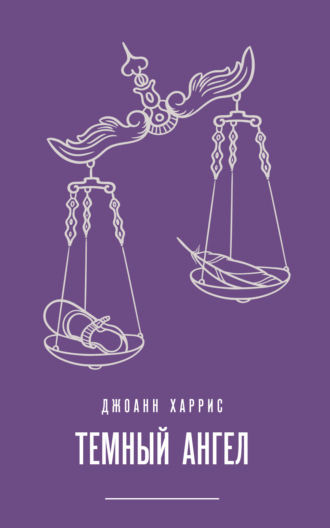
Джоанн Харрис
Темный ангел
Снова Кевину
Благодарности
Хочу поблагодарить всех, кто помог разбудить эту спящую книгу. Во-первых, Кристофера, которому она нравилась с самого начала; Серафину, Говарда и Бри; замечательного редактора Франческу и всех моих друзей из «Transworld»; Грэма Овендена за обложку, о которой я всегда мечтала; книготорговцев, которые заботились о том, чтобы мои книги постоянно были на полках, и, наконец, всех поклонников моих предыдущих романов, которые писали, жаловались, настаивали, просили и требовали, чтобы эту книгу допечатали.
Предисловие
Мало кому хочется поднимать мертвых. Особой осторожности заслуживают мертвые книги; на каждый затерянный клад попадается сотня крышечек от молочных бутылок, ждущих, когда их откопает беспечный старатель. Вот почему за последние десять лет я привыкла воспринимать книгу «Темный ангел» («Sleep, Pale Sister») как останки ушедшего времени. Жарким летом 1993 года я дала жизнь дочери и книге. Одна выжила, другая – нет, и, с моей точки зрения, о соперничестве и речи не идет. За одну ночь мой мир изменился. Я стала другой, и внезапно мысль о публикации перестала меня волновать. К 2003 году книгу давно раскупили. Я ни разу не открыла ее после выхода, я о ней почти забыла.
Однако другие помнили. Некоторые ее прочитали, другие были книготорговцами или моими поклонниками, кому-то просто хотелось посмотреть, как автор «Шоколада» бросилась из английской готики во французское чревоугодие. Меня завалили просьбами прислать книгу. Несколько сотен экземпляров моментально разошлись на amazon.com. Моих издателей донимали письмами с просьбой переиздать книгу. Наконец мы решили попробовать. Я слегка отредактировала исходный текст – вероятно, меньше, чем следовало, но я быстро поняла, что для хирургического вмешательства пациент слишком слаб, – и исправила несколько мелких ошибок. В процессе я, к собственному удивлению, обнаружила, что мне все еще нравится эта история и ее герои. Несмотря ни на что, моя книга не умерла, только заснула. Я рада, что она получила второй шанс.
Вступление
Рукопись из наследия Генри Пола Честера Январь 1881 года
Я смотрю на свое имя и буквы, следующие за ним, и меня наполняет безбрежная пустота. Словно этот Генри Честер, художник, дважды выставлявшийся в Королевской академии, вовсе не я, а лишь невнятный плод чьего-то воображения, пробка от бутылки с джинном, утонченно-злым духом, что пронизывает мое существо и толкает в круговерть опасных приключений, на поиски бледного, испуганного призрака самого себя.
Мой джинн – пилюля хлорала, темная спутница моего сна, некогда ласковая, а ныне жестокая супруга. Однако мы слишком многое пережили вместе, мой джинн и я, чтобы сейчас расстаться. Мы вместе будем писать эту повесть, но как мало осталось у меня времени! Солнце опускается за горизонт, и, кажется мне, я уже слышу, как хлопают крылья черного ангела в самом темном углу комнаты. Она терпелива, но терпение ее не бесконечно.
Бог, самый изощренный мучитель, соблаговолит дать мне чуточку времени, чтобы я дописал историю, которую возьму с собой в холодную подземную обитель – конечно, не холоднее, чем этот труп, в котором я живу, чем пустыня моей души. О, Он ревнив, этот Бог, столь безжалостны бывают лишь бессмертные. Когда я воззвал к Нему в своей мерзости и страданиях, Он улыбнулся и ответил словами, кои явлены были Моисею из неопалимой купины: «Я есмь Сущий»[1]. Я есть тот, кто есть. В Его взгляде нет сострадания, нет нежности. Я не вижу в Нем ни грядущего спасения, ни грозящего наказания – лишь бесконечное равнодушие, не обещающее ничего, кроме забвения. Но как жажду я этого! Слиться с землей, чтобы даже сей всевидящий взгляд не смог меня отыскать… И все же ребенок внутри меня плачет в темноте, а мое бедное разбитое тело умоляет продлить срок… Еще чуть-чуть, еще одна сказка, еще одна игра.
И черный ангел оставляет свою косу у двери и садится рядом со мной для последней партии в карты.
Я не должен писать после заката. Ночные слова лживы и тревожны, однако именно ночью власть слов сильнее всего. По ночам Шехерезада плела свою тысячу и одну сказку, и каждая – дверь, в которую она ускользает снова и снова, а Смерть преследует ее по пятам, как голодный волк. Она знала власть слов. Если бы я не перестал искать идеальную женщину, мне следовало бы отправиться на поиски Шехерезады, высокой и тоненькой, с кожей цвета китайского чая. Ее глаза как ночь, она идет босиком, надменная язычница, не обремененная моралью и скромностью. И она коварна. Вновь и вновь она играет со смертью и выигрывает и меняет обличье, и каждую ночь ее жестокий муж-людоед видит новую Шехерезаду, которая утром ускользает прочь. Каждое утро он просыпается и смотрит на нее в свете солнца, тихую и бледную после ночных трудов, и клянется, что больше его не проведут. Но едва опускаются сумерки, она снова плетет паутину своих фантазий, и он думает: «Еще один раз»…
В эту ночь Шехерезадой буду я.
Отшельник[2]
1
Не смотрите на меня так – это невыносимо! Вы думаете, как сильно я изменился. На картине вы видите молодого человека, у него чистый бледный лоб, темные кудри, спокойные глаза. И вы спрашиваете себя: неужели он – это я? Надменно выпяченная челюсть, высокие скулы, длинные тонкие пальцы будто намекают на таинственных экзотических предков, хотя потомок, несомненно, англичанин. Таким я был в тридцать девять – смотрите внимательно и запоминайте… Я мог бы быть кем-то из вас.
Мой отец был сельским священником в Оксфорде, мать – дочерью богатого оксфордширского землевладельца. Детство мое шло в беззаботном идиллическом уединении. Я помню, как пел в церковном хоре по воскресеньям, и цветной свет дождем из лепестков лился сквозь витражи на белые одежды хористов…
Черный ангел – она, кажется, слегка шевельнулась, и в ее глазах мне чудится взгляд безжалостного, всепонимающего Бога. Не время теперь тосковать по несуществующему прошлому, Генри Пол Честер. Он ждет от тебя правды, а не вымысла. Бога хочешь одурачить?
Как нелепо, что меня до сих пор тянет обманывать. Меня, жившего только во лжи больше сорока лет. Правда – горькая настойка, как не хочется откупоривать ее в эту последнюю встречу. И все же я есмь сущий. Я впервые осмелился присвоить Божьи слова. Это не приукрашенная байка. Таков Генри Честер. Судите меня, если хотите. Я есть тот, кто есть.
Не было, разумеется, никакого идиллического детства. Ранних лет в памяти не осталось, воспоминания начинаются лет с семи-восьми – гнусные, беспокойные воспоминания. Уже тогда я чувствовал, что внутри меня растет змий. Я не помню времени, когда бы не осознавал свою вину, свой грех – его не спрятать и под белейшими покровами. Он рождал во мне нечистые помыслы, он побуждал меня смеяться в церкви, он заставлял врать отцу, держа пальцы накрест, чтобы ложь «не считалась».
На стене каждой комнаты в нашем доме были стихи из Библии, вышитые моей матерью. Я и сейчас помню их, особенно тот, из моей комнаты, что так отчетливо выделялся на белой стене против кровати: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ». Шли годы моего отрочества, лето сменяло весну, а осень – лето. Я смотрел на эту строчку и в минуты покоя, и в минуты одиноких раздумий о своих пороках и иногда, во сне, взывал к жестокому, безразличному Богу. Но ответ всегда был один, он вышит вечными стежками в закоулках моей памяти: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ».
Мой отец был божьим человеком, но пугал меня даже больше, чем сам Бог. Его проницательные черные глаза могли заглянуть в тайные уголки моей преступной души. Он судил так же безжалостно и бесстрастно, как Господь, он был незапятнан человеческой добротой. Всю любовь, на которую он был способен, отец изливал на свою коллекцию механических игрушек. Он был, можно сказать, антикваром и целую комнату заполнил игрушками: от простеньких деревянных неваляшек до фантастически точной копии китайской шарманки с сотней прыгающих карликов внутри.
Мне, конечно, не дозволялось играть с ними – слишком ценные вещицы для ребенка, – но танцующую Коломбину я запомнил. Она была из тонкого фарфора, ростом почти с трехлетнего ребенка. В одну из редких минут непринужденности отец поведал мне, что ее сделал слепой французский мастер в годы дореволюционного упадка. Гладя ее по безупречной щеке, он рассказывал, как когда-то она принадлежала незаконнорожденному отпрыску одного испорченного короля, как потом начался террор, как покатились вперемешку головы безбожников и невинных и куклу позабыли среди пыльных портьер. Коломбину украла бедная женщина, которой невыносимо было думать, что ее сломают и изуродуют санкюлоты. Ребенок этой женщины умер от голода, и она уложила куклу в кроватку в своей убогой лачуге, качала ее и пела колыбельные, пока ее, безумную, истощенную и одинокую, не забрали в психиатрическую лечебницу умирать.
А Коломбина уцелела. В год, когда я родился, она попала в парижский антикварный магазин. Отец зашел туда, возвращаясь из Лурда, и тут же купил ее, хотя шелковое платье истлело, а глаза провалились от небрежения и грубости. Увидев, как она танцует, он сразу понял, что Коломбина особенная. Едва в ее спине поворачивали ключ, она начинала двигаться, вначале неловко, но постепенно приобретая нечеловеческую грацию, она поднимала руки, сгибала колени, наклонялась, демонстрируя округлую гладкость фарфоровых лодыжек. Месяцы любовной реставрации вернули ей красоту, и она заняла место в коллекции отца, блистая в бело-голубом атласном платье между индийской музыкальной шкатулкой и персидским клоуном.
Мне никогда не разрешали ее заводить. Иногда, лежа ночью без сна, я слышал музыку из-за закрытой двери, тихую, нежную, почти чувственную… Образ отца в ночной рубашке, танцующего с Коломбиной в руках, почему-то не давал мне покоя. Я представлял, как он держит ее, гадал, осмеливается ли запустить руки под кружево ее юбок…
Мать я почти не видел. Ей часто нездоровилось, и она много времени проводила в своей спальне, куда мне не разрешалось заходить. Она была прекрасной и загадочной, с темными волосами и фиалковыми глазами. Помню, как однажды сунул голову в запретную комнату и увидел зеркало, украшения, шарфы, гору великолепных нарядов на постели. В воздухе витал аромат сирени – так пахла мама, когда наклонялась поцеловать меня на ночь, так пахло ее белье, в которое я зарывался лицом, когда горничная развешивала его на веревке.
Нянька говорила, что моя мать – писаная красавица. Мать вышла замуж против воли родителей и с тех пор не общалась с семьей. Может, поэтому она иногда смотрела на меня с каким-то настороженным презрением, может, поэтому ей никогда не хотелось приласкать меня или взять на руки. Как бы то ни было, я ее боготворил. Она всегда казалась такой недосягаемой, такой изысканной и безупречной, что я не смел выразить обожание, раздавленный собственной ничтожностью. Никогда я не винил мать за то, что она заставила меня сделать; долгие годы я проклинал лишь свое порочное сердце, как, должно быть, Адам клял змия за непослушание Евы.
Мне было двенадцать. Я еще пел в хоре, но мой голос уже достиг той почти нечеловеческой чистоты, что предвещает конец детства. Стоял август. То лето было особенно прекрасным: долгие сонные дни в голубой дымке, полные чувственных ароматов и томности. Я играл в саду с друзьями, было жарко и хотелось пить, волосы у меня торчали дыбом, как у дикаря, коленки позеленели от травы. Я тихонько пробрался в дом – хотел быстренько переодеться, пока нянька не заметила, в каком я виде.
В доме никого не было, кроме горничной на кухне, – отец в церкви готовился к вечерней службе, мама гуляла у реки, – и я побежал наверх, к себе. Остановившись на лестнице, я увидел, что дверь в мамину комнату приоткрыта. Помню, как смотрел на дверную ручку из бело-голубого фарфора, разрисованную цветами. Аромат сирени тянулся из прохладной темноты, и почти вопреки своей воле я сделал шаг и заглянул внутрь. Никого не видно. Виновато озираясь, я толкнул дверь и вошел, убеждая себя, что, раз дверь открыта, меня нельзя обвинить во вторжении. Впервые в жизни я оказался один в спальне матери.
Целую минуту я просто рассматривал ряды флаконов и безделушек на зеркале, затем осмелился потрогать шелковый шарф, кружево юбки, тонкую ткань сорочки. Я был очарован всеми ее вещами, таинственными бутылочками и баночками, расческами и щетками, в которых остались ее волосы. Казалось, комната и есть моя мама, ее пойманная сущность. Казалось, сумей я постичь каждую деталь этой комнаты – и узна́ю, как рассказать ей, насколько я ее люблю, подобрать слова, которые она поймет.
Протягивая руку к своему отражению в зеркале, я случайно опрокинул пузырек, и воздух наполнился пьянящим ароматом жасмина и жимолости. Я хотел скорей подобрать склянку, но вместо этого рассыпал пудру по туалетному столику. Однако запах так странно подействовал на меня, что я вовсе не испугался, а лишь тихонько хихикнул про себя. Мама еще не скоро вернется. Отец в церкви. Что плохого, если я немножко осмотрюсь? И, разглядывая вещи матери в ее отсутствие, я ощутил возбуждение, ощутил власть. Янтарное ожерелье подмигнуло мне в полумраке. Повинуясь порыву, я надел его. Прозрачный шарф, легкий как вздох, коснулся моей голой руки, я поднес его к губам и словно ощутил ее кожу, ее благоухание на своем лице.
Я впервые испытал удивительное покалывание во всем теле, постепенно оно сосредоточилось в точке сильнейшего напряжения; растущее трение, вызвавшее в сознании едва узнаваемые образы похоти. Я пытался убедить себя, что это все из-за комнаты. Шарф хотел нежно обернуться вокруг моей шеи. Браслеты сами оказались у меня на запястьях. Я снял рубашку и взглянул на себя в зеркало, а потом, не задумываясь, снял и брюки. На маминой кровати лежала накидка, изящная прозрачная вещица из шелка и пены кружев. Я завернулся в нее, лаская тонкую ткань, воображая, как она касалась ее кожи, представляя, как она выглядела…
Мне стало дурно, закружилась голова, густой аромат из опрокинутого флакона настиг меня, как невидимая армия суккубов, я слышал хлопанье их крыльев. Тогда я и понял, что принадлежу дьяволу. Что-то нечеловеческое заставляло меня продолжать, и, хотя я знал, что совершаю смертный грех, я не чувствовал вины. Я чувствовал бессмертие. Казалось, руками, что сжимали и тискали накидку, владел демонический разум. Я резвился в какой-то бешеной, исступленной радости… потом вдруг застыл в полнейшем бессилии, скорчившись от наслаждения, которого раньше не мог и представить. На секунду я оказался выше облаков, выше самого Бога… а затем пал, как Люцифер, вновь став маленьким мальчиком, и лежал на ковре, на смятом, изорванном шелке накидки, и украшения нелепо болтались на моих тощих запястьях.
Миг тупого безразличия. А потом чудовищность содеянного градом обрушилась на меня, колени подогнулись, и я заплакал в паническом ужасе и дрожащими руками потянулся к своей одежде. Схватив накидку, я скомкал ее и запихнул под рубашку. Подобрав ботинки, я кинулся в свою комнату и спрятал накидку в дымоходе за выпавшим камнем, поклявшись сжечь ее, когда нянька разведет огонь.
Паника слегка утихла, я не торопясь умылся, переоделся и десять минут пролежал на кровати, чтобы унять дрожь. Меня переполняло странное облегчение: я избежал немедленного разоблачения. Страх и вина превратились в радостное возбуждение – даже если меня накажут за то, что я ходил в комнату матери, наихудшего никогда не узнают. Это мой секрет, он свернулся в сердце моем подобно змию. Он рос внутри меня и даже сейчас продолжает расти.
Конечно, случившееся не осталось незамеченным: меня выдали рассыпанная пудра, пролитые духи – ну, и пропажа накидки. Лишь в этом я признался отцу: что зашел в комнату из любопытства, что нечаянно наступил на кружевную ткань, порвал ее и, чтобы избежать наказания, выбросил ее в пруд. Он поверил мне, даже похвалил за честность (как же смеялся и ликовал дьявол во мне!), и, хотя меня выпороли за безрассудный поступок, облегчение и даже восторг не исчезли. Отец, такой всемогущий, вдруг потерял власть: я его одурачил, солгал, а он и не понял. Что же до матери, возможно, она о чем-то догадывалась, потому что пару раз замечал я, как она странно смотрит на меня. Тем не менее она ни разу не заговорила об этом происшествии, и, очевидно, вскоре оно было забыто.
Я же так и не сжег накидку, спрятанную в дымоходе, и иногда, оставшись один, доставал ее из тайника и трогал складки шелка, пока наконец годы и дым, поднимавшийся по трубе, не превратили ее в ломкий коричневый пергамент и она не рассыпалась в прах, как пригоршня осенних листьев.
Мать умерла, когда мне было четырнадцать, через два года после рождения моего брата Уильяма. Ее чудесная спальня превратилась в больничную палату, заполненную венками из цветов, а она сама – в бледную худую тень и однако оставалась прекрасной до конца.
Отец проводил с ней все время, лицо его было непроницаемо. Однажды, проходя мимо комнаты, я услышал его безудержные рыдания и насмешливо скривился – я гордился тем, что ничего не чувствую.
Ее похоронили на церковном кладбище, прямо у входа в церковь, чтобы отец видел могилу, встречая прихожан. Я терялся в догадках: как этот суровый, богобоязненный человек женился на таком нежном, земном создании. Мысль, что его обуревали неведомые мне страсти, тревожила меня, и я старался выкинуть ее из головы.
Мне было двадцать пять, когда умер отец. Я путешествовал по Европе и узнал, лишь вернувшись в Англию. В ту зиму он вроде бы простудился, запустил болезнь (он крайне редко топил в доме, разве что в сильные морозы), не соблюдал постельный режим и в один прекрасный день свалился прямо в церкви. Начался жар, и отец умер, не приходя в сознание, оставив мне приличное наследство и необъяснимое ощущение, что теперь, мертвый, он сможет следить за каждым моим движением.
Я переехал в Лондон. Я весьма недурно рисовал и желал стать художником. Открыв для себя Британский музей и Королевскую академию искусств, я с головой ушел в живопись и скульптуру. Я намеревался создать себе имя и, сняв студию в Кеннингтоне, пять лет работал над картинами для своей первой выставки. В основном я писал аллегорические портреты, черпая идеи в произведениях Шекспира и классической мифологии, работая обычно маслом – это необходимо для тщательной проработки деталей, которая мне так нравилась. Один гость, пришедший взглянуть на картины, заметил, что мой стиль «весьма напоминает прерафаэлитов». Вдохновившись, я стал намеренно пестовать эту схожесть, заимствуя сюжеты из поэзии Россетти[3], хотя сам он отнюдь не казался мне человеком, которому следовало бы подражать.
Основная проблема заключалась в поиске моделей: у меня было мало знакомых в Лондоне, и после весьма неловкого случая в Хеймаркете я не решался обращаться к подходящим на вид женщинам с предложением работы. Мужчин писать не хотелось, в женщинах я видел куда больше поэзии – точнее, в особом типе женщин. Я дал объявление в «Таймс», но из двадцати откликнувшихся претенденток лишь одну или двух можно было условно назвать красивыми и уж вовсе ни одну – «приличной». Но пока они не раскрывали своих вульгарных ртов, я не жаловался и теперь, оглядываясь на свои ранние работы, с трудом могу поверить, что у очаровательной Джульетты был незаконнорожденный ребенок, а невинная Золушка любила приложиться к бутылке джина. В те дни я узнал о женщинах больше, чем когда-либо хотел знать. Я слушал их болтовню, видел их развращенность, читал их грязные мысли и презирал, несмотря на хорошенькие личики.
Некоторые пробовали соблазнить меня своими дешевыми уловками, но в те времена я держал своего внутреннего змия под контролем: каждое воскресенье я ходил в церковь, днем работал в студии, а вечерами отдыхал в респектабельном клубе. У меня было несколько приятелей, но я редко испытывал нужду в компании. Ведь у меня было искусство. Я даже вообразил, что женщины не имеют надо мной власти, что я наконец обуздал порывы грешной плоти. Вот на таком самомнении Господь и колесует грешников. Но время бежит, и я должен перепрыгнуть еще через три года, к тому моменту, когда мне исполнилось тридцать три, в тот ясный осенний день, когда я встретил свою Немезиду.
Одно время я писал детей – найти красивого ребенка, которого мать готова отпускать на несколько часов в день, не составляло труда. Я платил им по шиллингу в час – больше, чем некоторые из этих женщин зарабатывали сами. Итак, я, как обычно, гулял по парку и вдруг заметил женщину с ребенком – некрасивую особу в черном и маленькую девочку лет десяти, чье лицо было столь поразительно, что я остановился, не в силах отвести глаз.
Худенькая девочка, закутанная в уродливую черную пелерину, словно с чужого плеча, двигалась с необычным для своего возраста изяществом, но более всего меня потряс цвет ее волос – скорее белые, чем золотистые, и на мгновение она показалась маленькой старухой, подкидышем, оставленным эльфами среди веселых румяных ребятишек. У нее было заостренное, почти бесцветное лицо, большие бездонные глаза, не по-детски пухлые, но бледные губы и удивительно трагичный вид.
Я сразу понял, что она должна стать моей натурщицей: ее лицо обещало бесконечное разнообразие выражений, каждое движение было законченным шедевром. Глядя на нее, я знал, что этот ребенок станет моим спасением. Ее невинность тронула меня не меньше, чем ее призрачная красота, и, когда я подбежал к ним, в глазах у меня стояли слезы. От нахлынувших чувств я в первый миг даже не мог говорить.
Девочку звали Эффи, унылая женщина была ее теткой. Эффи жила над крошечной шляпной мастерской в переулке Кранбурн с теткой и матерью, которые были, что называется, приличными. Мать, миссис Шелбек, – вдова, находившаяся в стесненных обстоятельствах. Эта визгливая назойливая женщина ничем не походила на дочь. Предложенная мной плата в размере одного шиллинга в час была принята без какой-либо скромности и стеснения, обычно выказываемыми в благородных семьях. Подозреваю, предложи я половину этой суммы, ее приняли бы с той же готовностью – а я бы с радостью предложил вдвое больше.
Эффи пришла ко мне в студию – как подобает, в сопровождении тетки – в ту же неделю, и все утро я рисовал ее с различных ракурсов: в профиль, в три четверти, анфас, с поднятой головой, с опущенной… каждый набросок прелестнее предыдущего. Она великолепно позировала: не вертелась, не ерзала, как другие дети, не болтала и не улыбалась. Казалось, студия и сам я внушали ей благоговейный страх, она с почтительным изумлением тайком изучала меня. Потом пришла снова, а на третий раз – уже одна, без тетки.
Первая моя картина с ней называлась «Сон сестры», как стихотворение Россетти, и на ее создание ушло два месяца – совсем небольшое полотно, однако я тешил себя мыслью, что сумел передать взгляд Эффи. На картине она лежала в узкой детской кроватке, на белой стене над ней – распятие, а рядом на прикроватном столике – ваза с ветвями остролиста, символ Рождества. Брат сидит на полу у кровати, зарывшись головой в одеяло, а мать в черном стоит у изголовья, закрыв лицо руками. Эффи – центр картины, остальные фигуры темные и безликие, а она – в белой кружевной сорочке, которую я специально купил для этой работы, волосы рассыпаны по подушке. Одна обнаженная рука безвольно вытянута вдоль тела, другую Эффи по-детски подложила под щеку. Свет, льющийся в окно, преобразил ее, обещая избавление в смерти, чистоту и невинность тем, кто умирает в юности. Эта тема была созвучна моему сердцу, и мне суждено было повторить ее еще много раз в последующие семь лет. Иногда мне не хотелось отпускать ее домой вечерами: она так быстро росла, что я боялся потерять хоть час ее общества.
Эффи говорила мало, она была тихой малышкой, не знавшей заносчивости и тщеславия, присущих ее ровесницам. Она читала с жадностью, особенно поэзию: Теннисона, Китса, Байрона, Шекспира, – все это едва ли подходило для ребенка, хотя ее матери, похоже, было все равно. Однажды я решился поговорить об этом с Эффи, и, к моей радости, она прислушалась к советам. Я объяснил ей, что поэзия – превосходное чтение для, скажем, молодого человека, но она чересчур сложна для впечатлительной девочки. Слишком часто мотивы ее непристойны, а страсти чрезмерны. Я предложил ей несколько хороших, полезных книг и был счастлив, когда она покорно их прочла. В ней не было своенравия; казалось, она создана воплощением всех женских добродетелей, без единого недостатка, присущего этому полу.
Я никогда не стремился оставаться холостяком, но мои профессиональные отношения с женщинами приучили меня не доверять им, и я уже сомневался, найду ли когда-нибудь ту, «одну из тысячи», добродетельную и послушную. Однако чем больше я общался с Эффи, тем больше очаровывали меня ее красота и ласковый нрав, и я понял, что идеал можно сотворить.
В Эффи не было грязи – она была абсолютно чиста. Я не сомневался, что если сумею выпестовать черты ее характера, если буду с отеческой заботой следить за ее развитием, то взращу нечто редкое и чудесное. Я бы защитил ее от остального мира, воспитал себе ровню. Я буду лепить свой идеал, а потом, когда все будет готово… И тут нахлынуло воспоминание о маленьком мальчике в комнате, полной запретных чудес, а воздух будто наполнился тонким ностальгическим ароматом жасмина. Впервые этот образ не был искажен чувством вины: я знал, что меня спасет чистота Эффи. В ней не было ничего мирского, ничего чувственного – холодная беззаботность подлинной невинности. В ней обрету я спасение.
Я нашел ей частных учителей (мне хотелось оградить ее от контактов с другими детьми), покупал ей одежду и книги. Я нанял приличную домработницу для ее матери и тетки, чтобы Эффи не приходилось тратить время, помогая по дому. Я сдружился с ее нудной матерью, чтобы почаще бывать в их доме в переулке Кранбурн, и помогал им деньгами.
Теперь я писал Эффи почти непрерывно, вспоминая об остальных моделях, только если они требовались в качестве статисток. Я сосредоточился на Эффи: двенадцатилетняя Эффи, подросшая, в очаровательных белых платьях и голубых лентах, которые ее мать покупала по моему совету; Эффи в тринадцать, четырнадцать лет, фигура изящная, как у танцовщицы; в пятнадцать, глаза и губы стали выразительнее, лицо повзрослело; в шестнадцать, светлые волосы аккуратно уложены венцом, ротик нежно очерчен, под тяжелыми веками прекрасные глаза цвета дождя, кожа такая тонкая, что кажется, будто под глазами у нее синяки.
Наверное, я рисовал и писал Эффи не меньше сотни раз: она была Золушкой, Марией, юной послушницей в «Цветке страсти», Беатриче на небесах, Джульеттой в гробу, Офелией, плетущей венок из лилий, Маленькой нищенкой в лохмотьях. Последним ее портретом того времени стала «Спящая красавица», композицией очень похожая на «Сон сестры»: Эффи снова вся в белом, как невеста или послушница, на той же детской кроватке, но волосы гораздо длиннее (я всегда убеждал ее не стричь их), спадают на пол, в вековую пыль. С потолка льются солнечные лучи, усики плюща заползли в комнату через окно. Скелет в доспехах, увитый всепроникающим плющом, словно предупреждает о том, как опасно тревожить спящую невинность. Лицо Эффи обращено к свету, она улыбается во сне и не подозревает, какое опустошение окружает ее.
Я больше не мог ждать. Пришло время разрушить сплетенные мной чары, что заставляли ее ждать меня все эти годы. Я понимал, что она очень юна, но еще год – и я могу потерять ее навсегда.
Ее мать нисколько не удивилась, что я хочу жениться на ее дочери. А готовность, с которой она дала согласие, подтвердила, что она предвидела такую возможность. В конце концов, я был богат, и, если Эффи выйдет за меня, я, разумеется, должен буду помогать ее родным, к тому же мне было почти сорок, а ей – только семнадцать. Когда я умру, все мое состояние перейдет к ней. Тетка (кислая старая дева, чьей единственной подкупающей чертой была всепоглощающая привязанность к Эффи) не одобряла этого решения. Она считала, что Эффи слишком молода, слишком ранима, она не осознает, что потребуется от нее после свадьбы. Ее возражения меня не волновали. Я заботился лишь об Эффи. Она была моей, я взрастил ее рядом с собой, как плющ на стволе дуба.
К алтарю она пошла в том самом старинном вышитом платье, в котором позировала для «Спящей красавицы».







