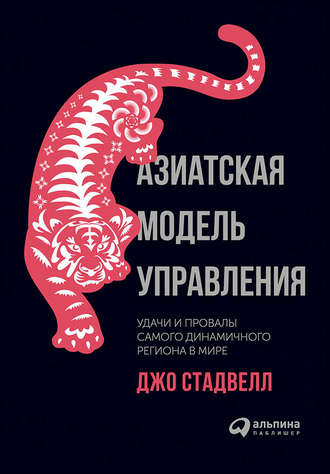
Джо Стадвелл
Азиатская модель управления: Удачи и провалы самого динамичного региона в мире
Американский ответ
Искажение китайской земельной реформы в процессе коллективизации произошло лишь в конце 1950-х гг. До этого в течение целого десятилетия после Второй мировой войны Китай оставался маяком для региона благодаря организованной коммунистами земельной реформе, приведшей к созданию мелких семейных фермерских хозяйств.
В соседней Северной Корее, оккупированной советскими войсками в конце войны, местная Коммунистическая партия во главе с Ким Ир Сеном тоже осуществила в 1946 г. радикальную земельную реформу. Она достигла своей цели при гораздо более низком уровне насилия, чем в Китае. В обеих странах (по крайней мере, до тех пор, пока в Северной Корее не началась в 1954 г. коллективизация) коммунисты приобрели огромную популярность среди фермеров. Их аграрные реформы бросили политический вызов всему региону. Вызов требовал ответа от другой влиятельной силы в Восточной Азии – от США.
Американские политики и чиновники прилагали немалые усилия, чтобы достичь консенсуса по поводу ответа. С одной стороны, обязательное перераспределение чужой частной собственности решительно противоречило американским идеалам в свете давнего законного права граждан США заявлять о владении жилищем с прилегающим участком. С другой стороны, более либерально настроенные специалисты по внешней политике в Вашингтоне утверждали, что земельная реформа была необходима, чтобы сделать азиатские социумы более справедливыми и – в условиях зарождавшейся холодной войны – менее восприимчивыми к нарастающему влиянию коммунизма. (В 1945 г. еще не был накоплен значительный массив фактических доказательств того, что земельная реформа непременно приведет к ускорению экономического роста.) Противоречия между сторонниками имущественного права собственников и теми, кто рассматривал земельную реформу в качестве ключевого условия стабилизации союзников США в Азии, так никогда и не разрешились; это привело к непоследовательной политике на протяжении нескольких лет, а затем и к отказу от поддержки перераспределения земли, несмотря на его очевидные плюсы.
Ближе к завершению мировой войны, унесшей жизни 50 млн человек, возник повышенный спрос на смелую политику, и земельные реформаторы одержали решающую начальную победу по отношению к Японии зимой 1945/46 гг. Генерала Дугласа Макартура, главнокомандующего союзными оккупационными войсками (Supreme Commander for the Allied Powers, SCAP) в Японии, уговорили официально проводить политику под лозунгом «Землю – крестьянам».
Однако импульс к переменам в других государствах, находившихся под влиянием США, быстро натолкнулся на сопротивление в Южной Корее. Там командующий сухопутными силами США выступил категорически против перераспределения земли, а вашингтонская политическая элита была не столь уж заинтересована в форсировании этого вопроса. Но земельная реформа Ким Ир Сена, проведенная весной 1946 г. на Севере, поставила Штаты и Ли Сын Мана, их политическую марионетку в Сеуле, перед свершившимся фактом. Закон о реформе был принят, но президент Ли не спешил с его реализацией, а Вашингтон на него не давил. В конечном счете этот вопрос был закрыт гражданской войной в Корее 1950–1953 гг., после которой перераспределение земли реально началось.
В материковом Китае реакция американцев на коммунистическую земельную реформу во время гражданской войны 1946–1949 гг. безнадежно и непростительно запоздала. В октябре 1948 г. правительство США спонсировало создание Совместной комиссии по восстановлению сельских районов (Joint Commission on Rural Reconstruction, JCRR) со своими союзниками из партии Гоминьдан (националистами) – намного позже завершения земельной реформы в районах, контролируемых коммунистами. JCRR финансировала небольшие эксперименты по перераспределению под девизом «Землю – крестьянам» в немногих районах Центрального Китая, еще находившихся под властью националистов в последние 12 месяцев гражданской войны{49}. Но после того как националисты потерпели поражение и бежали на Тайвань, незначительное вмешательство США в материковой части сменилось гораздо более усилившейся целенаправленной политикой в островной части государства. Деятельность JCRR перенесли на Тайвань и значительно расширили. Когда в начале 1950-х гг. решимость Чан Кайши перераспределить частную земельную собственность ослабла, именно его американские союзники настояли на продолжении реформы. Впрочем, это был последний случай, когда Вашингтон использовал свое влияние на то, чтобы в Восточной Азии земельная реформа действительно состоялась. Союзники США в Юго-Восточной Азии подобному давлению никогда не подвергались.
Вклад США был импульсивным порывом, отражавшим те смешанные чувства, которые земельная реформа вызывала у американских политиков и военачальников. Если в поверженной Японии они действовали оперативно и решительно, то в Южной Корее проявили колебания, пока события на Севере не заставили США действовать, а в континентальном Китае вели себя слишком скромно и постоянно запаздывали, зато, хоть и с запозданием, активно вмешались в политику Тайваня. Победа коммунизма в Китае и Северной Корее потребовала от американцев проявить четко выраженное лидерство. В конце концов его хватило для стабилизации политической ситуации в Северо-Восточной Азии и фиксации границ в начинавшейся холодной войне. США приняли на себя лидерство по необходимости, а не вследствие реальных убеждений политиков в Вашингтоне. Вот почему импульс к проведению земельной реформы оказался слишком быстротечным для Юго-Восточной Азии (включая американскую колонию Филиппины и другую, брошенную американцами колонию – Южный Вьетнам), чтобы ощутить выгоды от поддержанного США перераспределения земли.
Политическая воля в начале 1950-х гг. исходила не из общей политики США, а от нескольких здравомыслящих личностей. И к лучшим из них принадлежит Вольф Ладежинский.
Горстка отважных
Для правительства США Ладежинский был главным советником по сельскохозяйственным вопросам в Азии. Натурализованный американец, родившийся на Украине в 1899 г. и бежавший от русской революции, он вспоминал: «Я пришел на эту работу главным образом вследствие урока, полученного мной на собственном опыте до того, как в начале 1921 г. я покинул Россию, а именно, что коммунисты никогда бы не захватили политической власти, если бы не решили земельный вопрос, передав землю крестьянам»{50}. При этом Ладежинский отмечал, что русские коммунисты, завоевав народную поддержку благодаря переходу к семейному фермерству, потом переключились на принудительную коллективизацию. Он правильно предсказал, что такой же процесс произойдет и в Китае, куда он был направлен в 1949 г. Министерством сельского хозяйства США в рамках запоздалой попытки JCRR провести земельную реформу в последние месяцы гражданской войны{51}.
За четыре года до этого, в 1945-м, Ладежинский был прикомандирован к штабу SCAP генерала Макартура, управлявшего оккупированной Японией. В этой должности он подготовил техническую часть для написанного в октябре 1945 г. меморандума Государственного департамента США для Макартура, в котором убедительно доказывалась необходимость экспроприации всех сельскохозяйственных земель, сдаваемых в аренду{52}. Многие люди в окружении Макартура выступали за более мягкую политику сокращения ренты, но Ладежинский настаивал на том, что именно радикальная политика способна подорвать поддержку коммунистов на местах. Он также доказывал, что принудительное снижение арендной ренты заставит многих землевладельцев собственноручно обрабатывать свои земли, что приведет к увеличению числа безземельных крестьян. Ладежинский и его союзники убедили Макартура, занимавшего консервативную позицию и не проявлявшего до того никакого интереса к данной теме, настаивать на законодательном оформлении земельной реформы в Японии.
Инструкция Макартура, направленная японскому правительству, аккуратно воспроизводила преамбулу к проекту аграрного закона Коммунистической партии Китая от 1947 г.:
Для того чтобы Императорское правительство Японии устранило экономические барьеры на пути к возрождению и укреплению демократических тенденций, соблюдало уважение человеческого достоинства и уничтожило экономическую кабалу, которая обрекла японских крестьян на столетия феодального гнета, Императорскому правительству Японии предписано принять меры с целью обеспечения тех, кто обрабатывает земли Японии, более равными возможностями для того, чтобы пользоваться плодами своего труда. ‹…› Таким образом, Императорскому правительству Японии приказывается представить в штаб программу земельной реформы в сельских районах не позднее 15 марта 1946 г.{53}
В парламенте Японии и без того уже существовало движение прогрессивных политиков, настаивавших на принятии нового закона о земельной реформе. Первый законопроект о земельной реформе был одобрен еще в конце 1945 г., однако он предусматривал более продолжительные сроки исполнения для землевладельцев, что снижало его эффективность, а также содержал многочисленные юридические лазейки, которыми могли воспользоваться землевладельцы. Макартур и его штаб SCAP, включая представителей Советского Союза и Великобритании в Контрольном совете по Японии, потребовали от парламента написать второй, более радикальный и не допускающий двойного толкования законопроект, который был одобрен в октябре 1946 г. Хотя сам законопроект и разрабатывался в японском парламенте, значительную часть его технических деталей предложили Вольф Ладежинский и его команда{54}. Так в Японии начался второй замечательный этап ее экономического развития.
От теории к практике
При проведении земельной реформы практически во всех районах страны была установлена предельная площадь для одного фермерского хозяйства в размере не более трех гектаров. Ключевым механизмом для реализации этого принципа стало создание земельных комитетов, где местные арендаторы и владельцы ферм преобладали по численности над землевладельцами. Комитеты обладали юридической властью над очень болезненным для землевладельцев процессом: им предстояло потерять свои земли в обмен на облигации со сроком погашения 30 лет и оплатой по ставке 3,6 % ниже рыночной стоимости, притом что темпы инфляции были настолько высокими, что практически обесценивали будущую компенсацию{55}. Приблизительно два миллиона семей земельная реформа обрекала на убытки, а четырем миллионам гарантировала выгоды.
За несколько месяцев до начала земельного передела, по оценкам министерства сельского хозяйства, было зафиксировано 250 000 случаев, когда землевладельцы пытались удержать свои земли, забрав их у арендаторов. Земельным комитетам, в обязанности которых входил контроль над любой передачей имущества с целью избежать земельной реформы, удалось пресечь практически все эти попытки. Во время проведения реформы (1947–1948 гг.) было зафиксировано всего 110 столкновений между землевладельцами и арендаторами без единого смертельного исхода. Историк сельского хозяйства Рональд Дор отметил: «Сам факт, что она [реформа] была навязана извне, в очень большой степени способствовал мирному и упорядоченному ее проведению. Арендаторы могли получить свои земли не с огнем революции в глазах, а как бы извиняясь, словно им приходится еще хуже, чем землевладельцам, ибо причина не в них, а в законе, за который они не несут никакой личной или коллективной ответственности»{56}.
Кроме требования о перераспределении земли, закон о сельскохозяйственной земле налагал многочисленные ограничения на ее продажу по завершении реформы. Земля не возвращалась в аренду, как это было после реформ Мэйдзи. Почти 40 % (немногим менее двух миллионов гектаров) пригодных для обработки земель сменили хозяев, и к середине 1950-х гг. в аренде оставалось менее 10 % сельскохозяйственных угодий. Большинство арендных платежей исчезло, а послевоенная инфляция уничтожила и долги фермеров, так же как она обнулила стоимость облигаций, выданных землевладельцам, и привела к повышению цен на сельхозпродукцию, продаваемую на черном рынке за пределами официальных государственных закупок. Быть фермером стало выгодно. Производство и потребление на селе в начале 1950-х гг. намного превысили предвоенный уровень, в то время как городское население Японии все еще пыталось вернуться к уровню жизни 1930-х гг.{57}
Правительство потратило значительные средства на развитие сельской инфраструктуры, предлагая множество различных субсидий и дотаций фермерам и обеспечив в среднем одного консультанта по сельскому хозяйству на каждое село. Также через сельские кооперативы предлагались кредиты с относительно низкой процентной ставкой. В результате сельхозпроизводство в Японии с 1955 по 1970 гг. устойчиво росло на 3 % в год{58}. Япония стала покрывать свои потребности в продуктах питания, а занятость в сельском хозяйстве достигла пика.
В 1955 г. аграрный сектор обеспечивал занятость 40 % населения Японии и почти 20 % национального дохода. Проведение более основательной и длительной земельной реформы, которая ориентировала аграрную экономику на повышение урожайности, а не на доходы от аренды, подготовило почву для послевоенного японского экономического чуда. Сделало возможным экономическое развитие с высоким уровнем равномерного распределения доходов и поддержало рост производственных мощностей в сельских муниципалитетах.
Однако воздействие всеобъемлющей земельной реформы в Японии следует рассматривать в контексте страны, которая к началу Второй мировой войны уже продвинулась в своей экономической модернизации дальше, чем любое другое азиатское государство. Гораздо более интересные результаты принесли земельные реформы, проведенные по японскому образцу в Южной Корее и на Тайване. Эти государства начали свое развитие с самых низких ступеней эволюционной лестницы. Их восхождение под побуждением радикальной аграрной политики позволяет провести более точное изучение ее потенциала.
Повышение роли ускоренного развития
Землевладение в дореформенной Южной Корее выделялось наибольшим неравенством среди всех стран Северо-Восточной Азии. Вольф Ладежинский, писавший о корейском сельском хозяйстве до раздела страны в 1945 г., цитировал аналитический отчет Государственного департамента США от 1928 г., в котором указывалось, что менее 4 % домохозяйств владели 55 % сельскохозяйственных угодий, в то время как насчитывалось четверть миллиона безземельных семей, арендовавших необработанные участки{59}. В колониальный период сельское хозяйство Кореи получало меньше государственных инвестиций по сравнению с Тайванем. Столкнувшись в Корее с более сильной, чем на Тайване, политической оппозицией своему правлению, Япония установила здесь и более репрессивный режим. К концу колониального периода в 1945 г. японцам принадлежало около 20 % всей корейской земли, а большинство местных фермеров были исключительно арендаторами.
Американское военное правительство (American Military Government, AMG), которое стало оккупационной силой в Южной Корее с сентября 1945 г., ввело регулирование арендной платы и стало требовать письменных договоров аренды на земли, находившиеся ранее под контролем японцев. Однако американский военный губернатор генерал Арчер Лерч не был настроен на проведение земельной реформы, рассматривая ее как проявление социалистической политики; его заботой было удержать Советы к северу от 38-й параллели и подавить коммунизм на юге страны. Внимание же сторонников земельной реформы, либералов в Вашингтоне, тем временем было приковано к Японии.
Вмешательство американцев подстегнули развернувшиеся события. Начиная с марта 1946 г. земельная реформа с щедрым сохранением пяти гектаров у каждого собственника начала проводиться в Северной Корее. При этом было мало проявлений насилия, а массовая поддержка крепнущего коммунистического правительства заметно возросла. На юге, наоборот, нарастало недовольство репрессивным правлением AMG и его не вполне законным местным союзником Ли Сын Маном, высокомерным давним эмигрантом, лишь недавно вернувшимся на родину. Осенью 1946 г. Государственный департамент США пришел к выводу, что проведение земельной реформы необходимо подтолкнуть. Тем не менее генерал Лерч и Ли Сын Ман продолжали ей сопротивляться.
Лишь после смерти Лерча в 1947 г. AMG организовало перераспределение земель, находившихся ранее во владении японцев. Реформа затронула вначале немногим более 10 % возделываемых земель Южной Кореи, но уже одно это повысило энтузиазм населения. В 1948 г. Южная Корея стала суверенным государством, и уже в следующем году, несмотря на свои тесные связи с землевладельцами, новый корейский парламент одобрил законопроект об основательной земельной реформе. Законопроект был значительно более радикальным, чем того хотел президент Ли. Он наложил на законопроект вето, однако законодатели его преодолели.
В июне 1949 г. Ли пришлось подписать закон о земельной реформе. Парламентарии, имевшие значительную земельную собственность, заняли тем не менее принципиальную позицию по вопросу о перераспределении земель. Это служит напоминанием о том, что демократия не всегда враждебна экономическому развитию{60}. Что касается Ли, то он продолжал уклоняться от реализации реформы, и к ней приступили всего за неделю до начала корейской войны в июне 1950 г.
Война началась с северокорейского вторжения, и по его ходу северяне оперативно создали комитеты фермеров на большей части юга, бесплатно перераспределив более полумиллиона гектаров земли в пользу миллиона с лишним семей. После того как в конце 1950 г. объединенные войска США и ООН вновь заняли юг, коммунистическую земельную реформу признали незаконной, и Ли, понукаемый Штатами, с опозданием приступил к осуществлению программы южан. Эта работа была завершена к концу 1952 г.
В формальном отношении корейская реформа во многом походила на ту, что принудительно уже была проведена в Японии, и на ту, что ожидалась на Тайване. Предельный размер участка составил три гектара. Компенсации землевладельцам были крайне скудными, так что некоторые потеряли до 90 % стоимости своих активов. Реформа при этом проводилась более централизованно и при гораздо меньшем участии фермеров в этом процессе, чем в Японии и на Тайване. Это помогает объяснить ряд специфических для Южной Кореи последствий. Во-первых, много участков землевладельцы продали вне рамок формального процесса земельной реформы – иногда сторонним арендаторам, а иногда и родственникам. Во-вторых, в Южную Корею вернулась аренда, во многом нелегально, обходя закон о земельной реформе, и к концу 1970-х гг. охватила около четверти сельскохозяйственных земель. Тем не менее доля собственников возросла с едва ли 10 % от общего количества фермерских семейных хозяйств в 1945 г. до более чем 70 % в 1964 г.{61} После реформы почти половина фермеров обрабатывали площади менее чем в полгектара.
Продуктивность сельского хозяйства в Южной Корее росла не так быстро, как в Японии. В 1950-х гг. правительство Ли Сын Мана принудительно закупало рис по ценам ниже себестоимости его производства; при таких обстоятельствах фермерские семейные хозяйства несколько увеличили свои урожаи, но предпочитали съедать излишки сами, нежели продавать их себе в убыток. В конце 1950-х гг., чтобы избежать голода, Корея попала в зависимость от продовольственной помощи США.
Затем, после военного путча 1961 г., осуществленного генералом Пак Чон Хи, правительство повысило закупочные цены и увеличило инвестиции в сельскую инфраструктуру и отечественные заводы по производству удобрений. Именно благодаря поддержке, оказанной государством в 1960 –70-х гг. семейным фермам по примеру Японии и Тайваня, ощутимо возросли урожаи. Производство риса увеличилось в среднем от 3 т (в середине 1950-х гг.) до 5,3 т с га (в середине 1970-х гг.) – меньше, чем в Японии или на Тайване, но все же в полтора-два раза больше, чем в государствах Юго-Восточной Азии или Китае 1970-х гг. с его кооперативным хозяйством.
Государство Южной Кореи было менее способно извлечь средства из своего не столь продуктивного сельского хозяйства для финансирования индустриализации, чем Япония эпохи Мэйдзи или Япония и Тайвань после Второй мировой войны. Когда дело доходило до финансов, корейское правительство сильно зависело от иностранных займов. Тем не менее сельское хозяйство в значительной степени поспособствовало национальному развитию: давало работу огромному числу людей до тех пор, когда их оказалась готова принять промышленность; обеспечило дешевое пропитание для городских рабочих через субсидируемые государством закупки; создало значительный внутренний спрос на первоначальную продукцию корейских промышленников и предотвратило возможную серьезную зависимость страны от импорта продовольствия. Производительность пореформенного сельского хозяйства Южной Кореи разительно отличалась от той, что была до Второй мировой войны, или от той, с которой менее успешные государства Восточной Азии продолжали мириться в послевоенное время.


