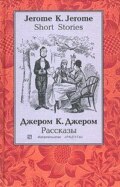Джером К. Джером
Трое в лодке, не считая собаки
Глава четвертая
Продовольственный вопрос. – Отрицательные свойства керосина. – Преимущества путешествия в компании с сыром. – Замужняя женщина бросает свой дом. – Дальнейшие меры на случай аварии. – Я укладываюсь. – Зловредность зубных щеток. – Джордж и Гаррис укладываются. – Чудовищное поведение Монморенси. – Мы отходим ко сну.
Потом мы начали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал:
– Начнем с утреннего завтрака. (Джордж всегда так практичен!) Для утреннего завтрака нам понадобятся сковорода (Гаррис сказал, что она плохо переваривается, но мы предложили ему не быть ослом, и Джордж продолжал), чайник и спиртовка. Ни капли керосина, – сказал Джордж многозначительно, и мы с Гаррисом согласились.
Один раз мы взяли с собой керосинку, но больше – никогда! Целую неделю мы как будто жили в керосиновой лавке. Керосин просачивался всюду. Я никогда не видел, чтобы что-нибудь так просачивалось, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав лодку и все ее содержимое. Он растекся по всей реке, заполнил собой пейзаж и отравил воздух. Иногда керосиновый ветер дул с запада, иногда с востока, а иной раз это был северный керосиновый ветер или, может быть, южный, но, прилетал ли он из снежной Арктики или зарождался в песках пустыни, он всегда достигал нас, насыщенный ароматом керосина.
Этот керосин просачивался все дальше и портил нам закат. Что же касается лучей луны, то от них просто разило керосином.
Мы попытались уйти от него в Марло. Чтобы избавиться от керосина, мы оставили лодку у моста и пошли по городу пешком, но он неотступно следовал за нами. Весь город был полон керосина. Мы проходили по кладбищу, и нам казалось, что покойников закопали в керосин. Главная улица провоняла керосином; мы не могли понять, как на ней можно жить. Милю за милей проходили мы по Бирмингемской дороге, но бесполезно: вся местность пропиталась керосином.
В конце концов мы сошлись в полночь в безлюдном поле, под сожженным молнией дубом, и дали страшную клятву (мы уже и так целую неделю кляли керосин в обычном обывательском стиле, но теперь это было нечто грандиозное) – страшную клятву никогда больше не брать с собой в лодку керосин, разве только на случай болезни.
Итак, на этот раз мы ограничились спиртом. Это тоже достаточно плохо. Приходится есть спиртовой пирог и спиртовое печенье. Но спирт, принимаемый внутрь в больших количествах, полезнее, чем керосин.
Из прочих вещей Джордж предложил взять для первого завтрака яйца с ветчиной, которые легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. Для второго завтрака он рекомендовал печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр. Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает. Он хочет захватить для себя всю лодку. Он проникает сквозь корзину и придает всему привкус сыра. Вы не знаете, что вы едите – яблочный пирог, сосиски или клубнику со сливками. Все кажется вам сыром. У сыра слишком много запаха.
Помню, один мой друг купил как-то в Ливерпуле пару сыров. Чудесные это были сыры – выдержанные, острые, с запахом в двести лошадиных сил. Он распространялся минимум на три мили, а за двести ярдов валил человека с ног. Я как раз был тогда в Ливерпуле, и мой друг попросил меня, если я ничего не имею против, отвезти его покупку в Лондон. Он сам вернется туда только через день-два, а этот сыр, как ему кажется, не следует хранить особенно долго.
– С удовольствием, дружище, – ответил я. – С удовольствием.
Я заехал за сыром и увез его в кебе. Это была ветхая колымага, влекомая кривоногим запаленным лунатиком, которого его хозяин в минуту увлечения, разговаривая со мной, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы тронулись со скоростью, которая сделала бы честь самому быстрому паровому катку в мире. Все шло весело, как на похоронах, пока мы не повернули за угол. Тут ветер ударил запахом сыра прямо в ноздри нашему рысаку. Это пробудило его, и, фыркнув от ужаса, он ринулся вперед с резвостью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в его сторону, и мы еще не достигли конца улицы, как наш конь уже стлался по земле, делая почти четыре мили в час и оставляя за флагом всех калек и толстых пожилых дам.
Чтобы остановить его у вокзала, потребовались усилия двух носильщиков и возницы. Я думаю, что даже они не могли бы это сделать, если бы одному из носильщиков не пришло в голову накинуть на морду лошади носовой платок и зажечь у нее под носом кусок оберточной бумаги.
Я взял билет и, гордо неся свои сыры, вышел на платформу; народ почтительно расступался передо мной. Поезд был битком набит, и мне пришлось войти в отделение, где уже и так сидело семь человек пассажиров. Один сварливый старый джентльмен запротестовал было, но я все же вошел, положил свои сыры в сетку, втиснулся на скамью и с приятной улыбкой сказал, что сегодня тепло. Прошло несколько минут, и старый джентльмен начал беспокойно ерзать на месте.
– Здесь очень душно, – сказал он.
– Совершенно нечем дышать, – подтвердил его сосед.
Потом оба потянули носом и, сразу попав в самую точку, встали и молча вышли. После них поднялась старая дама и сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней женщиной. Она взяла чемодан и восемь свертков и ушла. Четыре оставшихся пассажира некоторое время продолжали сидеть, но потом какой-то сумрачный господин в углу, принадлежавший, судя по одежде и внешнему облику, к классу гробовщиков, сказал, что ему невольно вспомнились мертвые дети. Тут остальные три пассажира сделали попытку выйти из двери одновременно и ушиблись о косяки.
Я улыбнулся мрачному джентльмену и сказал, что мы, кажется, останемся в отделении вдвоем. Он добродушно засмеялся и заметил, что некоторые люди любят поднимать шум из-за пустяков. Но когда мы тронулись, он тоже пришел в какое-то подавленное состояние, так что по приезде в Кру я предложил ему пойти со мной выпить. Он согласился, и мы с трудом пробились в буфет, где с четверть часа кричали, стучали ногами и махали зонтиками. Наконец к нам подошла барышня и спросила, чего бы мы хотели.
– Что будем пить? – обратился я к моему спутнику.
– Мне, пожалуйста, на полкроны чистого бренди, мисс, – сказал он.
А потом, выпив свое бренди, он незаметно удалился и сел в другой вагон, что я расценил как низость.
От Кру я ехал в отделении один, хотя поезд был набит до отказа. Когда он подходил к станциям, публика, видя пустое купе, бросалась к дверям. «Сюда, Мария, иди сюда, масса мест!» – «Прекрасно, Том, мы сядем здесь!» И они бежали, таща свои тяжелые чемоданы, и толкались у дверей, чтобы войти первыми. Кто-нибудь открывал дверь и поднимался на ступеньки, но сейчас же, шатаясь, падал на руки соседа. За ним входили остальные и, потянув носом, тут же соскакивали и втискивались в другие вагоны или доплачивали разницу и ехали в первом классе.
С Юстонского вокзала я отвез сыры на квартиру моего приятеля. Его жена, войдя в комнату, понюхала воздух и спросила:
– Что случилось? Скажите мне все, даже самое худшее.
Я ответил:
– Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил меня привезти его к вам. Надеюсь, вы понимаете, – прибавил я, – что сам я здесь ни при чем.
Она сказала, что уверена в этом, но что, когда Том вернется, она с ним еще поговорит.
Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем думал. Когда прошло три дня и он не вернулся, его жена явилась ко мне. Она спросила:
– Что говорил Том насчет этих сыров?
Я ответил, что он рекомендовал держать их в не очень сухом месте и просил, чтобы никто к ним не прикасался.
– Сомнительно, чтобы кто-нибудь прикоснулся к ним, – сказала жена Тома. – А он их нюхал?
Я выразил предположение, что да, и прибавил, что он, видимо, очень дорожит этими сырами.
– Как вы думаете, Том очень огорчится, если я дам кому-нибудь соверен и попрошу унести эти сыры и закопать их в землю? – спросила жена Тома.
Я ответил, что, по моему мнению, он после этого ни разу больше не улыбнется.
Ей пришла в голову новая идея. Она сказала:
– Не согласитесь ли вы подержать их у себя до приезда Тома? Позвольте мне прислать их к вам.
– Сударыня, – ответил я, – что касается меня лично, то я люблю запах сыра и путешествие с этими сырами из Ливерпуля всегда буду вспоминать как счастливое завершение приятного отпуска. Но на нашей земле приходится считаться с другими. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова и, насколько я знаю, сирота. Она энергично, я бы даже сказал – красноречиво, возражает против того, чтобы ее, по ее выражению, «обижали». Наличие в ее доме сыров вашего мужа – я это инстинктивно чувствую – она воспримет как обиду. А я не допущу, чтобы про меня говорили, будто я обижаю вдов и сирот.
– Прекрасно, – сказала жена Тома и встала. – Тогда мне остается одно: я заберу детей и перееду в гостиницу на то время, пока этот сыр не будет съеден. Я отказываюсь жить с ним под одной кровлей. Она сдержала слово и оставила квартиру на попечение служанки. Последняя, на вопрос, может ли она выносить этот запах, ответила: «Какой запах?» – а когда ее подвели близко к сыру и предложили хорошенько понюхать, сказала, что чувствует легкий запах дыни. Из этого был сделан вывод, что такая атмосфера не принесет служанке особого вреда, и ее оставили в квартире.
Счет из гостиницы составил пятнадцать гиней, и мой приятель, подытожив все расходы, выяснил, что сыр обошелся ему по восемь шиллингов и шесть пенсов фунт. Он сказал, что очень любит съесть иногда кусочек сыра, но что это ему не по средствам, и решил от него избавиться. Он выбросил сыр в канал, но его пришлось оттуда выудить, так как лодочники подали жалобу. Они сказали, что им делается дурно. После этого мой приятель в одну темную ночь отнес свой сыр в покойницкую при церкви. Но коронер[2] обнаружил сыр и поднял ужасный шум. Он сказал, что это заговор, имеющий целью лишить его средств к существованию путем оживления мертвецов.
В конце концов мой приятель избавился от своего сыра: он увез его в один приморский город и закопал на пляже. Это создало городу своеобразную славу. Приезжие говорили, что только теперь заметили, какой там бодрящий воздух, и еще много лет подряд туда толпами съезжались слабогрудые и чахоточные.
Поэтому хоть я и очень люблю сыр, но считаю, что Джордж был прав, отказываясь взять его с собою.
– Чая мы пить не будем, – сказал Джордж (лицо у Гарриса вытянулось), – но мы будем основательно, плотно, шикарно обедать в семь часов. Это будет одновременно и чай, и обед, и ужин.
Гаррис несколько повеселел. Джордж предложил взять с собой мясные и фруктовые пироги, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы запаслись какой-то удивительно липкой микстурой, изготовленной Гаррисом, которую смешивают с водой и называют лимонадом, достаточным количеством чая и бутылкой виски – на случай аварии, как сказал Джордж.
Мне казалось, что Джордж слишком уж много говорит об аварии. Это не дело – пускаться в путь с такими мыслями.
Но все же хорошо, что мы захватили с собой виски.
Вина и пива мы с собой не взяли. Пить их на реке – большая оплошность. От них становишься грузным и сонливым. Стакан пива вечером, когда вы бродите по городу, глазея на девушек, – это еще ничего. Но не пейте, когда солнце припекает вам голову и вам предстоит тяжелая работа.
Прежде чем разойтись, мы составили список вещей, которые нужно было захватить, – довольно длинный список! На следующий день, в пятницу, мы собрали все вещи в одно место, а вечером сошлись, чтобы уложиться. Мы достали большой чемодан для белья и платья и две корзины под провизию и посуду. Стол мы отодвинули к окну, вещи свалили в кучу посреди пола и, усевшись в кружок, долго смотрели на них.
– Я буду укладывать, – сказал я.
Я горжусь своим умением укладывать. Это одно из многих дел, которые я, по моему глубокому убеждению, умею делать лучше всех на свете (меня самого иногда удивляет, сколько существует таких дел). Я убедил в этом Джорджа и Гарриса и сказал, что лучше всего будет предоставить всю эту работу мне одному. Они приняли это предложение с удивительной готовностью. Джордж зажег трубку и улегся в кресло. Гаррис закурил сигару и развалился в другом кресле, закинув ноги на стол.
Это было не совсем то, чего я ожидал. Я предполагал, разумеется, что Гаррис и Джордж будут действовать по моим указаниям, а сам собирался только руководить работой, то и дело отталкивая их и прикрикивая: «Эх вы! Дайте-ка я сам сделаю. Видите, как это просто!» Я думал, так сказать, о роли учителя. То, что они поняли это иначе, раздражало меня. Ничто меня так не раздражает, как вид людей, которые сидят и ничего не делают, когда я работаю.
Мне как-то пришлось жить с одним человеком, который доводил меня таким образом до бешенства. Он часами валялся на диване и смотрел, как я тружусь; его взор следовал за мной, куда бы я ни направился. Он говорил, что ему прямо-таки полезно смотреть, как я работаю. Он понимает тогда, что жизнь – это не праздные мечты, не сплошная скука и зевота, но благородное дело, в котором главное – чувство долга и суровый труд. Он, по его словам, часто удивлялся, как ему удалось прожить до встречи со мной, когда он не имел возможности смотреть на кого-нибудь, кто работает.
Ну а я совсем другой человек. Я не могу спокойно сидеть и смотреть, как кто-нибудь трудится. Мне хочется встать и распоряжаться, расхаживать по комнате, заложив руки в карманы, и указывать, что надо делать. Такая уж у меня деятельная натура.
Тем не менее я не сказал ни слова и начал укладываться. Эта работа потребовала больше времени, чем я предполагал, но наконец я уложил чемодан и, сев на него, начал затягивать ремни.
– А сапоги ты не будешь укладывать? – спросил Гаррис.
Я оглянулся и увидел, что забыл уложить сапоги. Это очень похоже на Гарриса. Он, конечно, не вымолвил ни слова, пока я не уложил чемодан и не затянул ремни. Джордж засмеялся своим раздражающим, тупым, бессмысленным, неприятным смехом. Как они оба меня бесят!
Я раскрыл чемодан и уложил сапоги. Когда я собирался его закрыть, мне вдруг пришла в голову ужасная мысль: уложил ли я свою зубную щетку. Непонятно почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку.
Когда я путешествую, зубная щетка преследует меня, как кошмар, и превращает мою жизнь в сплошную муку. Мне снится, что я ее не уложил, и я просыпаюсь в холодном поту и начинаю ее разыскивать. А утром я укладываю ее, еще не почистив зубы, и вынужден снова распаковывать вещи, и щетка всегда оказывается на самом дне чемодана. Потом я укладываюсь снова и забываю щетку, и мне приходится в последний момент мчаться за нею наверх и везти ее на вокзал в носовом платке.
Мне, разумеется, и теперь пришлось выворотить из чемодана все вещи до последней, и, разумеется, я не нашел щетки. Я привел наши пожитки приблизительно в такое состояние, в каком они, вероятно, были до сотворения мира, когда царил первобытный хаос. Конечно, мне восемнадцать раз попадались под руку щетки Джорджа и Гарриса, но своей щетки я найти не мог. Я переложил одну за другой все вещи, поднимая их и встряхивая. Наконец я нашел мою щетку в одном из башмаков. Я уложил чемодан снова.
Когда я кончил, Джордж спросил, уложено ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, уложено мыло или нет, и, с шумом захлопнув чемодан, затянул ремни. Но оказалось, что я запаковал туда мой кисет с табаком, и мне пришлось открывать чемодан еще раз.
В десять часов пять минут вечера он был окончательно закрыт, и теперь предстояло только уложить корзинки с провизией. Гаррис сказал, что до отъезда осталось меньше полусуток и что ему с Джорджем, пожалуй, следует взять оставшуюся работу на себя. Я согласился и сел, а они принялись за дело.
Начали они весело, намереваясь, по-видимому, показать мне, как надо укладываться. Я не делал никаких замечаний, я просто ждал.
Когда Джорджа повесят, Гаррис будет самым плохим укладчиком в мире. Я смотрел на груду тарелок, чашек, кастрюль, бутылок, банок, пирогов, спиртовок, бисквитов, помидоров и пр. и предвкушал великое наслаждение.
Надежды мои оправдались. Прежде всего Гаррис с Джорджем разбили чашку. Они сделали это лишь для того, чтобы показать, на что они способны, и вызвать к себе интерес.
Затем Гаррис положил банку с клубничным вареньем на помидор и раздавил его. Помидор пришлось извлекать чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова, я только подошел ближе и, усевшись на край стола, наблюдал за ними. Я чувствовал, что это раздражает их больше, чем самые колкие слова. Они волновались, нервничали; они роняли то одно, то другое, без конца искали вещи, которые сами же перед тем ухитрялись спрятать. Они запихивали пироги на дно и клали тяжелые вещи сверху, так что пироги превращались в месиво. Все, что возможно, они посыпали солью, а что касается масла, то я никогда не видел, чтобы два человека столько возились с куском масла стоимостью в четырнадцать пенсов.
Когда Джордж отскреб масло от своей туфли, они попробовали запихнуть его в котелок. Но оно не входило, а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Наконец они выскребли его оттуда и положили на стул, а Гаррис сел на этот стул, и масло прилипло к его брюкам, и они принялись его искать по всей комнате.
– Готов присягнуть, что я положил его на этот стул, – сказал Джордж, тараща глаза на пустое сиденье.
– Я сам это видел минуту назад, – подтвердил Гаррис.
Они снова обошли всю комнату в поисках масла и, сойдясь посредине, уставились друг на друга.
– Это просто поразительно, – сказал Джордж.
– Настоящая загадка! – сказал Гаррис.
Наконец Джордж обошел вокруг Гарриса и увидел масло.
– Оно же все время было здесь! – с негодованием воскликнул Джордж.
– Где? – вскричал Гаррис, круто поворачиваясь на каблуках.
– Стой смирно! – завопил Джордж, устремляясь за Гаррисом. Они отскребли масло от брюк и уложили его в чайник.
Монморенси, разумеется, принимал во всем этом участие.
Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы – тогда он чувствует, что провел время с пользой.
Высшая цель и мечта этого пса – попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым.
Монморенси садился на разные предметы в тот самый момент, когда их нужно было укладывать, и не сомневался ни минуты, что, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им нужен его холодный, влажный нос. Он совал лапу в варенье, разбрасывал чайные ложки и делал вид, что думает, будто лимоны – это крысы. Ему удалось проникнуть в корзину и убить их целых три штуки, пока наконец Гаррис не изловчился попасть в него сковородкой. Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Такая собака не нуждается в науськивании. Ее толкает на все эти проделки врожденный инстинкт, так сказать, первородный грех.
В двенадцать пятьдесят укладка была окончена. Гаррис сел на корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если чему-нибудь было суждено разбиться, то это уже случилось, и такое соображение, по-видимому, его утешило. Он добавил, что не прочь поспать. Мы все были не прочь поспать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы втроем поднялись наверх.
Мы кинули жребий, кому где спать, и вышло, что Гаррис ляжет со мной.
– Как ты больше любишь, Джей, – внутри или с краю? – спросил он.
Я ответил, что вообще предпочитаю спать внутри постели.
Гаррис сказал, что это старо.
Джордж спросил:
– В котором часу мне вас разбудить?
– В семь, – сказал Гаррис.
– Нет, в шесть, – сказал я. Мне хотелось еще написать несколько писем. Мы с Гаррисом немного повздорили из-за этого, но в конце концов разделили спорный час пополам и сошлись на половине седьмого.
– Разбуди нас в шесть тридцать, Джордж, – сказали мы. Ответа не последовало, и, подойдя к Джорджу, мы обнаружили, что он уже некоторое время спит. Мы поставили рядом с ним ванну, чтобы он мог утром вскочить в нее прямо с постели, и тоже легли спать.