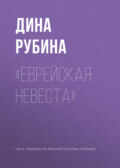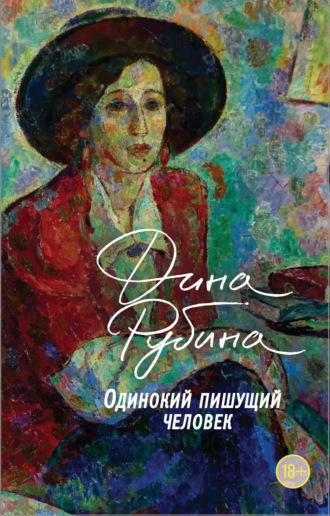
Дина Рубина
Одинокий пишущий человек
Родня писателя как литературный фактор
Так, что там у нас дальше на тему «из чего делают писателей»? Родня-роднёй-родню…
При всех странностях, скучным наше семейство никто бы не назвал. Я не говорю уже о матери с её спонтанными выплесками совершенно эстрадных штучек. Не говорю о бабке с её неисчерпаемыми «рассказами за жизнь». А мой любимый дядя Яша, мамин брат, мандолинист-гитарист, тоже где-то уже описанный! Помню саманную мазанку-хибару, которую, вернувшись с войны, он построил, вернее, слепил собственными руками. Во время одного из апрельских толчков ташкентского землетрясения одна стена хибары удачно выпала наружу. Если б она упала внутрь, я бы не писала эти строки, ибо спала в той самой комнате.
Кстати, в тот миг – я помню его ослепительно ярко и хлёстко, как удар прожектора по глазам, – вся моя коротенькая жизнь, вплетённая в жизнь города, покалеченного стихией, но погружённого в волны света, показалась мне частью бесконечного рассказа. Внутренний стон от бессилия выразить это словами слился во мне с таким же неслышным победоносным воплем: я знала, что отныне буду упорно искать слова, которые приблизятся к чувствам, настигнут их, оттиснут на бумаге…
С тех пор прошло более пятидесяти лет. Я всё так же мучительно ищу слова и всё так же первое озарение ускользает от меня, посмеиваясь и оставляя в дураках, хотя из книг, которые я написала, можно составить небольшую сельскую библиотеку.
Так вот, мой дядя Яша был сталинист, но беспартийный. Мама, как преподаватель истории, разумеется, состояла в партии, иначе тогда и быть не могло; но с молодости, напротив, была ярой антисоветчицей. Несколько раз в детстве я присутствовала при их стычках, чуть ли не драках, великолепных, зажигательных – хотя трудно в этих воплях было понять, чего не поделили брат с сестрой. Но оба вопили: «Я не хочу тебя знать до конца моей жизни!!!»
Каждый в моей родне был пронизан токами артистизма – каждый по-своему. Даже отец – при всей его мрачности. Кстати, у отца было прекрасное чувство юмора. Вообще, я никогда бы не удивилась такой фигуре: мрачный комик. Даже наоборот. Однажды приятели моей мамы, супружеская чета, отдыхали в каком-то прибалтийском ведомственном санатории и по случаю оказались там за одним столом с Аркадием Исааковичем Райкиным. Они с недоумением рассказывали, какой тот мрачный человек: «Войдёт, кивнёт, ест молча, и слова от него не дождёшься!» А я совсем не удивилась. Мне это ничуть не странно, хотя, наверное, поклонники таланта великого артиста надеялись на ежедневные послеобеденные спектакли. Окажись на их месте, я бы даже не здоровалась, чтобы глаза ему не мозолить. Человек, в котором живут десятки разных персонажей, просто не может быть другим в быту. В свободное время он должен всех их с себя стряхнуть. И молчать… молчать. Мол-чать!
Говоря об артистизме матери, я не забываю и о других персонажах моего детства, о которых – так уж сложилось – я тоже всё уже написала. Или почти всё. Бабке, которая была необычайно колоритна, посвятила целую новеллу. О дедушке Сендере (у него было двойное имя Сендер-Александр, как у какого-нибудь австрийского барона) я писала тоже, в основном упирая на трагический поздний факт его биографии: будучи шестидесятилетним стариком (в то время старели куда раньше сегодняшнего возрастного ценза), он потерял под трамваем обе ноги (мамино выражение; я всегда представляла, как дед ползает по трамвайным линиям, ищет потерянные ноги), но встал на протезы и продолжал работать. Никогда не жаловался. «Живу то, что есть», – говорил. И если учесть, что он не бумажки в жилконторе перебирал, а целый день рубил туши на Алайском базаре, можно только восхититься физической силой и мужеством этого человека. Кстати, его товарищи, мясники-узбеки, объяснялись с ним на идише: узбеки, как и все восточные люди, способны к языкам…
(Однажды я получила письмо от читательницы, которая оказалась моей землячкой. Она вспомнила свою бабушку, та всегда говорила: «На Алайском покупать у Безногого! Хороший товар и честный расчёт». Я растрогалась и даже прослезилась: будто привет от деда получила!)
Так вот, я писала о героизме деда, но до сих пор ничего не написала о его поразительной способности формулировать явления и повадки окружающего мира. Сейчас, оглядывая людей своего детства с высоты писательского опыта, я понимаю, что мой дед выражался афоризмами: чёткими, понятными ребёнку и очень образными. Я все их помню и ныне примерно так и разговариваю со своими внуками, не прилагая к этому особых усилий. В моём словесном обиходе застряло много дедовых словечек и выражений, и лишь недавно я поняла, что в каких-то поступках подсознательно следую его советам.
Он забирал меня из детского сада, торжественно выдавал карамельку – всегда одну! – велел «сосать её внимательно», и мы довольно долго шли по бульвару. Мне в голову не приходило, что деду больно и трудно идти – «Ты надышалась в компании? Теперь дыши отдельно!». Затем он поднимался со мной на четвёртый этаж – «На ребёнке надо держать глаз!», мало ли кто там стоит и подстерегает на площадке…
Но однажды мы всё-таки сели в трамвай – кажется, был гололёд и дед боялся поскользнуться, упасть: «Кто доведёт ребёнка до дому?»
Мы стояли в толкучке вагона над дюжим детиной, который продолжал сидеть, спокойно взирая на деда с его палочкой. Наконец какой-то узбекский парнишка вскочил и с извинениями («не сразу заметил, ака, простите!») усадил деда на своё место.
Мы доехали до нашей остановки, медленно спустились по ступеням трамвая: «Второй пары ног у меня в запасе нет, так что сползаем внимательно!» («внимательно» было его любимым словом), и пока шли до ворот в наш двор, кое-что с дедом обсудили – я любила с ним поболтать.
«Какой противный дядька был в трамвае, правда, деда?»
«Не, – сказал дед. – Нормальный человек. Нормальные люди любят место, насиженное собственной задницей».
«А тот парень, узбек, он добрый, деда, правда, он хороший?»
«Тоже нет, – ответил дед. – Может, хороший, может, плохой. Он ещё не насидел своего места. И потом, его правильно научили: так что он в прибыли».
«В какой прибыли, деда?» – удивилась я.
Дед немного подумал, открыл калитку во двор. Он всегда открывал передо мной все двери, калитки, ворота.
«А вот он покормил свою душу. Дал ей кусочек – сладкий, как твоя карамелька, и его душа посасывает эту карамельку, и она довольна. Потому что она её заслужила».
Каждый раз, когда мне удаётся кому-то в чём-то помочь, и вообще совершить нечто общественно дельное, я прихожу в хорошее настроение, мысленно усмехаюсь и говорю себе: «Карамелька? Соси её внимательно!»
Однажды в детстве – мне было лет девять-десять – я украла тюбик губной помады у учительницы музыки. Она это обнаружила, случился страшнейший скандал. В присланной маме записке велено было «уплатить за почти целую помаду одну шт. три руб.», которые мама немедленно и горько уплатила.
Разумеется, и об этом есть у меня рассказ: нет ничего более привлекательного для писателя, чем собственные обгаженные в детстве штанишки. Я не помню, насколько стыдно мне было – скорее, я просто отрабатывала этюд «стыдоба и покаяние», – но если даже и было, рассказ написан, и значит, стыд окупился. У писателя вообще окупается всё, всё, всё, – хотя и не сразу: несчастья, любовные неудачи, хронические болезни, тюрьмы-каторги, роды… Не окупается только собственная смерть, а жаль. Мечта любого стоящего писателя: личные впечатления о личных похоронах.
Дома, вообще-то, растерялись. Мамин богатый педагогический опыт был приложим к кому угодно, только не ко мне. Мамина подруга тётя Роза уговаривала её «не делать из чепухи трагедии» и бодро припечатала: «И Христос бы крал, кабы руки не прибили!»
А дед мой, мудрый мой дед, сказал: «Выплюнь, мамеле, эту историю и помни: чужое проглотить нельзя. А проглотишь – тебя ещё три года будет тошнить». И я сразу представила, как выблёвываю проглоченную помаду, и расхохоталась, хотя до этого рыдала безутешно.
С тех пор я никогда не зарилась на чужое – в том, что касается материальных предметов нашего мира. Всё остальное при малейшей возможности я без зазрения совести утаскиваю в свою писательскую нору. Время от времени перебираю свой гамбас, перетряхиваю, любуюсь добытым: вот эта отдельная бровь – изумительна, надо использовать! а та кургузая бабка с кошёлкой – ах! а этот матерный куплетик – чудо, чудо! Когда-нибудь всё пригодится.
И последнее…
…раз уж мы заговорили о материи, которая идёт на производство этой малосимпатичной особи – Одинокий пишущий человек.
В природе существуют плотоядные растения – они питаются живыми существами. Хищные по сути своей твари: присела бабочка на прекрасный цветок – гам-хруп-фьють! – лопасти захлопнулись, и нет мотылька. Его втянули хищными волосками в гибельное сопло, переварили, переплавили в какую-то иную субстанцию. В художественную прозу. Ибо жизнедеятельность писателя напоминает повадки именно таких вот хищников. Писатель всегда в поисках пролетающей, пробегающей мимо его воображения пищи. Лопасти его чувств готовы захлопнуться над добычей; щупальца всегда готовы втащить, втянуть, переварить… Писатель никогда не упустит своего, и даже не старается это скрыть. Мне в этом смысле особенно нравится одна реплика из «Интервью» Феллини:
«Вор с лицом вора – это же честный человек!»
«В литературе не существует добрых намерений» (Гюстав Флобер).
Да, писатели – пираньи, они выщипывают гниль в сознании общества, тем самым поневоле это общество оздоравливая. Присутствие литературы – важная часть общественного сознания. Впрочем, иногда пациент безнадёжен.
Я не знаю профессии более жестокой из всех якобы мирных занятий. Наёмный киллер убивает вас физически. Писатель может убить словом. Слова, как мельчайшие дозы мышьяка, накапливаясь, убивают. Все предуведомления автора «о случайных совпадениях» в романе гроша ломаного не стоят, это отписка, отмазка от адвокатов оскорблённых прототипов. У меня для вас плохие новости (частая фраза в американских детективах): талант витает, где хочет, и разит наповал кого ни попадя заточкой гротеска. Как говорил один из героев Агаты Кристи: «Он принадлежал искусству, а значит, был аморальным человеком».
Что волнует меня по-настоящему, так это человеческая природа – в таинственном молекулярном или клеточном смысле. Заповедные пути наших ДНК, прошивающие поколения одной семьи крепчайшей невидимой нитью. В детстве я исподволь наблюдала за мамой и бабушкой, пытаясь осознать: вон та женщина родила вот эту женщину, и обе имеют ко мне не просто близкое, а телесно-родовое отношение. Незаметно сравнивала их руки, ловко раскатывающие тесто на пирожки, с моей тощей лапой – как похожи пальцы, ногти… Меня завораживало семейное сходство!
Помню, когда моя дочь Ева ждала первого ребёнка и мы уже знали, что это будет девочка, однажды я решила её проветрить. Заодно мы заехали за моей мамой, тогда ещё бодрой и смешливой, и вместе, радостно щебеча, куда-то покатили – кажется, в какой-то парк угощаться мороженым. Я крутила руль, на заднем сиденье дочь горячо спорила со своей бабкой, моей мамой… И вдруг меня пронзила такая очевидная, но потрясающая мысль: в этой машине едут четыре поколения женщин моей семьи по прямой линии, если считать ещё не рождённую мою внучку, а мамину правнучку. И почему же её не считать? Она, вероятно, слышит весь спор, а возможно – я даже уверена! – имеет на всё своё мнение.
Я просто замерла от этой мысли, залюбовалась драгоценной цепочкой, вроде Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова… и так далее, до скончания веков.
Связь поколений – вот что завораживает меня и в жизни, и в творчестве. Это очень заметно во всех моих книгах.
С огромным любопытством наблюдаю за внучкой. Эта маленькая прохиндейка не только внешне на меня похожа. Куда интересней наблюдать за её попытками обвести взрослых вокруг пальца, сочинить несусветную чушь и ловко вывернуться из «разбора полётов».
В погожий день, гуляя со своим керн-терьером, я иногда доходила до её садика. В 12.00 всю группу выпускали погулять во двор, мы с Шерлоком приближались к забору… и малыши бросались погладить собаку сквозь прутья решётки. Это был звёздный час моей внучки: до известной степени она становилась центром внимания. Она становилась популярной и знаменитой.
В первый раз после такой приветственной возни мы с Шерлоком уже направились восвояси, и я услышала за своей спиной:
«Это твоя собака?»
«Моя!» – гордо ответствовала Шайли.
«А кто это с ней гуляет?»
«Наша домработница», – прозвучало без малейшей паузы.
Дома я в полном восторге позвонила дочери пересказать этот дивный диалог. Та рассвирепела:
«Ах, засранка! Ну, она у меня получит, пусть только домой вернётся!»
«Оставь её в покое, – сказала я. – Может, она будет писателем?»
Так о чём мы – о детстве? Бог с ним, оно давно уже прокручено в чудовищной писательской мясорубке.
Раньше мне часто снились люди моего детства, моего двора, молодые родители, бабка с дедом на протезах. Но по мере того как я их описываю, исчерпываю, додумываю и прощаюсь, они снятся всё реже. А после выхода в свет романа «На солнечной стороне улицы» и мой Ташкент перестал меня беспокоить.
Счастливая структура писательского мозга: ты выплёскиваешь на бумагу свои сны, свою память, свои страхи и прегрешения, детство и отрочество – да, в сущности, всю свою жизнь! – и дальше идёшь налегке, готовый воплотиться в чужие жизни, гулять по чужим городам и слушать чужой непонятный говор.
Глава вторая
Из дому надо выходить с запасом тепла
Но как подумаю про долгий путь оттуда…
Не надо! Нет! Уж лучше не пойдём.
Давид Самойлов
– Д.И., ваш роман «На солнечной стороне улицы» прежде всего – о сложной системе отношений, связей, вибраций окружающего мира, в котором вырастает юный человек. Внутренние судьбы ваших героев не имеют словаря. Там снимают с себя наручники, именуемые культурой, и возникает нечто новое, иной космос. Возможно, причиной тому – местность, в которой протекает действие романа? Говоря о Востоке, мы часто подразумеваем некую мудрость, с оттенком мистики, свойственную восточным людям. Вы ощущаете это качество в себе?
– При чём тут восточная мудрость? Среди восточных людей я встречала потрясающих идиотов. Если же вы имеете в виду взросление в бурной и разношёрстной толпе персонажей, среди которых проходила моя ташкентская жизнь, точнее назвать это не мудростью, а, скорее, гибкостью. Это гибкость, привычка уживаться в обществе пёстром и неоднородном по всем векторам: национальному, социальному, эмоциональному, этическому. Примите также к сведению коренную данность – ислам. Он был стреножен советской властью, одомашнен и выливался по большей части в красоту национальных обычаев, вкусную еду, гостеприимство к любому незнакомцу, кто переступает порог твоего дома; но помнил и другие времена: например, женщин в паранджах. Просто в ежедневном обиходе мы практиковали то, что ныне именуется извращённым и опустошённым словом «толерантность». Говоря проще, мы интуитивно понимали: что можно человеку сказать, а от чего лучше воздержаться.
К «восточной мудрости» это не имело отношения. Это была коммунальная мудрость ташкентского двора.
Босое постижение милосердия и добра
Главный урок детства: опыт плавания в своеобразном Ноевом ковчеге. Вокруг клубились десятки этносов со своими обычаями, привычками и наречиями. Но и мусульманские традиции в ауре города были достаточно сильны: уважение к гостю, уважение к старшему по возрасту, почтение к хлебу, невозможность выбросить даже засохший его кусок… Об этом можно говорить часами.
Дворовая жизнь ребятни в Ташкенте была – уверена! – гораздо более насыщенной и увлекательной, чем в любом городе средней полосы России: климат. Вся жизнь на виду. Да и сам человек – маленький, большой – как на ладони. Открытая, горячая загорелая кожа, задубевшие пятки отважных и неутомимых маленьких ног…
Чуть ли не девять месяцев в году мы бегали во дворе налегке, часто босиком, домой заскакивали, чтобы выбежать через пять минут с горбушкой хлеба, посыпанной солью и натёртой чесноком. Откусывать давали избранным, приближённым. Наш знойный мир был необъятен: соседние бахчи, поля с развалинами глинобитных домишек. По весне всё вокруг полыхало волнами багровых маков, а руины кишели всякой опасной живностью, вроде скорпионов, которых мы ловили в банки и заливали спиртом – это было противоядием от будущих укусов.
Печать окружения, иначе говоря, печать местности, где мы растём и взрослеем, всегда настолько выразительна и несмываема, что, например, своих ташкентцев я опознаю буквально в первые минуты знакомства. В манере говорить, в жестах, в мимике у них наличествует (за редчайшим исключением) такой важный социальный витамин – «презумпция дружелюбия»: ненавязчивая и ненатужная готовность к разговору, к улаживанию спора, к эмоциональной отдаче. Не говоря уже о немедленном, как инстинкт, позыве накормить гостя. Это в нас впиталось узбекское гостеприимство – важнейший закон жизни народа.
Я твёрдо знаю: всё или почти всё, что есть сносного в моём тяжёлом характере, – это влияние многоголосой ташкентской улицы, точнее, ташкентского двора. Тот же двор воспитал в нас осторожность, бдительность и гибкость в разных передрягах. И потому, сталкиваясь в своих многочисленных поездках с представителями самых разных эмиграций (американской, израильской, немецкой и проч.), я ещё ни разу не повстречала ташкентца, который бы не держал ударов судьбы, не выстоял и, как следствие, не преуспел.
Впрочем, об этом уже написан, экранизирован и переведён на множество языков роман «На солнечной стороне улицы». Не хочется повторяться. Расскажу только вот о чём.
В конце 1945-го мой отец, демобилизованный младший лейтенант Илья Рубин, приехал в Ташкент к своим престарелым родителям – те были эвакуированы в Среднюю Азию из Харькова в начале войны. Он вышел из поезда на незнакомый перрон, миновал вокзальную площадь и пошёл по тихой улице в поисках нужного адреса. Заблудился в переулках среди саманных домишек, растерялся… и постучал в синюю калитку в глинобитном дувале чьего-то двора – просто спросить дорогу. Вышел пожилой узбек, увидел фронтовика, предложил подождать, ушёл и… вернулся с пиалой. Сказал: «Сначала попей чаю, сынок. Потом расскажу, как идти».
«Так меня встретил Ташкент, – говорил отец. – И вот уже сорок лет я об этом помню».
Я выросла среди людей, многие из которых после войны остались в Ташкенте – хотя могли бы вернуться туда, откуда были эвакуированы. Но по разным причинам не вернулись. Не только потому, что Ташкент – «город хлебный». Не такой уж он был и хлебный в военные годы: так же, как вся страна, голодал, стоял в очередях за жидкой мучной бурдой, затирухой, получал хлеб по карточкам.
Так вот, дело не в «хлебности» Ташкента и его жителей, а в душевной приёмистости, той самой терпимости к ордам голодных и не всегда симпатичных «квартирантов», что обрушились на город.
Достаточно вспомнить легендарного кузнеца Шомахмудова, который принял в свою семью и воспитал больше десятка разноплемённых сирот. Не знаю, хотелось ли ему этого; думаю, не мог не подобрать. Для нас, выросших после войны, эта история была привычно «школьной», почти официозной, её вспоминали на День Победы – местный такой символ гордости (помню, на эту тему и фильм был снят, «Ты не сирота!» назывался, в нём играла мамина ученица Лариса Лупиан, будущая жена Михаила Боярского).
Но однажды, уже взрослой, проходя мимо памятника тому кузнецу, я вдруг подумала: как же он всех кормил, этот человек, ведь у него наверняка и своих голодных ртов было достаточно? Как смог прокормить всю эту ораву – не месяц, не два, а годы, да ещё какие годы?!
Никакая это не «толерантность», это особый вид мужества, невозможность уклониться, деяние подлинной естественной доброты. Если хотите – да, народная этика Востока.
А детский дом Антонины Ивановны Хлебушкиной? Эта женщина, которую воспитанники называли мамой, дала свою фамилию всем малолетним сиротам. Сейчас по всему миру живут в разных странах множество Хлебушкиных. С одним таким, в Израиле, я знакома. И опять же, именно сейчас, будучи немолодым человеком, я думаю: сколько добра должна была излучать эта женщина, сколько силы и душевного тепла, чтобы согревать множество осиротевших детских сердец! Да ведь это настоящая электростанция любви…
И это – Ташкент. Мне, конечно, повезло: любой писатель выжимает из собственного детства драгоценный экстракт для своих книг. Писатель рождается где угодно – в Индии, Новой Зеландии, в Британской Колумбии, на магаданской зоне, в столице империи с её культурными сокровищами, в деревне на Алтае… Писатель всегда заложник своего детства, но он и властитель своего детства, он – победивший и побеждённый гладиатор.
Мне повезло: столько ярого солнца, базарного ора, душевного тепла и синего золота небес было пролито в детстве на мою всегда растрёпанную макушку, что хватило бы и на десять романов о моём городе.
Но я написала один…