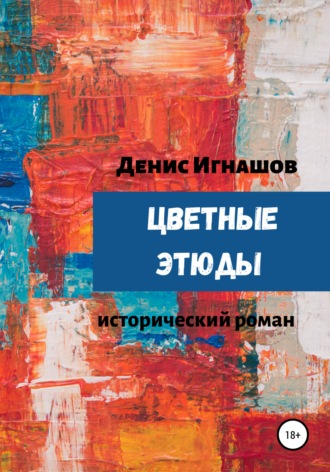
Денис Игнашов
Цветные этюды
После изгнания из рядов белого движения в памятном восемнадцатом Елагин ещё надеялся, что всё изменится, что его военный опыт и умения могут пригодиться. Но стойкое неприятие его со стороны белого руководства и вполне реальная угроза лишиться жизни заставили Елагина покинуть страну. Он выехал в Харбин, но там надолго не задержался. Получив финансовую помощь от партии эсеров, он отправился в США. Прибыв в Сан-Франциско, он пересёк всю Америку с запада на восток и несколько месяцев жил в Нью-Йорке. Но и Соединённые Штаты не стали той пристанью, где Елагин смог остановиться. В середине девятнадцатого года он был уже в Париже. В ту пору белая эмиграция была ещё малочисленна. Казалось, вот-вот и большевики будут опрокинуты, Россия избавится от невразумительного своего коммунистического правления, а там произойдёт настоящий русский выбор – новая контрреволюционная диктатура или демократическая республика. Елагин готов был делать всё, чтобы на волне разочарования шанс новой демократии не был потерян и навсегда отброшен в сторону как совершенно ненужный и непригодный инструмент русской власти. Он надеялся на мудрость народа и никак не мог поверить, что тот согнёт свою шею под новое ярмо. В двадцать первом году, когда вспыхнул Кронштадтский мятеж, Елагин бросился в Финляндию, собрал там отряд добровольцев и готов был по льду перейти на территорию России, чтобы помочь восставшим. Однако было поздно, восстание быстро подавили, и ещё одной вполне реальной опасностью для большевистской власти стало меньше.
Елагин ещё на что-то надеялся, он принимал участие в деятельности социалистической эмиграции, редактировал один небольшой журнал в Париже, пока тот благополучно не закрылся ввиду отсутствия средств. Елагин участвовал в собраниях и съездах разных эмигрантских организаций, был не раз привлечён к попыткам организовать антибольшевистские выступления, которые, впрочем, никак не доходили до логического финала. Он активно хотел изменить окружающую его действительность, но реальность шагнула далеко вперёд, и скоро все заграничные социалистические организации превратились в некое подобие мелких клубов по интересам, которые совершенно не согласовывались с ситуацией и могли лишь сторонним взглядом наблюдать за тем, что происходило там, в чужой теперь Советской России. Отторгнутый от родины, российский социализм, честно победивший в семнадцатом на выборах в Учредительное собрание, ещё недавно такой мощный и массовый, благополучно умер, оставив после себя только небольшие участки тления…
В дверь постучали. Стук торопливый, громкий, настойчивый – невозможно было не узнать призывный сигнал фрау Мюллер. Елагин открыл глаза и протёр их ладонью, разогнав остатки дрёмы; он лежал на кровати одетый и ждал этого стука вот уже полчаса… Стук повторился.
– Господин Елагин, к вам пришёл посетитель, – высоким, писклявым голосом пропела фрау Мюллер за дверью.
– Иду, – ответил он хрипло и услышал, как важно и деловито процокали удаляющиеся каблучки фрау Мюллер.
Елагин сел на кровати. Глаза упёрлись в небольшое зеркальце, стоявшее на столе: заспанное, серое, исхудавшее лицо, впалые щёки, пустые глаза и прямой нос, показавшийся вдруг необычайно длинным и острым. «Как у покойника», – вдруг промелькнула глупая, шальная мысль у Елагина. Он ей печально улыбнулся и увидел, как в зеркале у двойника зло и безразлично скривились тонкие губы, и блеснули усмешкой тёмные глаза.
Вспомнив, что его ждёт человек, Елагин быстро встал и машинально, по неистребимой военной привычке, одернул вниз пиджак, потом схватил с тумбочки одежную щётку и поспешно прошёлся по рукавам и лацканам, сбрасывая невидимую пыль и выглаживая помятости.
Около входной двери Елагина ждал молодой человек в аккуратном костюме; в руках он держал кожаную фуражку.
– Я шофёр господина Горохова. Мне поручено отвезти вас к нему, – с вежливой улыбкой, слегка склонившись вперёд, сообщил немец.
На улице Елагина ждал чёрный «мерседес», водителем которого и был вежливый немец. Не без ребяческой гордости Елагин бросил украдкой взор на окна дома – наблюдает ли за ним любопытная фрау Мюллер, – убедился, что наблюдает, и довольный, с некоторой театральной вальяжностью и напыщенностью, пусть смешной и мальчишеской, но такой приятной, погрузился на заднее сидение. Шофёр любезно закрыл за ним дверцу, и они поехали к Горохову.
Их абсолютно случайная встреча произошла вчера. В центре города на улице Елагин вдруг заметил, что за ним пристально наблюдает небольшого роста богато одетый господин. Это было тем более подозрительно, что Елагин совсем не мог припомнить этого человека, хотя всегда гордился, что память на лица у него была хорошая. Господин недолго наблюдал за Елагиным, скоро он подошёл к нему, с улыбкой схватил за руку и стал трясти.
– Не узнали? – расхохотался неизвестный. – Я Горохов. Припоминаете? Нет? Лето восемнадцатого, Хвалынская бригада…
После этих слов, позвучавших словно пароль, Елагина осенило: перед ним стоял командир отряда балаковских мужиков – Горохов! Только узнать его было совсем не просто – исчезла окладистая большая борода, лицо было чисто выбрито и потому казалось, что немецкий Горохов по прошествии одиннадцати лет был даже младше того, самарского Горохова.
Радость у обоих была искренняя. Потрясся друг друга за плечи, они условились встретиться завтра и поговорить обстоятельней. «К пяти я пришлю шофёра, – объявил Горохов и повторил, строго подняв указательный палец: – К пяти, не забудьте».
Всю дорогу Елагин вспоминал, как же зовут Горохова: «Терентий Иванович или Терентий Ильич?» – гадал он. Было ужасно неловко, но прошло столько лет… «Мерседес» мягко подкатил к ресторану. Шофёр вышел из машины, открыл дверцу, выпустил пассажира и проводил его до входа. Елагин был несколько сконфужен такой непривычной услужливостью. Внутри его встретил Горохов: низкорослый, плотный, ухоженный, в шикарном костюме – ни дать, ни взять, европейский толстосум-капиталист с достойными и ленивыми повадками. Они дружески обнялись, и Горохов махнул рукой в сторону зала.
– Пройдёмте, Емельян Фёдорович, пройдёмте к столу.
Как только вошли в зал, запрыгали, засуетились официанты, предлагая то одно, то другое. Елагин, отвыкший уже от богатых мест, смущённо кивал и всё пытался незаметно прикрыть рукавом потрёпанный свой манжет с ободранным краешком.
– А про вас так много говорили, – сказал Горохов. – Разные слухи ходили. Одни утверждали, что Дутов вас расстрелял за измену, другие – мол, красные с вами расправились. А вы, вот, назло им всем, живы и здоровы. Очень я рад!.. Ну, рассказывайте, командир, «как», «что»?
Елагин пожал плечами.
– Ничего интересного. В ноябре восемнадцатого меня уволили из армии и заставили покинуть Россию, а там всё как у многих: через Харбин, США во Францию, а года три назад переехал в Берлин.
– Всё политикой балуетесь, небось? – с хитрым прищуром поинтересовался Горохов; в его словах скользнул укор, а, может, и некое подобие сочувствия к безнадёжному и никчёмному делу.
Елагин сразу не нашёлся, что ответить. Он грустно улыбнулся и неопределённо пожал плечами, словно стесняясь своих нынешних публицистических занятий, которые явно в сравнение не идут с его боевым прошлым.
– Уже не изменить ничего, – вздохнул Горохов. – Ушла Россия, нет её… Умерла. Тосковать, печалиться по ней можно, но вернуть уж никак нельзя.
– Я не скучаю по прошлой России, – ответил Елагин. – Просто я не согласен с судьбой России нынешней и мечтаю о лучшей участи для России будущей.
– Ну-ну, – с сарказмом промолвил Горохов и протянул печально: – Мечтатели… То-то и оно, привыкли все мечтать и мечту свою былью мастерить, а выходит-то всё не так. Да и не может по-другому выйти. О себе надо думать, а не о судьбах страны… Вот я, русский мужик, о себе подумал. – Горохов обвёл рукой вокруг себя, показывая на окружающую обстановку. – Мой ресторан, – объявил он протяжно, с явной гордостью. – Но это не главное. Есть у меня ещё несколько магазинов и пара предприятий. – Про «предприятия» было сказано чуть тише и с довольной, заговорщической улыбкой. – А ведь кем был? Мужик убогий, неотёсанный, а теперь – германский коммерсант и небедный!
– По правде сказать, я тоже и удивился, и обрадовался вашему новому перерождению. Не всем нам, изгнанникам, так повезло, – с грустью заметил Елагин.
Горохов отрицательно покачал головой.
– Совсем нет, не везение это. Просто я обыкновенный русский мужик, который хочет не только выжить, но и жить. И если уж появилась новая родина, надо использовать и новые её возможности.
– Но как вы здесь, в Берлине?
– Бежал, – коротко ответил Горохов. – После того, как Хвалынскую бригаду расформировали, многие балаковцы уходить на восток вместе с белыми отказались. Мы не могли бросить семьи, хозяйства, потому и разошлись по домам. Надеялись, что красные забудут… Не забыли. Прислали какого-то комиссара с охраной, чтобы, значит, отделил зёрна от плевел. Мы ждать не стали – пристроили его в его большевистское чистилище вместе со всей охраной, а сами сбежали с Волги. Я с семьёй обустроился в Ярославле у двоюродного брата. Только и тут меня в покое не оставили. В двадцатом призвали в Красную Армию. – Горохов рассмеялся. – Да-да, представьте себе, пришлось и за красных повоевать! Хорошо хоть не пронюхали, что я был белым добровольцем, а то не говорили бы мы уже с вами… Так вот, отправили меня рядовым на польский фронт. Под Варшавой, когда красных там здорово потрепали, я сбежал. Шатался дезертиром по Польше, очень боялся попасть в плен, скрывался ото всех, бродяжничал, потом перебрался в Германию. Здесь я и нашёл свою судьбу. Помог одним людям, они устроили меня на работу. Вырос, закрепился, а теперь уважаемый бюргер… Только вот с языком вечные проблемы. – Горохов поморщился. – Никак не могу освоить на должном уровне их тявканье, приходится держать секретаршу-переводчицу.
– А как же ваша семья? Она здесь, в Германии? – спросил Елагин.
Горохов помрачнел.
– Нет, – глухо отозвался он и опустил голову. – Они остались в Ярославле: жена, сын и дочка… Все в России. – Горохов нервно барабанил пальцами по столу. – Даже ничего не знаю о них. Вот уже девять лет прошло.
– Надеюсь, вам удастся их увидеть, – сочувственно произнёс Елагин, понимая, что говорит о неоправданных, фантастических вещах.
Они помолчали. Елагин, ожидая, поглядывал на Горохова; тот как будто ушёл в себя и, отвернувшись в сторону, смотрел мимо него невидящим задумчивым взглядом. Возвращение к разговору было достаточно неожиданным для Елагина.
– А у вас есть дети? – вдруг спросил Горохов, резко повернувшись к тому.
– Я не был женат, и у меня нет детей, – признался Елагин.
– Как же вы так? – удивился Горохов.
Елагин чуть сдвинул брови и кашлянул.
– Не пришлось, – ответил он с некоторой неловкостью за своё холостое положение.
– И сколько же вам лет?
– Сорок три года.
Горохов не без укоризны покачал головой.
– Однако стоит вам подумать об этом, остепениться как-то… Возраст, всё-таки, обязывает.
Взгляд Горохова скользнул куда-то за спину Елагина, глаза бывшего командира балаковцев вмиг ожили и подобрели. Елагин обернулся: к их столику приближалась элегантная дама в сером костюме. Она подошла ближе: каре тёмных волос, открытый взгляд чёрных глаз, немного смущённая полуулыбка. Елагин поднялся из-за стола.
– Позвольте представить, – произнёс Горохов, – Серафима Васильевна Окунева, мой секретарь.
Елагин озадаченно взглянул на женщину, потом на Горохова – фамилия была знакома, но… возможны ли подобные совпадения?
– Это вдова капитана Окунева, погибшего в Вольске, – развеял все сомнения Горохов. – Вы помните капитана Окунева, командира роты самарцев?
В голове словно привидения прошлого всплывали образы лета-осени восемнадцатого: штурм Вольска, гибель самарцев, станция Кинель, несостоявшаяся встреча с вдовой, ранение…
– Да-да, конечно помню, – с волнением сказал Елагин, видя, что пауза неестественно затянулась.
Тот вечер прошёл в тёплом, дружеском общении, он был посвящён российским воспоминаниям изгнанников, но Елагин так почему-то и не решился рассказать о своей роковой поездке в Кинель, к Серафиме Окуневой. В тот день она об этом так и не узнала.
Что ни говори, а вся жизнь, словно в опровержение любых закономерностей, соткана из случайностей, которые нанизываются на нить существования и созидают саму реальность. Об этом думал Елагин на следующий день после встречи с Гороховым. Меряя шагами свою небольшую комнатёнку, он вспоминал прошедший день, который раз удивляясь встрече со своим бывшим подчинённым и женой погибшего сослуживца. Красная пуля отсрочила знакомство с Серафимой Окуневой на одиннадцать лет. Что это было? Случайность? Вероятно, да. Но именно случайности и конструируют человеческий феномен под названием судьба.
Во второй половине дня к Елагину приехал шофёр Горохова. Он привёз пухлый конверт, сказал, что хозяин просил передать некое письмо и тут же поспешно удалился, опасаясь ненужных вопросов. Внутри оказались деньги, тысяча марок, – совсем немаленькая сумма! – и никакой записки.
Высыпавшись из разорванного конверта, марки образовывали живописный веер на столе, они притягивали взгляд. Елагин сначала с тоской и смятением смотрел на деньги, потом стал совершать ритуальные кружения вокруг стола, словно стараясь побороть в себе волной накрывшее его жуткое сомнение. Эта сумма, вероятно, была не так значительна для Горохова, но Елагину она могла сильно помочь. «Взять!» – радостным чёртиком быстро постановила нужда. «Взять?» – колебалась душа. «Взять!» – настаивала нужда, приводя решительные и логичные аргументы «за». «Нельзя этого делать», – вздыхала разочарованно душа, но не могла достойно противостоять своей визави: она просто чувствовала, что могла потерять что-то ценное мгновенно и безвозвратно. Руки бережно подняли цветные купюры, перебрали их, разложили каждую отдельно, потом резко собрали и нервно спрятали в конверт. Елагин засунул конверт в карман пиджака, надел шляпу и быстро вышел на улицу. Решено: деньги следует вернуть!
Офис Горохова он нашёл без труда. Около входа с небольшой металлической вывеской «Gorohoff & Lantz» Елагин недолго постоял, проверил, на месте ли конверт, лежавший во внутреннем кармане пиджака, а потом зашёл внутрь. Швейцар встретил его неприветливо. Елагин представился и сказал, что к Горохову, тогда швейцар поднял трубку стоявшего рядом телефона и доложил кому-то о прибытии гостя. Получив разрешение впустить посетителя, он, теперь с притворным, но хорошо натренированным радушием, подробно объяснил, как найти кабинет Горохова.
Фирма бывшего командира балаковцев занимала весь первый этаж дома. Узкий и длинный коридор, зажатый с обеих сторон рядами почти одинаковых дверей, упирался в стену и поворачивал направо. Елагин дошёл до поворота и заметил ещё одну дверь с блестящей, жёлтого цвета табличкой, на которой было выгравировано «Gorohoff». Рука на какое-то мгновение застыла на ручке двери, потом нажала и толкнула её. Елагин вошёл внутрь и оказался в большой приёмной. За столом секретаря сидела Серафима Окунева.
– Добрый день, Емельян Фёдорович, – с искренней улыбкой приветствовала она его.
– Добрый день, – ответил Елагин, немного замялся. – Я, в общем-то… Терентий Иванович сможет меня принять сейчас?
– Его нет, – с сожалением сказала Серафима, – он в отъезде и будет только дня через два.
«У неё очень красивые высокие брови», – отметил про себя Елагин вдруг бросившуюся в глаза деталь и смущённо улыбнулся. Стоя около дверей, он переминался с ноги на ногу, кидал отчего-то стыдливые взгляды в сторону Серафимы и раздумывал, можно ли сказать ей о конверте с деньгами или стоит всё-таки дождаться приезда Горохова, а значит прийти сюда снова через несколько дней. Скользнув взором по светлому и широкому помещению приёмной, Елагин обратил внимание на высокую вешалку в углу комнаты, где на плечиках висел военный мундир чёрного цвета и чёрное же кепи, на котором в виде кокарды заметна была адамова голова – белый череп и скрещённые кости.
– Одна из политических партий разместила заказ на пошив форменной одежды для своей охраны. Это образец, – пояснила Серафима, перехватив любопытствующий взгляд Елагина, и добавила со значительностью в голосе: – Наша фирма занимается и шитьём костюмов.
– Судя по цвету формы и кокарде на кепи, ребята настроены весьма решительно, – сказал Елагин.
– По мне так это больше похоже на маскарад, – улыбнулась Серафима. – Впрочем, у вас, вероятно, важное дело к Терентию Ивановичу. Но, возможно, я могу чем-нибудь помочь?
– Я, видите ли, – Елагин запнулся. – Не знаю, могу ли я говорить с вами по этому вопросу… Для меня это стало сегодня полной неожиданностью…
– Вы о деньгах? – прямо спросила Серафима, показав свою полную осведомлённость. – Это я по поручению Терентия Ивановича отправила вам сегодня конверт.
У Елагина запершило в горле, он прокашлялся.
– Однако он не мог быть должен мне, – склонив голову, сказал Елагин, он боялся кого-либо обидеть и быть неправильно понятым. – А если он хотел мне чем-то помочь… В общем, я не могу взять эти деньги. – Последние слова дались с большим трудом; Елагин вынул из кармана конверт и протянул его Серафиме. Но она даже не подняла руки, чтобы принять конверт. Ответ Серафимы был быстр и краток.
– И я не могу этого сделать.
Елагин смутился ещё больше. Теперь, по его мнению, с протянутой рукой, в которой был зажат конверт, он выглядел особенно нелепо.
– Вы уж извините, Емельян Фёдорович, – смягчила свой твёрдый ответ Серафима. – Забрать эти деньги у вас сможет только Терентий Иванович.
Елагин понимающе кивнул и с неуклюжей поспешностью убрал конверт обратно во внутренний карман пиджака. Он торопился уйти, вероятно, стеснённый своим положением горделивого просителя, но уже в дверях Серафима его остановила:
– Емельян Фёдорович, постойте секундочку. – Её тёмные глаза блеснули непонятным ожиданием. – Вы не заняты сегодня вечером? – спросила она и поправила волосы, определив непослушную прядь на своё место, – У меня есть два билета в синематограф на фильм «Метрополис», – спохватилась на всякий случай: – Вы не видели эту ленту?.. Подруга, знаете ли, не сможет пойти со мной, приболела. А одной совершенно не хочется… Не составите компанию?
Елагин повертел ручкой двери, словно проверяя плавность её движения.
– А почему бы нет, – сказал он после короткого раздумья. – Я ведь абсолютно свободен сегодня.
Елагин боялся спугнуть судьбу и потому соврал, что фильм ранее не видел. А ведь он не только смотрел «Метрополис», но тот ему ещё и активно не понравился тогда полгода назад. Футуристические кинозарисовки с революционным ожиданием скорее были похожи на его прошлое, чем говорили о будущем. Странно, но в этот раз он смотрел ленту совсем другими глазами. Социальные предсказания фильма его больше не трогали, на первое место вышла сила и самоотверженность простых человеческих чувств. Вероятно, это и было то самое главное, что он благополучно пропустил полгода назад.
После синематографа они медленно шли по вечернему Берлину, дышали вечером. Елагин вдруг поймал себя на мысли, что хоть он, непривычный к близкому женскому присутствию, и робел в обществе Серафимы, ему сейчас было уютно и по-особенному спокойно. Говорить не хотелось, а хотелось так просто идти по улице и чувствовать тихое внимание другого человека. Ведь Елагин так соскучился по простому вниманию. Вся его жизнь была наполнена явной или тайной борьбой, она была чередой военных состояний и содержала в себе постоянную готовность к столкновению и смерти. И когда наполненность существования действием и риском исчезла, собственная жизнь представилась Елагину абсолютно пустой и бессмысленной. Именно в эмиграции впервые так явно и остро он прочувствовал своё одиночество и заброшенность…
– Вам не понравился фильм? – осторожно спросила Серафима, заглядывая в глаза Елагина.
– Совсем наоборот, – ответил тот и мягко улыбнулся; и сейчас он ни её, ни себя не обманывал.
Неуютная пауза могла затянуться, и потому, преодолевая робость, Елагин нескладно поинтересовался, словно палочку-выручалочку вытянув глагол из вопроса Серафимы:
– Вам нравится Берлин?
– Совсем наоборот, – ответила Серафима.
Они рассмеялись. Скованность, провоцируемая короткостью знакомства, растаяла, быстро рассыпалась как песочный замок.
– Мне больше нравится Париж, – пояснила Серафима. – Я жила там несколько лет.
– Я тоже жил в Париже, – произнёс Елагин, – и согласен, что он красивый город. Однако Париж мне показался более чужим, чем Берлин. – Елагин пожал плечами, – Вероятно, оттого… – и запнулся, не решившись продолжить; пришедшее на ум объяснение показалось ему излишне выспренним, показным, отчего-то совершенно неестественным.
– Вы хотели сказать, что Берлин ближе к России, чем Париж, – произнесла Серафима.
Точная догадка спутницы сразила Елагина. Он смешался, пряча своё волнение под оправдывающейся улыбкой.
– Я боялся этого сравнения, – сказал Елагин, его худые руки в нервной зябкости стали поглаживать друг друга. – Дело в том, что той, прошлой России, о которой можно было говорить, уже нет. И потому нельзя быть к ней ближе или дальше. Мы о той России ещё помним, но она уже умерла, как умерли когда-то Эллада, Рим, Византия. Появилось нечто иное, новое, совершенно непонятное, родилось оно в ужасных муках, в крови, и что будет с ним – не ясно. Но это другое, это не наша Россия.
Серафима решительным движением руки поправила непослушную прядь волос, выбившуюся из-под шляпки.
– Вы разочарованы поражением белого движения, но не стоит всё случившееся воспринимать как кончину России, – сказала она, наклонила голову и пристально посмотрела на Елагина, её глаза светились нежным женским сочувствием, удивительным образом вобравшим в себя категоричность, благодарность и гордость; Серафима добавила: – Я никогда не смогу согласиться с тем, что смерть моего мужа была бессмысленной. Я никогда не поверю, что Россия, ради которой он добровольцем пошёл на войну и погиб, исчезла безвозвратно… У меня есть сын. Я хочу, чтобы он верил в то, что его отец погиб не напрасно.
Елагин почувствовал себя виноватым, он не нашёлся, что ответить, и потому лишь молча склонил голову, продолжая неспешно идти вперёд. Так шли они недолго.
– Вы видели, как погиб мой муж? – прямо спросила Серафима и с надеждой вновь заглянула в глаза Елагина. – Мне рассказывали в общем-то, – с неловкостью сказала она, будто оправдывалась за свой интерес. – И Терентий Иванович… и другие люди, но… ведь вы были командиром.
– Он погиб в бою, – коротко ответил Елагин.
– Его убили красные?
– Да.
– Его расстреляли?
– Он погиб геройской смертью, – сказал Елагин. – И вы, и ваш сын можете им гордиться. Он был прекрасным человеком, честным и храбрым офицером, настоящим воином.
Ну, вот, со вздохом облегчения решил про себя Елагин, принятое на себя когда-то обязательство ныне можно считать выполненным – он рассказал о смерти своего подчинённого. Подробности гибели капитана Окунева Елагин твёрдо решил не раскрывать – не стоит женщине, тем более, матери, знать о жестоких нравах самой ужасной из войн – гражданской войны. Серафима всё поняла, она прекрасно осознавала, что её хотят оградить от напрасной теперь боли прошлого.
Они скоро дошли до высокого многоквартирного дома, в котором жила Серафима.
– Я так благодарна вам, Емельян Фёдорович, – сказала она на прощание.
– Нет, нет, – запротестовал, словно спохватившись, Елагин, – Это я вас должен поблагодарить за прекрасный вечер.
«Какие удивительно красивые брови», – снова подумал Елагин, разглядывая чуть раскрасневшееся от вечерней прогулки лицо женщины. Они постояли в молчании, и только когда Серафима уже развернулась, чтобы зайти в подъезд, он, смешно дыша носом и волнуясь, всё-таки решился.
– Позвольте, Серафима Васильевна, в качестве ответного жеста пригласить вас куда-нибудь… завтра, к примеру.
Она согласилась.
– Так завтра вечером? – с мальчишеским смущением и жаром переспросил Елагин.
Серафима снова согласно кивнула и улыбнулась мило и открыто.
Москва, сентябрь 1929 г.
Когда он очередной раз упал в обморок, его быстро привели в чувство, окатив из ведра. Вода отбросила голову назад и заставила тело, согнувшееся на боку в позе эмбриона, перевернуться на спину. Он распластался на мокром и холодном каменном полу, а перед глазами крутились, прыгали, расширяясь и сужаясь, голодные, бессонные круги.
– Пришёл в себя? – сквозь дымку слабого понимания донёсся голос откуда-то справа из угла.
– Вроде, да. Глаза открыл, – сообщила большая тёмная фигура, склонившаяся над распростёртым на полу телом. – Эй, слышишь меня? – поинтересовалась нависшая тень с ведром в руке; болезненный удар носком сапога в бок. – Вставай, сволочь! Слышишь?!..
Да, он слышал, но подняться сам был уже не в состоянии. Трудно было в этом избитом, обессиленном, но живом ещё человеческом существе узнать красного командира, бывшего начальника штаба армии, бывшего преподавателя военной академии Михаила Степановича Шмелёва. Советская власть никогда его особенно не любила, хотя он всегда честно служил ей, воевал за неё на фронтах гражданской войны, побеждал для неё и сделал очень многое для превращения Красной Армии из неорганизованной и озлобленной вооружённой толпы в дисциплинированную, эффективную боевую силу молодой республики. Его преданность и усилия были так необходимы в военное время, но, оказалось, что заслуги его мало что стоили, когда угроза уничтожения большевистской власти стала не так актуальна.
Первый раз Шмелёва арестовали в двадцатом году сразу после бездарно проигранной польской кампании. Тогда многие бывшие офицеры, служившие в Красной Армии, были наказаны за чужие ошибки и чужое поражение. В двадцатом году Шмелёва от чекистской пули спас Фрунзе. Казалось, что опасность благополучно миновала, Шмелёв получил новое высокое назначение, а с окончанием гражданской войны стал преподавателем в военной академии. Но, видно, Советская власть ничего и никого не забыла, и в конце двадцатых годов, когда повсеместно стали раскрываться «заговоры» бывших царских офицеров, вспомнили и о Шмелёве…
Его грубо подняли и посадили на табурет. Один глаз заплыл синяком, второй стеклянным, смертельно усталым взглядом упёрся в край стоявшего напротив стола следователя, губы потрескались и опухли, ими очень трудно было шевелить, выдавая бубнящую словесную кашицу. Следователь находился где-то там, в темноте угла, позади яркого, слепящего электрического шара лампы.
– Гражданин Шмелёв, будем признаваться в контрреволюционной деятельности или продолжим упорствовать? – сквозь мерное покачивание ослабевшего сознания донесся глухой голос следователя.
– Мне… мне нечего вам добавить, – почти шёпотом медленно проговорил красный военспец Шмелёв, вновь и вновь как заклинание повторяя уже сказанное ранее.
Сзади лязгнула металлическая дверь, быстро промелькнуло красноватое, в следах от оспы лицо, на мгновение попавшее в круг света, – это следователь поспешно поднялся с места, приветствуя кого-то старшего по званию. Вошедший медленно обошёл Шмелёва и остановился прямо перед ним. Низенький, темноволосый с ранней проседью на висках перед Шмелёвым стоял Яков Соломонович Фридовский.
– Ну что, молчит? – спросил Фридовский, смотря прямо на Шмелёва, но обращаясь к следователю.
– Молчит, товарищ комиссар, – с сожалением признался следователь.
Фридовский, скрипя сапогами, неспешно прошёлся по камере и прислонился к столу следователя. Начал он спокойно и даже сочувственно.
– Михаил Степанович, не понимаю, к чему такое упрямство, – с искренним недоумением произнёс Фридовский. – Ваше участие в контрреволюционном заговоре уже доказано. И в ваших же интересах разоружиться перед Советской властью. У нас есть больше десятка признательных показаний. И все, – Фридовский приблизился, взгляд его острых тёмных глазок будто иголками кольнул Шмелёва, – все арестованные нами контрреволюционеры показали о вашей активной роли в деятельности подпольного военного центра.
– Я не знаю… – Шмелёв сглотнул кровавую слюну. – Я не знаю ни о каком военном центре, – тихо пробормотал он своими опухшими губами.
– Зря вы так, Михаил Степанович, зря, – покачал головой Фридовский. – Отпираться бессмысленно. Мы раскрыли вас, вы враг… И ваше участие в подпольном военном центре ещё не самое страшное преступление перед Советской властью. Во время войны с белополяками вы вредили Красной Армии на фронте, а ещё раньше в восемнадцатом году вы в сговоре с бывшим командующим армией предателем Елагиным сдали Уфу белым.
Минуло одиннадцать лет, а всё как будто произошло в другой жизни. Пыльное, жаркое лето, бронепоезд, Уфа… Тогда судьба первый раз свела Шмелёва с Фридовским. Тот был комиссаром второй армии, а Шмелёва назначили начальником штаба. Но вместе повоевать не пришлось, командующий армией Елагин сдал город белым, а они… Он всё помнил. Шмелёв поднял голову и посмотрел с выплеснувшимся вдруг презрением на Фридовского снизу вверх.
– Я не враг, я всегда честно служил Советской власти, – сказал он еле слышно.
– Врёшь, сука! – взвизгнул Фридовский, его глаза сверкнули откровенной дикой злобой.
Шмелёв мог бы, наверное, испугаться, но у него уже не было сил: сорок восемь часов без сна, без еды, сидя на краешке табуретки, а вокруг декорации ожидаемого последнего пути: каменные стены, узкое решётчатое окно, жёлтый электрический свет настольной лампы и наглое, красное в оспинках лицо следователя. Шмелёвым овладело чугунно-отупляющее, покорное безразличие к жизни и смерти, когда сон, пусть даже и вечный, становится избавлением от полного физического истощения.
Фридовский опять прошёлся по камере, скрипя своими блестящими сапогами, потом склонился над Шмелёвым, достал из кармана своей гимнастёрки фотографию и поднёс к его лицу фотографию.
– Узнаёшь?.. Это фото твоей семьи. Вот твой старший сын Сергей, – Короткий, пухленький пальчик Фридовского ткнулся в фотографию. – Твоему старшему сейчас пятнадцать лет… А это младший твой сын Никита, ему двенадцать… А тут, в центре, – аккуратно подстриженный, ухоженный ноготок скользнул по фотографии, – это твоя жена Елена Анатольевна Шмелёва… Ты ведь любишь их?
Голова опустилась, сердце ожило, забилось быстрее, зубы ухватили воспалённую, кровавую плоть губы. «Они не посмеют», – как заклинание, как суетливый и беззвучный возглас отчаяния пронеслось в голове, но надежды не было, были лишь страх и боль. Решиться надо было сейчас, потом может быть уже поздно…





