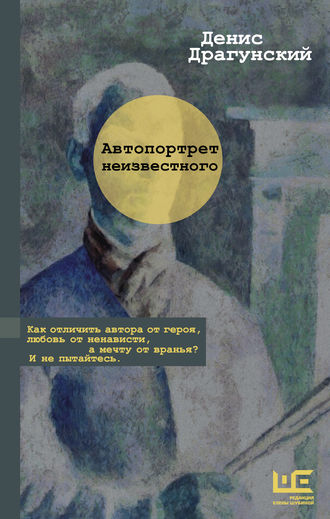
Денис Драгунский
Автопортрет неизвестного
Und dies Büchlein ist die Urne
Mit der Asche meiner Liebe.
Heine[1]
Действующие лица
Главные:
Виктор Яковлевич Риттер, старый писатель.
Игнат Щеглов, его ученик, молодой писатель.
Борис Аркадьевич Бубнов, очень богатый человек.
Юля Бубнова, его жена.
Сергей Васильевич Перегудов, министр специального приборостроения.
Римма Александровна, его жена.
Алексей Сергеевич Перегудов, их сын, начальник Лаборатории № 8.
Лиза, его жена.
Лена Сотникова, его подруга.
Генриетта Михайловна Карасевич, профессор.
Оля, ее дочь.
Петр Никитич Алабин, известный живописец.
Алексей Иванович Бычков, проходчик Метростроя, Герой труда.
Аня, жена сначала Бычкова, потом Алабина.
Вася, сын Алексея и Ани Бычковых, пасынок Алабина.
Марина Капустина, бывшая любовница Алабина.
Таня Капустина, ее падчерица.
Николай Евлампиевич Колдунов, искусствовед и критик.
В эпизодах:
Иосиф Виссарионович Сталин, председатель Совета Министров СССР.
Павел Павлович Челобанов, знаменитый художник.
Тоня, дочь Сергея Васильевича Перегудова от первого брака.
Миша Татарников, сосед и друг юности Алексея Перегудова.
Николай Петрович Хлудов, генерал КГБ.
Любовь Семеновна, подруга и компаньонка Риммы Александровны.
Наташенька, жертва обстоятельств.
Не действуют, но постоянно упоминаются:
Ярослав Диомидович Смоляк, начальник Управления специальных разработок.
Саул Маркович Гиткин, учитель рисования.
Леонид Васильевич Бажанов, авиаконструктор.
Антон Вадимович Капустин, зам. главного архитектора Москвы.
Пролог. Риттер
Юля Бубнова решила написать роман.
Но Виктор Яковлевич Риттер забыл слово «навигатор».
Это случилось на вернисаже в одной из московских не слишком знаменитых галерей. Была выставка из длинной серии КБХ, то есть «Клуб бывших художников», затея дочери адвоката Туманова, старого приятеля Риттера, вот поэтому Риттер туда и пошел, хотя на самом деле ему было не так уж интересно. Но надо поддержать хорошую девочку. Девочку сорока с лишним лет, извините. Девочку и ее папу, который над каждым дочкиным проектом держал ладони домиком. Возможно, поэтому успехи ее были столь скромны, – подумал Риттер. Но тут же прикусил свой мысленный язык и стал думать в более благожелательном направлении. О том, что вообще проект очень милый и отчасти возвышенный в смысле справедливости. Рассказать о художниках, которые когда-то были известны – хоть официально, хоть наоборот, в маленьких кружках ценителей, – но потом были забыты напрочь.
В этот раз выставляли этюды и иллюстрации громоподобного соцреалиста Петра Алабина; архитектурные наброски Антона Капустина, в 1930-е годы заместителя главного архитектора Москвы; эскизы театральных костюмов Леонтины Карасевич, в которой только и толку, что она была ассистенткой Бакста в студии Званцевой, то есть в каком-то смысле учительницей Шагала; две картинки и четыре «правки» (то есть исправленные ученические работы) художника-педагога Саула Гиткина. Особым открытием могли стать рисунки критика и искусствоведа Николая Колдунова, который, как оказалось, кроме написания гнусных погромных статей рисовал еще очаровательные натюрморты цветными карандашами. В духе позднего Митрохина, но раньше, чем это делал Митрохин, что особенно удивительно.
Но в целом – ничего выдающегося.
Риттер стоял в полутемном зале – как всегда, галерея располагалась в просторном холодном помещении с кирпичными стенами, крашенными черной масляной краской, – а картины (вернее, картинки, картиночки) были освещены узкими лампами в стальных кожухах. Риттер пришел без жены, и разговаривать было не с кем. Он поцеловал и похвалил устроительницу выставки Ирочку Туманову и, отойдя в сторону от всех групп и парочек, беседовал с Сашей Тумановым, ее папой. Так, ни о чем, о погоде и о такси (пора была уже ехать домой). Риттер говорил, что в прежние годы таксисты были знатоками города. Всех его улочек, переулков и проходных дворов. Риттер даже рассказал, что один его сосед – давно дело было, они тогда еще с родителями жили в коммуналке, – и вот соседский сын пришел из армии с водительскими правами и подался в таксисты. Так вот, рассказывал Риттер, он все Садовое пешком прошел, все развороты и перекрестки запомнил, и центр тоже, ножками, ножками, и только потом за руль сел. Туманов кивал, соглашался, что-то говорил о настоящих рабочих, слесарях шестого разряда, об официантах-стариках, которых теперь тоже не осталось, и, конечно, о старых таксистах, которые знали Москву лучше любого сыщика.
– А теперь они все ездят с этими… – Риттер запнулся. – Ну, как их… Путеуказчиками… Следопытами, что ли…
Туманов вежливо молчал. Наверное, полагал, что подсказывать бестактно, или же думал о чем-то своем.
– Ну, такая как будто живая карта, на планшете, со стрелкой, около руля прикреплена, показывает дорогу, – говорил Риттер, мучаясь от невозможности вспомнить простое, всем известное слово.
Казалось, что по всей голове бегает какой-то шарик, маленький, как маковое зернышко, но тяжелый, металлический, блестящий. Как шарик в казино? Нет, как шарик в редкостной детской игре, она была у него когда-то: размером в нынешний смартфон, но потолще. Зеленый суконный прямоугольник, накрытый сверху стеклом, и там несколько лунок с цифрами, и катается шарик, и надо, покачивая игрушку, загонять шарик в лунки. А еще там проволочные рамки, которые помогают шарику попасть в лунку с цифрой 5, но мешают попасть в лунку с цифрой 100. Риттер вспомнил, как он бесился, тряс этот микробильярд и в конце концов разбил его. Не с досады, а случайно. Уронил на пол и разбил. Быстро, чтоб мама не заметила, мокрой газетой собрал с полу осколки стекла и выбросил сломанную игрушку в мусорное ведро. А шарик закатился куда-то под шкаф.
Но вот теперь он выкатился, и носился внутри головы Риттера, и никак не мог попасть в нужную лунку. Холодный пот выступил у него на лбу, и стало тесно в груди – от страха, что наступает старческое слабоумие, вот и первый сигнал. И тут вспомнил: «Навигатор!»
– По навигатору ездят! – громко сказал он Саше Туманову, который внимательно на него смотрел. – Только по навигатору!
– Да, да. Ты вообще как себя чувствуешь?
– А что?
– Красный стал как свекла. Давление?
– Не знаю. Черт знает. Я домой пойду, пожалуй.
– А фуршет?
– Спасибо, дорогой. – Риттер покачал головой.
– Ира! – крикнул Саша Туманов дочери. – Писателя надо доставить домой!
– А фуршет? – тоже спросила подбежавшая Ирочка. – Виски у нас сегодня – класс, вы же любите виски!
– Боюсь, – сказал Риттер. – Что-то как-то я… Еще раз тебя поздравляю. Роскошный проект на самом-то деле. А кое-что продать можно. Гиткина точно можно. А Колдунова надо еще раскрутить.
– Наверное. Я вам вызову «Убер»?
– Спасибо, Ира дорогая. Возьми денег. У тебя же к карточке привязан?
– Что вы, что вы… – Она стала отпихивать пятисотрублевую бумажку.
– Тогда пойду пешком, и ты будешь виновата!
– Хорошо, хорошо.
Они с Ирочкой еще раз обнялись и поцеловались под пристальным и отчасти тревожным взглядом ее папаши. Разумеется, он тревожился не за здоровье старого приятеля. Он тревожился за дочь свою, у которой была манера заводить романы с папиными друзьями, из-за чего все время откладывалось ее замужество, семья, дети и прочие патриархальные радости, о которых так тосковали Саша Туманов и его жена Соня, Ирочкина мама. Им хотелось внуков, а Ирочке хотелось…
«Чего ты хочешь, деточка?» – спросил ее однажды Риттер. Она приехала к нему домой, привезла папину рукопись: адвокат Туманов написал документальную повесть из юридической жизни и просил друга Риттера посмотреть и дать свою честную профессиональную оценку. Жены дома не было, жена была в Германии у сына – сын Митька там сначала учился, а потом женился на немке. Ирочка вдруг распустила волосы и стала долго причесываться, глядя на свое отражение в книжном шкафу, а потом застыла и стояла так минуты полторы, а потом повернулась и туманно посмотрела на него в упор. «Чего ты хочешь, деточка?» – «Просто жить!» – громко и отчаянно засмеялась она, раскинула руки и повторила: «Жить, дядя Витя! Вы понимаете?» Риттер покивал, улыбнулся в ответ, но вот и всё.
Туманов строго глянул на руку Риттера, в ходе прощального объятия легшую на Ирочкину талию. Так строго и сурово, что Риттер почти почувствовал ожог. Как будто лазером! Он медленно поднял руку по Ирочкиной спине, до ее затылка, потрепал ее по голове и успокоительно поглядел на Сашу.
Потому что в данном случае он был совершенно чист и непорочен и недостойных помыслов в сердце своем не лелеял.
Ирочка посадила его в такси и еще раз чмокнула в щеку.
По дороге домой Риттер читал в уме стихи наизусть, вспоминал имена книжных героев, точные химические названия лекарств, телефоны друзей. Успокоился. Но вдруг забыл, как фамилия художника, которого он только что советовал раскрутить… Снова перепугался. При маразме хорошо помнят старое и тут же забывают новое. Но при каком-то другом его типе – наоборот. Черт. Колдунов фамилия этого художника.
Дома он пожаловался жене на внезапные проблемы с памятью. Она его успокоила своим спокойствием. Ха! Он прямо этими словами подумал. Вот такой стилистический огрех. Как у Льва Толстого: «Своим чутьем она чувствовала».
Но перед сном он открыл книжный шкаф и провел пальцем по стопке дареных и неиспользованных ежедневников. Нашел один небольшой, недатированный, в приятной на ощупь, как будто замшевой, желтой обложке. Хороший цвет, подходящий. Желтая книга – как желтый дом.
Сел к столу и записал на первой странице:
14 сентября 2016 года. Забыл слово «навигатор».
Юля Бубнова решила написать роман, но не просто роман – «много ума не надо, чтоб написать просто роман: зайдешь в книжный, голова кругом, одни романы кругом; и вообще – заведи себе роман и опиши его в романе!» Она любила вот так выражаться, играя словами: «не надо устраивать сцен, ты не на сцене!», «песенка этого певца уже спета», ну и в этом роде. Не просто роман – так сказала она своему мужу, – она решила написать интересный, умный, увлекательный – одним словом, во всех отношениях замечательный роман, который читатели будут рвать друг у друга из рук! Вот так! – вот так сказала она своему мужу.
– То есть ты хочешь написать бестселлер? – ответил ее муж, Борис Аркадьевич Бубнов.
– Если тебе так больше нравится.
– Мне? – он засмеялся. – Мне все равно. Твоя идея. Пиши что хочешь. Лучше, кстати, для начала напиши что-нибудь заумное. Авангард или, как это, постмодерн. Придумай что-то этакое. Как говорится, не для всех, – и он покрутил пальцами над тарелкой, изобразил в воздухе узоры; разговор шел за обедом. – Это проще.
– Ну да, – кивнула Юля. – А потом издать за свой счет?
– Ну да, – сказал Борис Аркадьевич. – В красивом переплете.
– Нет, – сказала Юля. – Не хочу проще. Заумный роман не для всех каждый дурак может. Сиди себе и заумничай. А я хочу именно что бестселлер.
– Ну и? – спросил Борис Аркадьевич.
– Это я тебя спрашиваю: ну и?
– Я тебя не понимаю. – Он слегка пожал плечами и отправил в рот половинку оладушки из протертых кабачков, предварительно макнув ее в греческий йогурт.
Хотя на самом деле он все прекрасно понял.
Понял, что у Юли какая-то новая затея, и дай бог, чтобы не слишком дорогая. Борис Аркадьевич был весьма богат (хотя далеко не олигарх и даже не полумиллиардер), но при этом не то чтобы скуповат, но скорее бережлив. Чуточку прижимист. Он верил, что так и надо себя вести богатому человеку. Борис Аркадьевич с удовольствием рассказывал анекдот про одного знаменитого советского поэта, невероятного по тогдашним меркам богача, который в ресторане за общим ужином заказал себе сто граммов водки и винегрет. Его спросили: «Почему так скромно? Ведь вы такой богатый!» – а он ответил скрипучим голосом: «Вот потому и богатый!..»
Он понял, что придется чуточку раскошелиться, и, главное, непонятно на что.
Юля поняла, что он всё понял, и замолчала.
Стало тихо. У Бориса Аркадьевича зазвенело в ушах и заломило затылок.
Юля умела молчать так, что хотелось сделать что угодно, чтобы это молчание прекратить. Заорать, разбить тарелку, вскочить из-за стола и опрокинуть стул. Или молить бога, чтоб зазвонил телефон.
Юля знала за собой это свойство. Вернее, это умение. Она научилась вот так молчать у тети Оли, а тетя Оля – у своей мамы. «Мама, – рассказывала Юле тетя Оля, – мама умела молчать так, что стены дрожали». Один раз от ее молчания старая оконная рама треснула и вылетело стекло, а на дворе зима. «В ту зиму зима была очень холодная и снежная. С ветром. Как раз метель. А стекольщика не дозовешься, не наше время, застой в разгаре, середина семидесятых. Снег налетел в окно. А виновата все равно была я, потому что мама из-за меня молчала, то есть на меня сердилась».
Так что Юля молчала, глядя в угол комнаты – обедали они не в кухне и тем более не в современной дурацкой комнате, где гостиная соединена со столовой, а столовая – с кухней, а в нормальной традиционной столовой. Теперь это называется «столовая с подачей». То есть столовая, куда прислуга или хозяйка должна носить блюда из кухни.
Столовая была большая, с двумя окнами и тремя дверями. Высокая двойная дверь с матовым рубчатым стеклом открывалась в немаленький квадратный холл, из которого вел – если выходить из столовой, то направо – коридор в просторную кухню. Точно напротив была входная дверь в квартиру. А налево из холла вела тоже двойная, но прозрачная стеклянная дверь в гостиную, которая была ненамного меньше столовой. Гостиная тоже соединялась со столовой, тоже двойной и тоже прозрачной стеклянной дверью – она была левее двери, ведущей в холл. Так что из столовой была видна гостиная, а через гостиную насквозь – парадный кабинет с дубовыми книжными полками, диваном и старым письменным столом. Еще одна дверь в столовой была напротив окон, одностворчатая и глухая, то есть без стекла, она вела в коридор, где были двери в небольшую спальню и еще одну совсем маленькую комнату, которая, очевидно, предназначалась для домработницы, но Бубновы ее использовали как гардеробную и кладовую.
То есть квартира была спланирована странно. Как нынче говорят, нефункционально. Три больших смежных комнаты и две маленьких изолированных. Кто и как тут должен был жить, где располагаться? Но знаменитый советский архитектор Гусев, построивший этот дом в тридцать втором году, мыслил как-то иначе, наверное. Ведь и еще более знаменитый архитектор Мельников сам для себя построил дом с общей спальней на всю семью – он с женой и двое детей, – но зато без платяных шкафов. То есть мыслил еще страннее. Что ж поделаешь! Каждая эпоха мыслит по-своему, и не только книгами и картинами, не только лозунгами и вождями, но и кухнями, спальнями, гостиными. В общем, эпоха мыслит квартирами.
Но Бубновы, Борис Аркадьевич и Юля, не жили в этой квартире. Жили они, разумеется, в особняке под Москвой, а эту квартиру приобрели специально для приемов гостей, для встреч и переговоров. Хотя спаленка тоже была, на всякий случай.
Юля обставила квартиру в стиле тридцатых, с небольшими вкраплениями антиквариата. Дубовая и ореховая светлая мебель, широкие кресла в почти белых холщовых чехлах («Ходоки у Ленина!» – смеялся Борис Аркадьевич, еще заставший старые советские учебники с картинками), но – столик с бронзовыми накладками в гостиной и огромный, всегда раздвинутый стол-сороконожка в столовой, покрытый тяжелой плюшевой скатертью, на которую Юля сверху набрасывала салфетки. И еще настенные часы с боем, доставшиеся от прежних хозяев: эту квартиру они купили года три назад.
Сейчас они сидели за этим грандиозным столом и обедали.
Вернее, уже не обедали. Юля молчала, а у Бориса Аркадьевича кусок в горло не шел. Он застыл с вилкой в руке.
Разжал пальцы и уронил вилку на тарелку. От тарелки отлетел маленький треугольный осколок. Борис Аркадьевич громко сказал:
– К счастью.
Хотя это была очень дорогая тарелка. Поэтому он добавил:
– Если считать счастьем попорченный сервиз.
– А? – Юля вздрогнула, словно проснувшись, и подняла брови. – А… Да, да. Ну, у нас все равно никогда не обедают двенадцать человек.
– Сколько тебе нужно денег? – спросил Борис Аркадьевич.
– Денег? – Она подняла брови еще выше. – Каких еще денег, на что?
– На роман.
– При чем тут деньги?
– Хм, – сказал Борис Аркадьевич. – Ни при чем, ты права. Пачка бумаги и новый картридж для принтера, справимся как-нибудь. Не разоримся, по миру не пойдем. Сама справишься. А? Справишься? Из своих денег?
Юля еще помолчала минуты полторы, полуотвернувшись к окну.
– Или хочешь, я тебе куплю новый «Мак»? Самый-пресамый, – ласково и жалобно сказал Борис Аркадьевич.
Юля молчала. Он следил за ее взглядом, и ему вдруг показалось, что занавеска сворачивается в трубу, как жухнущий осиновый лист или даже как прошлогодний лист, брошенный в костер, – желто-зеленый, он коричневеет, подсвечивается снизу и вот-вот вспыхнет.
– Ну? – почти крикнул Борис Аркадьевич.
– У меня и так самый-пресамый «Мак», – сказала Юля и продолжала молчать.
– Ну!!! – заорал Борис Аркадьевич.
– Мне нужен консультант, – сказала Юля. – Писатель. Хороший писатель, который к тому же опытный литературный педагог и отчасти редактор. Который мне поможет. Сможет помочь. Я примерно представляю себе, кто это может быть.
– Господи, всего-то, – выдохнул Борис Аркадьевич.
Занавеска распрямилась и приобрела прежний цвет.
– Позвони ему, пожалуйста, – сказала Юля. – И договорись. В том числе и о цене. Думаю, что это будет довольно дорого.
Борис Аркадьевич не стал напоминать, что три минуты назад на вопрос о деньгах она сказала: «Какие деньги, ты что». Но, разумеется, не стал ловить Юлю на противоречиях. Он только спросил:
– А кто это?
– Писатель Риттер. Виктор Риттер. Я же тебе говорила, много раз! Это мой любимый писатель, помнишь?
– Помню, – сказал Борис Аркадьевич с некоторым ехидством. – Читал, как же. Ну что же, у каждого писателя есть свои любители и даже фанаты. Это правильно.
– Да, – спокойно сказала Юля. – Я очень люблю писателя Риттера. Что тут такого?
– Да ничего! Все правильно. Может, ты ему сама позвонишь?
– Нет, ты, – сказала Юля. – Мой звонок он может неправильно истолковать.
– Ого! – засмеялся Борис Аркадьевич.
Юля в самом деле очень любила писателя Риттера. Борис Аркадьевич был прав: у каждого писателя – ну почти у каждого – есть свои поклонники. Не только у звезд, лауреатов, любимцев глянца и королей телевизионных шоу. Но даже у таких не особо знаменитых писателей, как Риттер, обязательно есть свой «фэндом» – верные посетители презентаций и подписчики на фейсбуке, которые на любой его пост ставят лайки и сердечки и комментируют: «Гениально!», «В точку!», «Утащу к себе!».
Юле Бубновой нравился Риттер еще и своим обликом. Даже неизвестно, что ей больше нравилось – его сочинения или его портрет, который она увидела на задней стороне обложки и сразу же купила книгу. Риттер был худой, с треугольным лицом, с крупным сухим носом и втянутыми щеками. Седые недлинные, но разметанные волосы. Похож на английского философа Джона Локка. Точнее говоря, похож на Кейсобона из английского романа «Миддлмарч», который Юля прилежно читала со словарем, сама себя обучая английскому – устаревшему, но прекрасному. А уже Кейсобон был похож на портрет Джона Локка, так казалось юной Доротее Брук. Кейсобон был ученый священник, ему было под пятьдесят, а Доротее – всего семнадцать, но она в него влюбилась, потому что он казался ей благородным и, главное, очень умным. У Доротеи и Кейсобона разница была в тридцать лет. А у нее с Риттером? Чуточку больше, но ненамного. Смешно.
– Ничего он не истолкует, – сказал Борис Аркадьевич. – Не выдумывай!
– У меня нет его телефона. Достань. И сам позвони. Так будет правильнее.
Риттер сидел за столом и писал. То есть набирал на компьютере.
«Шмель, – написал Риттер.
Шмель подлетел ближе, присел на лиловый цветок, уцепился лапками за нижний лепесток, сложил крылья и нырнул головой внутрь чашечки, и стебель цветка согнулся под его тяжестью, едва не вытряхнув шмеля, но шмель тут же заработал своими короткими прозрачными крылышками, создавая воздушную тягу, не давая цветку совсем опуститься в траву, и цветок то сгибался, то разгибался в такт работе шмелиного пропеллера, и жужжание шмеля стало отчетливо слышным, но вот шмель напился нектара и отлетел в сторону, цветок снова выпрямился, а звук шмеля потерялся среди дальнего птичьего щебета, треска кузнечиков, лопотания осиновых листьев, но через полминуты шмель прилетел снова, и снова его гудение заслонило все прочие звуки…»
– Тьфу! – закричал Риттер. – Гадость, бессмыслица, пустота!
Его жена подошла к закрытой двери со стороны коридора. Риттер услышал ее шаги.
– Это я сам с собою! – громко сказал он.
– Понятно, – сказала она и прошла мимо – то ли на кухню, то ли в спальню: у них была двухкомнатная квартира, и большая комната, где работал Риттер, называлась «кабинет-гостиная».
Риттер нажал клавишу backspace и стер весь этот дурацкий пассаж про шмеля. Дурацкий, потому что Тургенев и Бунин давно умерли, и хватит уже. Действие! Только действие! Или динамичный диалог!
Тут зазвонил телефон. Не мобильный, а городской. Риттер снял трубку. Приятный женский голос:
– Добрый день! Я могу поговорить с Виктором Яковлевичем?
– Слушаю вас. Это я.
– Вас беспокоит инвестиционная компания «Децептор». У вас есть несколько минут? С вами хочет поговорить президент господин Бубнов Борис Аркадьевич.
– Да? – удивился Риттер. – Интересно, по какому вопросу?
– По личному, по сугубо частному, – ласково сказала женщина. – Соединяю.
– Стоп! – крикнул Риттер. – Не надо!
– Простите?
– Если этот господин мне звонит по сугубо частному делу, то пусть звонит сам!
– Да, да, я сейчас вас соединю, – сказала женщина.
– Вы не поняли! Если он ко мне по личному делу, если я ему за каким-то хреном нужен, то не хвор сам пальчиками в телефон потыкать! А не через секретаршу! Всё!
Он бросил трубку. Сердце билось от злости. Встал и пошел на кухню. Стал капать себе валокордин.
– На кого ты там орал? – спросила жена. Она сидела в углу, на кухонном диванчике, и читала воспоминания Эммы Герштейн.
– Какой-то бизнес-хам.
– Не увлекайся валокордином, там барбитураты. Мозги посадишь.
– Уже посадил… Тоже мне, сокровище! Кому они нужны?
Накапал тридцать капель, развел водой, выпил. Крякнул, как от водки. Пощупал сам себе пульс. Подошел к жене. Нагнулся, взял ее руку, поцеловал. Сказал:
– Пожалей меня.
– Бе-е-е-едный! – протянула она, потрепав его по голове.
– Вишь ты, какой гордец! – сказал Борис Аркадьевич вечером, когда они с Юлей ужинали.
– А ты добейся, – сказала Юля. – Но только лаской. Мне нужно, чтоб он был добрый.
– Нет таких крепостей! – покивал Борис Аркадьевич.
Отказ Риттера ответить на звонок через секретаря насмешил его, но и раззадорил. Лаской так лаской. Назавтра он позвонил сам.
Договорились о встрече.
Риттер настоял на встрече у себя дома. Жене запретил делать уборку. Даже чуточку раскидать по шкафам, как она выражалась, тоже не велел. «Вот валяется плащ поперек подзеркальника, пусть его и валяется!» – «Но это же хозяйке упрек!» – «Нет, хозяину! – захохотал Риттер. – Что не заработал на служанку». Жена пожала плечами и спросила: «Мне прямо в домашнем халате выходить?» Риттер совсем взбеленился: «Вот, вот, вот! Мы уже полчаса готовимся к визиту!»
Повернулся, пошел в кухню, отрезал кусок хлеба, толсто намазал маслом и съел.
Ел и потихоньку успокаивался.
А чего это он, собственно говоря, забеспокоился? Какой-то недоолигарх просит о встрече. Наверное, речь пойдет о биографии этого господина. Или, еще смешнее, о его поучениях, о советах начинающим инвесторам. Финансовому гуру нужна литературная запись его прорицаний. Ну и что? Заломить цену или отказаться.
Риттер боялся унижений. Он порою видел их там, где ничего подобного не было. Ну в самом деле, чего унизительного в том, что крупный бизнесмен звонит тебе через секретаря? Или, например, в том, что на встрече писателей с читателями в городе Твери твое выступление поставили на три часа дня, а не на двенадцать, как Алексея Карманова, и не на семь, как Аглаю Панину? Но Риттер нахлебался унижений с ранней юности. Мелких, вроде бы незаметных, но противных. Вроде бы никто и никогда его публично не унижал, не срамил, не высмеивал, ни дома, ни в школе. Казалось бы, все наоборот, родители его любили, а учителя ставили в пример, но вся кожа, вся кожа души, извините за выражение, свербела и чесалась от ежедневных мелких уколов. Как после парикмахерской колют состриженные волоски в воротнике свитера и проваливаются вниз, впиваются в футболку и жалят оттуда, и хочется бросить футболку в стирку, а самому – принять душ. Стиральной машины у них не было. Витя стирал свои рубашки и футболки в тазу, ставя его на табурет, поставленный в ванну. Тер воротники щеткой. Стиральная машина появилась уже потом, когда он женился, да и то не сразу. Лет пять он еще стирал вручную – свои рубашки, детские ползунки и маечки, ну и белье жены заодно. Выстирывал желтые пятнышки на трусиках, чувствуя нежность, любовь, даже что-то вроде фетишистской страсти, но и досаду, но и привычную истому униженности.
Все началось в школе. Школа была в переулке между Шаболовкой и Ленинским проспектом, а там было три очень важных дома, где жила советская элита, в основном академическая, но и министры тоже попадались. Было много ребят оттуда. С Витей они вроде бы дружили, но только в школе. К себе не звали. Ну, может быть, раз или два он в эти непомерные квартиры заходил, взять книжку, вернуть книжку. Впрочем, он особо не напрашивался. Страна была советская, но всякий сверчок – если хотел нормально жить – разбирался, где чей шесток. Твердо знать, что есть компании, куда ты не вхож, было унизительно. Знать, что есть девочки, которые никогда не пойдут с тобой в кино или просто погулять, – унизительно вдвойне.
Унижением была бедность. У ребят из класса в кошельках – он видел не раз, например, в театральном буфете – были желтые бумажные рубли, зеленые трешки, синие пятерки, а иногда посвечивала и красненькая, а у него – мелочь в кармане, пятнашки и двугривенные. Одет он был гораздо хуже остальных. Деньги, кстати, в семье были – не такие, как у академиков, но все-таки. Папа был журналист, работал в «Социалистической индустрии», была такая странная газета. Закрылась в конце перестройки. А тогда-то – газета ЦК КПСС, не «орган», конечно, не «Правда» и не «Комсомолка», но все-таки. Хорошая зарплата и гонорары за статьи в других журналах: папа был научно-промышленный журналист, писал о внедрении новых открытий на производстве. Но денег все равно не хватало; на модные тряпки для студента – глупости какие! Тем более что надо было выплачивать за кооператив. А когда в редакции давали талоны на дефицит, то все доставалось маме.
Разумеется, Витя ничего не просил. Хотя было досадно. Досаднее же всего было то, что папа воспитывал в нем нарочитую скромность. Но скромная одежда в отсутствие фирменных джинсов и замшевой куртки – это же просто ужас, приют и оборванство, полушерстяные брючки с выбитыми коленями и пиджак с лоснящимися локтями.
Но папу тоже можно понять – тяжело ему жилось и нервно. Испуганно. За первую же серьезную статью отсидел два года. Там был странный, даже можно цинически сказать, смешной случай: папа написал о молодом перспективном ученом-военном-инженере, который возглавил большой, очень важный завод, статья называлась «Сталинский кадр», и ее напечатали аж в «Правде», в 1951 году. Папе тогда было двадцать три года, только что закончил отделение журналистики при филфаке МГУ. Он с газетой в руках прибежал делать предложение любимой девушке, она согласилась, они расписались, а через полмесяца его забрали: сталинский кадр оказался вредителем и шпионом. Дальше было еще смешнее: через четыре дня сталинского кадра выпустили и жену его шпионку выпустили, немецкую инженершу, которую тот из Германии привез после победы, но папа об этом узнал только через два года. Потому что про него забыли. Его не судили и даже толком не допрашивали, он отсидел во внутренней тюрьме МГБ до апреля пятьдесят третьего года, когда его просто выкинули из камеры. Вывели из дверей и сказали: «А ну, чеши домой!», не выдав никаких документов, но взяв подписку о неразглашении. Домой шел пешком с Лубянки на Можайку, часа три топал, стер ноги в кровь о чужие великоватые ботинки (какие выдали, такие и надел; сами понимаете, когда тебя вдруг выпускают из тюрьмы, как-то глупо говорить: «Нет, погодите, вы сначала верните мои собственные туфли»). Долго мыкался, пока его взяли на работу, но он был упорен, как горный осел, – он сам так говорил, тут была какая-то многослойная ирония, вспоминался «горный орел» из речи Сталина, – и вернулся в научно-промышленную журналистику. Девушка, кстати говоря, его дождалась, с ребенком на руках, это и была мама, а ребенок был Витя. Папа ее обожал. Каждую лишнюю копейку тратил на нее, а Вите говорил: «Что парню надо? Куртка, свитер, штаны из чертовой кожи, башмаки и беретка! И вперед, на штурм вершин мироздания!» Они с мамой так любили друг друга, что его почти не замечали. Они любили друг друга нежно и преданно, ласково и послушно друг другу, но это была любовь двух очень напуганных людей. Папина тюрьма и мамины мытарства с младенцем отпечатались в их душах на всю жизнь. Папины упрямые старания выкарабкаться, приспособиться, добиться, заявить о себе сталкивались со страхом: что вот завтра заявишь о себе, а послезавтра за тобой придут.
Наверное, размышлял уже взрослый Риттер, для папы успех намертво связался с ужасом, горем, болью, крахом всего. Напечатал статью аж в самой «Правде», все поздравляют, обнимают, руку жмут, сулят успехи – и тут же арест. Еще был случай, папа рассказал почти перед смертью: он написал в начале шестьдесят восьмого года статью об академике Сахарове. Без имени и фамилии, естественно. Так, вроде бы вообще, о гениальном инженере, который изобрел сверхоружие. Заглавие «Русский громовержец». Отнес в журнал «Знание – сила». Все были в восторге. Но буквально через месяц громовержец напечатал за границей свои диссидентские размышления. Спасибо главному редактору товарищу Филипповой, просто выкинула статью из номера, а папе при встрече поднесла кулак к носу, но и всё. А если бы на ее месте была какая-нибудь сволочь? Сообщение в органы – и конец карьере. Вот такой неразрешимый конфликт – желание успеха и страх выделиться из ряда. «Самое дорогое у человека – это жизнь, – говаривал папа. – Она дается ему один раз, и ее надо прожить так, чтобы тебя никто не заметил». Папу было жалко до ужаса. Он умер в семьдесят девятом, печально думал Виктор Яковлевич уже в двухтысячные годы, а родился в двадцать седьмом. Ужас даже не в том, что он мало прожил, всего пятьдесят два года. Ужас в том, что советская власть была для него вечной. Родился при Сталине, умер при Брежневе.







