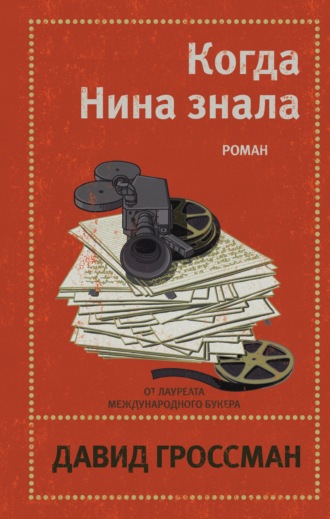
Давид Гроссман
Когда Нина знала
David Grossman
WHEN NINA KNEW (LIFE PLAYS WITH ME)
Copyright © David Grossman, 2019
This edition published by arrangement with The Deborah Harris Agency and Synopsis Literary Agency
© Сегаль Г., перевод на русский язык, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
Рафаэлю было пятнадцать, когда мать умерла, избавив его от собственных страданий. Шел дождь, поливая кибуцников[1], сгрудившихся под зонтиками на маленьком кладбище. Тувия, отец Рафаэля, убивался и плакал. Он много лет преданно ухаживал за женой и теперь стоял, потерянный и осиротевший. Рафаэль, одетый в шорты, держался особняком, глаза и голову прятал под капюшон, чтобы не заглядывали в его сухие глаза. «Теперь, когда она умерла, – думал он, – пусть видит все, что я про нее думаю».
Это случилось зимой 1962 года. Через год его отец повстречал Веру Новак, приехавшую в Израиль из Югославии, и они стали парой. Вера приехала в Израиль с единственной дочкой Ниной, семнадцатилетней девчонкой, высокой и белокурой, удлиненное лицо которой, очень бледное и красивое, было лишено всякого выражения.
Мальчишки из класса Рафаэля прозвали Нину Сфинксом; им нравилось подкрадываться к ней сзади и дразнить именно в те моменты, когда она сидела, обхватив себя руками и уставившись в одну точку. Пока однажды девочка один раз не схватила двух задир, которые ее изображали, и не расквасила им физиономии. Таких тумаков в кибуце еще не видывали. Трудно поверить, сколько силы и ярости вдруг выявилось в ее тонких руках и ногах. Поползли слухи. Говорили, что, когда ее мать сослали в ГУЛАГ, Нина еще девчушкой оказалась на улице. Произнося слова «на улице», люди сопровождали их многозначительными взглядами. Говорили, что в Белграде она связалась с бандитской шайкой, похищала детей, чтобы получать за них выкуп. Говорили… Люди охочи до разговоров. Ни рассказы про это избиение, ни другие сплетни и слухи не пробивались сквозь туман, в котором Рафаэль жил после маминой смерти. Долгие месяцы он пребывал в каком-то внутреннем забытьи. Два раза в день, утром и вечером, глотал по таблетке сильного снотворного, которое брал из маминой аптечки. И Нину, когда случайно сталкивался с ней в кибуце, даже не замечал.
Но как-то вечером, примерно через полгода после маминой смерти, он, срезая путь, шел к спортзалу через плантацию авокадо, и навстречу ему шла Нина. Шла с опущенной головой, обхватив себя руками, будто на улице сильная стужа. И Рафаэль вдруг обмер, внутри все взмыло, как струна, почему – он и сам не знал. Нина была погружена в себя, его не замечала. Он увидел ее шаг. Первое – это шаг. Легкий, сдержанный. Высокий и ясный лоб. И платье, голубое, простое и легкое, развевающееся где-то чуть выше колен.
С каким выражением на лице он это рассказывал…
Только когда она подошла совсем близко, Рафаэль увидел, что девочка плачет тихими, придушенными слезами. И тут и она его заметила и остановилась. И вся съежилась. На пару секунд их взгляды пересеклись, и можно сказать, что, увы, до дня последнего. «Небо, земля, деревья, – сказал мне Рафаэль. – Не знаю… Я почувствовал, будто вся природа вдруг изменилась».
Нина первая пришла в себя. Она сердито фыркнула и быстро удалилась. Он еще успел окинуть взглядом ее лицо, которое тут же утратило всякое выражение, и что-то в нем всколыхнулось. Рафаэль протянул руку ей вслед – ну прямо вижу его там, как он стоит, вытянув руку.
И так вот и застыл с протянутой рукой на сорок пять лет.
Но тогда, на той плантации авокадо, еще не подумав и не заколебавшись, и не запутавшись в собственных комплексах, он вскочил и кинулся вслед за ней, чтобы сказать ей, что все понял, как только ее увидел. «Все пробудилось к жизни», – сказал он мне. Я попросила объяснить. Он как-то смешался, забормотал, как все в нем угасло за годы материнской болезни и еще сильней после ее смерти. А тут все внезапно стало неотложным и судьбоносным и возникла уверенность, что и она ответит тем же.
Нина услышала, что его шаги преследуют ее, остановилась, развернулась и оглядела его медленным взглядом. «Чего надо?» – внезапно пролаяла она ему в лицо. Рафаэль отпрянул, оторопев от ее красоты и, наверно, от ее грубости – в основном, боюсь, от смеси красоты с грубостью. В нем и по сей день это есть: слабость к женщинам, у которых имеется капелька, щепотка мужицкой наглости, даже хамства, этакая перчинка. Рафаэль, Рафи…
Нина встала, уперев руки в бока, из нее «выпрыгнула» жесткая уличная девчонка, дикий зверек. Раздув ноздри, она его обнюхала, и Рафаэль увидел жилку, пульсирующую на ее шее, и вдруг ощутил боль в губах – так он мне рассказал – прямо жжение и жажду.
«Ясно, поняли, – подумала я, – ты не обязан излагать все подробности».
На щеках у Нины еще блестели слезы, но глаза холодные, почти змеиные. «Катись отсюда, козел!» – сказала она, и он потряс головой, мол, ни за что, и Нина медленно приблизила к его голове свой лоб, приблизила и отодвинула, будто в поисках верной точки, а он зажмурился, она ударила со всей дури, и Рафаэль отлетел назад и свалился в дупло дерева авокадо.
«Сорт Эттингер», – поспешил он уточнить, чтобы я, не приведи господь, не забыла, как важен каждый штрих этой сцены, ибо именно так и строятся мифы.
Ошарашенный, он влетел в дупло, потрогал вздувающуюся на лбу шишку, встал на ноги, и все вокруг закружилось. С тех пор как умерла мама, Рафаэль ни к кому не прикасался и никто не прикасался к нему, кроме тех, с кем случалось драться. Но тут было что-то другое, так он это ощущал, она пришла, чтобы наконец-то вскрыть ему мозг, вызволить его из страданий. И, ослепнув от боли, он выкрикнул ей то, что ему открылось только что, в тот миг, как ее увидел, и он сам был потрясен, когда изо рта полилась грязь, срамота. «Язык отморозков, – сказал он мне, – хочу тебя трахнуть, типа этого. Но в какие-то полсекунды я по ее лицу увидел, что, несмотря на всю эту мерзость, она меня поняла».
Может, все так и было, откуда мне знать, почему бы не подобреть к ней и не подумать, что девчушка, родившаяся в Югославии и несколько лет (как это выяснилось позже) мотавшаяся брошенным ребенком, без папы и без мамы, что эта девчушка, несмотря на подобное вступление, а может, именно из-за него, и правда на секунду прониклась состраданием к этому мальчишке из израильского кибуца, мальчишке замкнутому – таким я себе представляю его в шестнадцать лет – одинокому, с башкой, полной тайн, и фантазий и стремлений к подвигам, о которых никто на свете не знает. Мальчишке печальному и мрачному, но красивому, хоть плачь.
Рафаэль, мой отец.
Есть известный фильм, не вспомню сейчас, как он называется (не стоит тратить время на «Гугл»), в котором герой возвращается в прошлое, чтобы что-то в нем исправить или предотвратить какую-то мировую войну или что-то еще. Вот и я, все бы я отдала за возвращение в прошлое, но только для того, чтобы не дать встретиться этой парочке!
Все дни, а главным образом ночи, что последовали дальше, он будет грызть себя за то, что проморгал этот дивный миг. Он перестал глотать мамино снотворное, чтобы не затмевало яркость любви. В кибуце он искал ее повсюду и не находил. В те дни Рафаэль почти ни с кем не общался и потому не знал, что Нина ушла из квартала холостяков, в котором проживала вместе с матерью, и раздобыла себе комнатушку в старом заброшенном строении времен отцов-основателей кибуца. Строение это было чем-то вроде поезда с крошечными отсеками, и стояло оно за фруктовыми плантациями, в том месте, которое кибуцники с присущим им великодушием называли «Лепрозорием». Там жила небольшая группа мужчин и женщин, в большинстве своем волонтеры из-за границы, которые, не найдя себе применения, так здесь и застряли, и никто не знал, что с ними делать.
Тем временем страсть, родившаяся у него в тот час, когда Нина встретилась ему на плантации авокадо, ничуть не растеряла своего огня, напротив, с каждым днем она все сильнее распаляла его душу. «Если Нина согласится хоть раз со мной переспать, ее мимика точно к ней вернется», – абсолютно серьезно думал он.
Про эту свою идею он рассказал мне во время разговора, который мы засняли тысячу лет назад, когда ему было тридцать семь. Это был мой дебютный фильм, и утром, через двадцать четыре года после того, как он был заснят, мы с Рафаэлем в приступе внезапной ностальгии решили его посмотреть. В этом месте фильма мы видим, как он кашляет, чуть не задыхается, скребет свою растрепанную бороду, снимает, надевает и снова снимает кожаный ремешок часов и – что главное – не поднимает глаз на свою молодую интервьюершу, то есть на меня.
«Знаешь, а у тебя в шестнадцать лет было полно самоуверенности!» – слышу я, как говорю в картине льстивым голосом. «Это у меня-то? – удивляется Рафаэль в картине. – Самоуверенности? Да я был как листок на ветру». – «А я вот как раз считаю, – отвечает интервьюерша дико фальшивым голосом, – что это самое оригинальное признание в любви, какое я только слышала».
Когда я брала у него это интервью, мне было пятнадцать лет, и сказать по совести, я до того момента не слышала ни единого признания в любви, ни своеобразного, ни банального, из уст кого-то, кто не я-сама-перед-зеркалом в черной беретке и загадочной косынке, скрывающей мне пол-лица.
Видеокассета, маленький штатив, микрофон, прикрытый серой губкой, которая уже и заворсилась. На этой неделе, в октябре 2008 года, их нашла моя бабушка Вера в картонной коробке на своих антресолях вместе со старенькой камерой «Сони», через глазок которой я в те годы познавала мир.
Конечно, назвать эту штуку фильмом – малость преувеличение. Речь идет о нескольких эпизодах, воспоминаниях о юности моего отца, разбросанных и не до конца обработанных. Звук жуткий и изображение нечеткое и зернистое. Но в основном можно понять, что там происходит. На коробке Вера черной тушью написала: «ГИЛИ – ВСЯКОЕ/РАЗНОЕ». У меня нет слов описать, что этот фильм со мной делает, как мое сердце выпрыгивает при виде той девчушки, какой была я, девчушки, которая выглядит здесь, в фильме (не преувеличиваю), человеческим вариантом птицы додо, той, которой, как мы помним, только вымирание не дало умереть от смущения. То есть существом, которое в глубине души еще не решило, что оно такое и чем хочет стать, и перед которым все еще открыто.
Сегодня, через двадцать четыре года после того, как снята эта беседа, я сижу в кибуце возле своего отца в Верином доме, гляжу на них двоих и поражаюсь, до чего же я в этом фильме вся напоказ, даже при том, что я только интервьюерша и меня почти не замечают.
Несколько долгих минут мне никак не сосредоточиться на том, что мой отец рассказывает про себя и про Нину – как они познакомились и как он ее любил. Я сижу рядом с ним, вся сгорбившись, скукожившись от мощи внутренних переживаний, которые без всякой фильтрации как вопль рвутся наружу из той девчонки, какой я была. Вижу ужас в ее глазах, потому что все еще так неопределенно, слишком неопределенно; неопределенны даже такие вопросы, как хватит или не хватит ей жизненных сил или насколько в ней возобладает женщина, а насколько – мужчина. А ей уже пятнадцать, и она еще не знает, какое решение в подвалах эволюции будет принято по ее вопросу.
«И вот, – думаю я, – если бы сегодня я смогла на секунду, всего на секунду впорхнуть в ее мир, показать ей себя сегодняшнюю, скажем, себя на работе или себя с Меиром, даже себя ту, что сейчас, в нашей ситуации, я бы ей сказала: да ты не трусь, подруга, в конце концов с некоторым напрягом, с некоторыми компромиссами, с капелькой юмора, с определенной степенью уступок для пользы дела – со всем этим и для тебя тоже найдется место, место, которое только для тебя; и будет у тебя любовь, будет некто, кто станет искать именно такую вот крупную женщину с ароматом птицы додо».
Я хочу вернуться в начало, в инкубатор семьи. Успею, что успею, пока не взлетим на остров. Отец Рафаэля, Тувия Брук, был агрономом, который курировал все сельскохозяйственные угодья от Хайфы до Назарета, а также занимал ответственные посты в кибуце. Был он мужчиной красивым и серьезным, который много делал и мало говорил. Он любил Дуси, свою жену, и в годы ее болезни ухаживал за ней как мог. После ее смерти в кибуце с ним заговорили о Вере, Нининой маме. Тувия колебался. Мешала какая-то ее нездешность. Всегда, в любой ситуации она красила губы и напяливала сережки. Акцент ее был тяжелым, иврит странным, да и сегодня оно все то же, никто другой не говорит как она, и даже голос ее звучал для уха как-то галутно[2]. Как-то раз, когда они выходили из столовой, один старинный друг из группы югославов положил ей на плечо руку и сказал: «Она стоящая женщина, Тувия. Знай, что по ней такое прокатилось, трудно поверить, и не все еще можно рассказать».
Тувия пригласил ее к себе домой, для знакомства. Чтобы сбавить неловкость этой встречи, Вера привела с собой подругу, свою землячку из Хорватии, страстную любительницу фотографии. Обе сидели молча, скрестив ноги. В неудобных креслах, изготовленных из металлических стержней, оплетенных тонкими нейлоновыми шнурами, которые впиваются в попу.
Им потребовалась самодисциплина монахов, идущих впереди колонны, чтобы не расхохотаться, когда Тувия попытался притащить из кухни угощение, заранее приготовленное его сыновьями. Потом в течение тридцати двух хороших, даже счастливых лет совместной жизни Вере нравилось передразнивать эти его первые минуты – как он идет в кухню за миской арахисовых орешков или соленых палочек и продолжает свой рассказ про личинки червей, про моль и про огонь в кострах, и возвращается к ним с пустыми руками, и, виновато улыбаясь с красивой ямочкой на левой щеке, топает обратно в кухню и приносит оттуда баночку с полевыми цветами.
Пока отец Рафаэля совершал этот свой сложный брачный танец, Вера осматривалась вокруг, пытаясь что-то узнать про его умершую жену. На стенах не было никаких фотографий или портретов, не было ни полок с книгами, ни ковров. Абажур на торшере был в дырках от моли (были ли это мотыльки, тянущиеся к лампе, о которых он рассказывал?). Клочки пожелтевшей губки торчали из-под пенистой резиновой обивки дивана. Подруга Веры указала подбородком на сложенное инвалидное кресло и кислородную подушку, запихнутые между стеной и столом. Вера почувствовала, что болезнь, которая годами царила в этом доме, еще не до конца из него выветрилась. Что какая-то ее часть все еще здесь присутствует. Осознание того, что у нее здесь имеется соперница, толкнуло Веру выпрямиться во весь рост, приказать отцу Рафаэля наконец-то присесть и нормально с ними поговорить. Он тотчас хлопнулся на диван, выпрямился и сидел, скрестив на груди руки.
Вера улыбнулась ему из глубины своей женственности, и его позвоночник вдруг как-то оттаял. Подруга внезапно почувствовала, что она здесь лишняя, и поднялась уходить. Они с Верой быстро перекинулись парой слов на сербскохорватском. Вера пожала плечами – жест, означающий, что, мол, «меня это не волнует». Тувия был мужчиной решительным и уверенным в себе, но сейчас, когда напротив него оказалась эта маленькая женщина с зелеными глазами и острым взглядом, ему показалось, что из-под ног уходит земля. Взглядом настолько острым, что раз в несколько минут нужно отвести от нее глаза. Подруга перед тем, как уйти, попросила разрешения сфотографировать их своим «Олимпусом». Оба застеснялись, но она сказала: «Вы так здорово вместе смотритесь», – и они взглянули друг на друга и впервые увидели, что могут оказаться парой.
Ради съемки Вера поднялась со своего пыточного кресла и подсела к Тувии, на его узкий диван. На черно-белой фотографии Вера сидит откинувшись назад, опершись на руку, смотрит на него чуть отстраненно и улыбается. Ощущение, что поддразнивает его и тем наслаждается.
Это 1963 год. Начало зимы. Вере – сорок пять. На лоб ниспадает локон, губы полные, сочные. Брови тонкие, нарисованные карандашом, как у Хеди Ламарр.
Тувии – пятьдесят четыре, на нем белая рубашка с широким воротом, шерстяной свитер ручной вязки с толстыми «косичками». У него густая черная шевелюра с прямым пробором. Руки с огромными кулачищами скрещены на груди. Он смущен, и лоб блестит от волнения.
Тувия сидит нога на ногу, и только сейчас я замечаю, что под столом – два деревянных ящика, покрытых белой скатертью, и большой палец Вериной правой ноги в открытой босоножке слегка прикасается к подошве левого ботинка Тувии и будто щекочет ее снизу.
Подруга вышла. Вера с Тувией сидят одни, втиснувшись в диван. Когда он поднял руку почесать затылок, Вера заметила черные волосы, торчащие из рукава его свитера. Густые волосы виднелись и на груди и исчезали на красной полоске от бритья на его шее. Это и отталкивало, и притягивало. У ее первого возлюбленного, у ее единственного Милоша, кожа была гладкая, светлая и от загара на солнце становилась медвяной. Верино тело внезапно вспомнило, как они с Милошем, обнимаясь, лезут друг на друга, как котята. Ей нравилось зарыться в его худое, болезненное тело, впрыснуть в него тепло, силу и здоровье, которых у нее хоть отбавляй, и почувствовать, как то, что она вливает в него, и саму ее наполняет. А сейчас у нее свело живот и вытянулось лицо, и она почти уже встала, собираясь уйти. Тувия, не обративший внимания на произошедшую в ней перемену, поднялся на ноги, встал перед ней и сказал, что у него заседание в секретариате, но он считает, что вопрос решен и можно попробовать. И протянул ей руку, как строительную линейку.
Несмотря на тоску по Милошу, это его неуклюжее предложение заставило ее покатиться со смеху. Тувия стоял перед Верой сконфуженный, пытающийся сжаться, как это всегда с ним случалось. «Ну, так что скажешь, Вера?» – спросил он просящим голосом и снова присел на краешек дивана. Тувия казался абсолютно потерянным и совершенно онемевшим. Вера все еще колебалась. Он ей понравился, в нем ощущался мужчина, и он показался ей прямым и понятным («Я сразу увидела его потенциал»), а с другой стороны, она не знала о нем почти ничего.
И именно в этот момент, в самый неурочный час, что характерно для почти каждого важнейшего этапа его жизни, в комнату вошел Рафаэль, младший сын Тувии, с фингалом под глазом, разбитым лицом и запекшейся у рта кровью. Снова ввязался в драку, на сей раз в школе, с ребятами старше него. Как и в любой день и в любую погоду, на нем был все тот же капюшон, что и в день маминых похорон. Он открыл решетчатую дверь, увидел смущенного отца, сидящего возле Веры, и застыл. Вера быстро поднялась и пошла к нему, а он предупреждающе зарычал. Она не испугалась. А стояла напротив него и с любопытством его разглядывала. Рафаэль, как и его отец, смутился под ее взглядом: разумеется, он ее уже видел. Несколько раз встречал ее на дорожках кибуца и в столовой, но, как видно, она не произвела на него никакого впечатления. Маленькая женщина, решительная и быстрая, с поджатыми губами. Это примерно все, что он увидел. Ему, конечно, и в голову не пришло, что она – мать Нины, и днем и ночью бередящей его фантазии. «Ты Рафаэль», – с улыбкой сказала Вера, и прозвучало это так, будто ей известно гораздо больше этого. Не спуская с него глаз, Вера послала Тувию в ванную за синим йодом и бинтом. И потом протянула руку к покрытому кровью лицу Рафаэля и пальцами коснулась уголков его губ.
Прозвучали резкий вскрик и задушенное ругательство на сербскохорватском. Тувия бегом вернулся из ванной. Рафаэль стоял напуганный, со вкусом чужой крови на губах. Вера попыталась остановить кровь, капающую с ее пальцев на пол. Тувия, который в жизни пальцем Рафаэля не тронул, вдруг кинулся на него, но Вера, прыгнув, вытянула руки и их развела. И одновременно выкрикнула что-то предупреждающее, хриплое и горловое, почти нечеловеческое. Этот ее жест, этот ужасающий звук, который она издала, заставили Рафаэля ощутить себя где-то в глубине детенышем самки. «Самки, которая борется за свое чадо», – сказал он мне.
И в противоречие со всем, что он к ней испытал, внезапно ему дико захотелось стать щенком этой зверины.
Тувия не был человеком жестоким, и то, что у него вырвалось, его напугало. Снова и снова он смущенно бормотал: «Извини, Рафи, прошу прощения». Вера прислонилась к стене, голова слегка кружилась, не из-за крови, кровь никогда ее не пугала. Она закрыла глаза. Веки задрожали и прикрыли быстрый разговор с Милошем. Почти двенадцать лет прошло с тех пор, как он покончил с собой в подвалах для пыток в Белграде. Она сказала ему, что уходит сейчас к другому мужчине, но с ним и с их любовью она не расстанется никогда.
Она открыла глаза и посмотрела на Рафаэля. И подумала: «До чего он похож на отца, и каким потрясающим мужчиной он станет», – но она увидела и то, что сделало сиротство в таком раннем периоде его жизни. Нина, ее дочка, тоже была сиротой, да такой, что трудно представить. Но надлом, и одиночество, и заброшенность Рафаэля вдруг заставили Веру почувствовать себя матерью, чего с ней раньше не случалось. Эту фразу она повторяла мне не раз в течение многих лет и в самых разных аспектах: «Как это возможно, что я никогда раньше такого не испытывала?» Раз я прервала ее: «Но ведь у тебя уже была Нина! У тебя была дочь!» Мы тогда шли домой приятной тропинкой, что бежала по полям к кибуцу (шли под руку, она и по сей день любит так со мной прогуливаться, несмотря на разницу в росте), и она со своей жуткой прямолинейностью: «Эта беременность Ниной была у меня вроде как внематочная, а с Рафи все вдруг сложилось».
Рафаэль и Тувия почти перестали дышать под ее взглядом, и это был тот момент, когда она уже не сомневалась, что выйдет за Тувию замуж. И она бы за него вышла – так она говорила не раз, – даже если бы он был урод, и подонок, и барабанщик в борделе – ее личное выражение, одна из вещей, значение которой так до конца и не прояснилось и которым семейство Тувии с удовольствием пользовалось всю дорогу. «Потому что чего сто́ят в такой вот момент все твои красивые идеалы, – рассуждала Вера сама с собой, – чего сто́ят коммунизм и дружба народов, и сияющая красная звезда, и высокий образ Павки Корчагина из книги «Как закалялась сталь», чего сто́ят все войны во имя справедливого и прекрасного мира, в которых ты участвовала?» – «Ни хрена они не сто́ят, – ответила она себе, – если мой сегодняшний долг – этот вот мальчишка».
Минуту-другую каждый из них был погружен в себя. Мне нравится представлять их такими, как они стоят все трое с опущенными головами, будто вникая в то, как некий раствор начинает разливаться внутри них. На самом деле это тот момент, когда создалась моя семья. Это также момент, когда в конечном итоге и сама я начала проклевываться на божий свет.
Тувия Брук был моим дедом. А Вера – она моя бабушка.
Рафаэль, Рафи, Рейш – он, как известно, мой отец, а Нина…
Нина не здесь.
Ее нет, Нины.
Но это всегда было ее особенным вкладом в семью.
А что я?
Тетрадь хорошего качества, 72 листа высокопробной бумаги, не содержащей древесных волокон, и четверть страниц уже заполнены, а мы все еще не представились как положено.
Гили.
Имя, как ни погляди, проблематичное, особенно когда его произносят при команде.
Рафаэль убрался к себе в комнату, маленькую и темную, как нора. Он закрыл дверь и присел на кровать. Эта маленькая женщина его напугала. Никогда он не видел отца таким слабаком. Позади закрытой двери Вера провела Тувию к дивану и дала ему забинтовать два своих укушенных пальца. Ей нравилась белизна собственной руки, лежащей в его лапах. Между ними царило доброе молчание. Тувия закончил бинтовать и закрепил повязку английской булавкой. Он приблизил лицо к ее пальцам, откусил зубами непослушную нитку, и от этой его мужиковатости сердце ее растаяло. Он спросил, больно ли ей. Вера пробормотала: «Так мне и надо». Они тихо поговорили. Тувия сказал: «У мальчишки это с тех пор, как умерла его мать. Вообще-то с тех пор, как она заболела». Вера положила ладонь перевязанной руки ему на ладонь. «У меня есть Нина, а у тебя – Рафаэль». Этот тихий разговор их сблизил. Она сдержалась, не дала своим пальцам погладить его шевелюру.
«Ну, так что скажешь, Вера, может, мы…»
«Сойдемся. Попробуем, почему бы и нет».
Пять дней назад мы отпраздновали Верино девяностолетие (плюс два месяца. В сам день рождения у нее была пневмония, и мы решили с этим повременить). Празднование семья устроила в клубе кибуца. «Семья» – это, разумеется, родственники Тувии, к которым Вера всего лишь примкнула, но за сорок пять лет стала их душой. Всегда забавно думать, что большинство внуков и правнуков, которые лезут к ней обниматься и дерутся за ее внимание, даже не подозревают, что она им вовсе не биологическая бабушка. Каждому нашему ребенку мы устраиваем скромный обряд посвящения, на котором сюрпризом, обычно в день его десятилетия, ему открывают правду. И тогда – всегда и без исключения – он или она задает один-два вопроса, на лоб набегает морщинка, чуть прищуриваются глаза, а потом – отрицательный взмах головой и быстрое передергивание плечами, будто отбрасывающее новую досадную информацию.
Вот пожалуйста, дочка дедушки Тувии, старшая сестра моего отца, произнесла маленькую речь: «После того, что они тридцать два года прожили вместе, я совершенно искренне считаю, что Вера не только неотъемлемая и постоянная часть нашей семьи, но и что без Веры мы бы вообще не были той семьей, каковой являемся». Сказала, как всегда, скромно и просто, и Рафаэль был не единственный, кто смахнул слезу. Вера скривила рот – есть у нее такая ироническая гримаса на то, что показалось слишком приторным, – и Рафаэль, который фотографировал, как и на всех семейных торжествах, шепнул мне уголком рта: «До чего же Верина оценка или похвала всегда характерны для нее одной».
Как только началось торжество, она сообщила, что в такой день у нее у одной есть право осыпать саму себя комплиментами, а потому можно сразу приступать к застолью. Но тут уж семья встала на дыбы. Представители всех поколений и всех возрастов вставали и высказывали ей похвалы – дело необычное, потому что на самом деле Бруки не говоруны и им редко приходит в голову так вот рассказывать кому-то столь интимные вещи, да еще и прилюдно. Но вот сказать их Вере им захотелось. Почти у каждого в этой комнате был рассказ о том, как Вера ему помогла, за ним поухаживала, спасла его от чего-то плохого или от самого себя. Мой рассказ был самым сенсационным. Он касался некоего злодеяния, причиненного моей душе, когда мне было двадцать три года, удара, нанесенного мне неким человеком, да исчезнет имя его из всех моих воспоминаний. Но и мне самой, и Вере было ясно, что все, что следует рассказать, я, по обыкновению, поведаю ей наедине, как говорится, с глазу на глаз. Особенно трогательным был момент, когда Том, внук Эстер, которому было два с половиной, обкакался и, как бы демонстрируя свою независимость, ни за что не согласился на то, чтобы подгузник ему поменяла мать или бабушка Эстер, и когда та спросила, кого же он выбирает для этой цели, он радостно завопил: «Та`ту Веру!» Чем вызвал взрыв смеха.
Вера с потрясающей ловкостью спрыгнула со своего кресла, побежала, почти как девчонка, только что тело слегка скривлено в левый бок, и поменяла в сторонке Тому подгузник, и, пока это делала, подала нам знак, чтобы продолжали толкать речи и «раз уж решили, так ради бога…» А тем временем она вся была сосредоточена на улыбающемся личике Тома, и ворковала ему в пупок что-то на сербскохорватском с венгерским акцентом, и, конечно же, прислушивалась к словам, которые у нее за спиной о ней говорились. И когда, несмотря на свои девяносто лет, она помахала в воздухе переодетым Томом, который хохотал и пытался стянуть с нее очки, я вдруг почувствовала, как глубоко внутри будто кто-то меня куснул. Боль из-за того, что никогда в жизни я такой не стану и этого не сделаю, и как не хватает мне моего мужчины, Меира… И подумала, что нужно было попросить его прийти со мной, ведь знала же заранее, какой незащищенной и уязвимой буду здесь, с Ниной.
За сорок пять лет до этого, зимой 1963 года, в тот вечер, когда Вера и его отец Тувия собирались стать парой, Рафаэль пошел в спортзал кибуца. Позади этого зала распростерлось пустое песчаное поле, и в последний год, с тех пор, как умерла мама, он упражнялся там в метании ядра. Солнце село, но в небе еще разлит слабый свет, и в воздухе уже замелькали стеклышки дождя. Раз за разом, десятки раз метал Рафаэль ядра весом в три-четыре килограмма. Ярость и ненависть потрясающе улучшили его достижения. Когда он почувствовал, что замерз, и уже захотел вернуться в комнату интерната, зарыться головой в подушку и не думать про то, что отец его будет делать ночью, а то и прямо сейчас, с этой своей югославской шлюхой, перед ним возникла Вера. Она шла с коричневым чемоданом, огромным, почти с нее ростом. Поставив этот свой обшитый кожаными ремешками и металлическими гвоздиками чемодан в грязь (классная штуковина, на которую я давно положила глаз) и вытянув вперед руки, она встала перед Рафаэлем, будто отдавая ему себя на суд. Что ему оставалось делать! Не глядя на нее, он продолжил метать ядра. За те две недели, что он ее встретил и укусил, Рафаэль успел узнать, что Вера – мать той девчонки, в которую он влюблен. Этот факт был столь ужасен, что он изо всех сил старался о нем не думать, но сейчас Вера стояла перед ним как живое напоминание.
Дождь стал для нее неожиданностью. На ней был тонкий свитерок баклажанового цвета с закругленным белым воротничком с рюшками, а на ногах – белые туфли, которые уже покрылись грязью. Маленькая фиолетовая шляпка была надета набекрень – факт, разозливший Рафаэля не меньше, чем сама шляпка. Были на ней также тоненькое золотое ожерелье и жемчужные сережки – вещи, которые нацепляют на себя только горожанки.
Господи, сейчас, когда я это пишу, до меня вдруг дошло: это же был Верин свадебный наряд.
И это была ее брачная ночь.
Со своим тяжелым венгерским акцентом – дома в Хорватии они говорили в основном на венгерском – она спросила: «Рафаэль, можешь минутку со мной поговорить?», а он надвинул на глаза свой капюшон, повернулся к ней спиной и метнул в темноту еще одно ядро. Вера с минуту поколебалась, а потом шагнула вперед, подняла ядро и взвесила его в руке. Рафаэль застыл в середине броска и будто забыл, что делать дальше. Без всякой подготовки, без вращения вокруг собственной оси, Вера одним глубоким толчком швырнула железное ядро на невероятное расстояние, может, на метр дальше, чем он.


