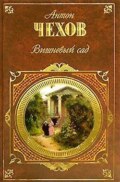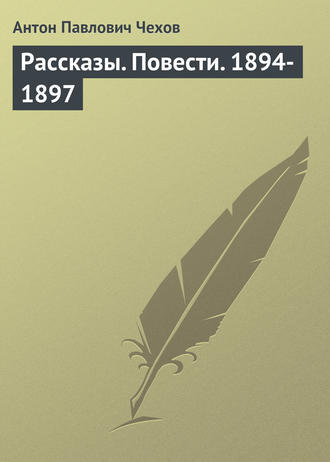
Антон Чехов
Рассказы. Повести. 1894-1897
II
Тетя Даша занималась хозяйством. Сильно затянутая, звеня браслетами на обеих руках, она ходила то в кухню, то в амбар, то на скотный, мелкими шагами, и спина у нее вздрагивала; и когда она говорила с приказчиком или с мужиками, то почему-то всякий раз надевала pince-nez. Дедушка сидел все на одном месте и раскладывал пасьянс или дремал. За обедом и за ужином он ел ужасно много; ему подавали и сегодняшнее, и вчерашнее, и холодный пирог, оставшийся с воскресенья, и людскую солонину, и он все съедал с жадностью, и от каждого обеда у Веры оставалось такое впечатление, что когда потом она видела, как гнали овец или везли с мельницы муку, то думала: «Это дедушка съест». Большею частью он молчал, погруженный в еду или пасьянс; но случалось, за обедом, при взгляде на Веру, он умилялся и говорил нежно:
– Внучка моя единственная! Верочка!
И слезы блестели у него на глазах. Или вдруг лицо у него багровело, шея надувалась, он со злобой глядел на прислугу и спрашивал, стуча палкой:
– Почему хрену не подали?
Зимою он вел совершенно неподвижную жизнь, летом же иногда ездил в поле, чтобы взглянуть на овсы и на травы, и, вернувшись, говорил, что без него везде беспорядки, и замахивался палкой.
– Не в духе твой дедушка, – шептала тетя Даша. – Ну, да теперь ничего, а прежде не дай бог: «Двадцать пять горячих! Розог!»
Тетя жаловалась, что все обленились, никто ничего не делает и что имение не приносит никакого дохода. В самом деле, никакого сельского хозяйства не было; пахали и сеяли немного, только по привычке, и, в сущности, ничего не делали, жили праздно. Между тем весь день ходили, считали, хлопотали; беготня в доме начиналась с пяти часов утра и постоянно слышалось «подай», «принеси», «сбегай», и прислуга обыкновенно к вечеру уже выбивалась из сил. У тети каждую неделю менялись кухарки и горничные; то она рассчитывала их за безнравственность, то они сами уходили, говоря, что замучились. Из своих деревенских никто не шел служить, и приходилось нанимать дальних. Из своих жила одна только девушка Алена и не уходила потому, что на ее жалованье кормилась дома вся семья – старухи и дети. Эта Алена, маленькая, бледная, глуповатая, весь день убирала комнаты, служила за столом, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она возится, стучит сапогами и только мешает в доме; из страха, как бы ее не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду, и у нее вычитали из жалованья, а потом ее мать и бабушка приходили и кланялись тете Даше в ноги.
Раз в неделю, а иногда и чаще, приезжали гости. Тетя входила к Вере и говорила:
– Ты бы посидела с гостями, а то подумают, что ты гордая.
Вера шла к гостям и играла с ними подолгу в винт или играла на рояле, а гости танцевали; тетя, веселая, тяжело дыша от танцев, подходила к ней и шептала:
– Будь поласковей с Марьей Никифоровной.
6-го декабря, в Николин день, приехало сразу много гостей, человек тридцать; играли в винт до поздней ночи, и многие остались ночевать. С утра опять засели за карты, потом обедали, и когда после обеда Вера пошла к себе в комнату, чтобы отдохнуть от разговоров и от табачного дыма, то и там были гости, и она едва не заплакала с отчаяния. И когда вечером все они стали собираться домой, то от радости, что они наконец уезжают, она сказала:
– Вы бы еще посидели!
Гости утомляли ее и стесняли; и в то же время – это бывало почти каждый день – едва начинало темнеть, как ее уже тянуло из дому, и она уезжала в гости куда-нибудь на завод или к соседям-помещикам; и там игра в карты, танцы, фанты, ужины… Молодые люди, служащие на заводах и шахтах, иногда пели малороссийские песни, и очень недурно. Становилось грустно, когда они пели. Или сходились все в одну комнату и тут в сумерках говорили о шахтах, о кладах, зарытых когда-то в степи, о Саур-Могиле… Во время разговора в позднее время, случалось, вдруг доносилось «ка-ра-у-ул!». Это пьяный шел или грабили кого-нибудь по соседству в шахтах. Или же в печах завывал ветер, хлопали ставни, потом, немного погодя, слышался тревожный звон в церкви; это начиналась метель.
На всех вечерах, пикниках и обедах неизменно самой интересной женщиной была тетя Даша и самым интересным мужчиной доктор Нещапов. На заводах и в усадьбах читали очень мало, играли только марши и польки, и молодежь всегда горячо спорила о том, чего не понимала, и это выходило грубо. Спорили горячо и громко, но, странно, нигде в другом месте Вера не встречала таких равнодушных и беззаботных людей, как здесь. Казалось, что у них нет ни родины, ни религии, ни общественных интересов. Когда говорили о литературе или решали какой-нибудь отвлеченный вопрос, то по лицу Нещапова видно было, что это его нисколько не интересует и что уже давно, очень давно он не читал ничего и читать не хочет. Он, серьезный, без выражения, точно дурно написанный портрет, постоянно в белом жилете, по-прежнему все молчал и был непонятен; но дамы и барышни находили его интересным и были в восторге от его манер и завидовали Вере, которая ему, по-видимому, очень нравилась. И Вера всякий раз уезжала из гостей с досадой и давала себе слово сидеть дома; но проходил день, наступал вечер, и она снова спешила на завод, и так почти всю зиму.
Она выписывала книги и журналы и читала у себя в комнате. И по ночам читала, лежа в постели. Когда часы в коридоре били два или три и когда уже от чтения начинали болеть виски, она садилась в постели и думала. Что делать? Куда деваться? Проклятый, назойливый вопрос, на который давно уже готово много ответов и, в сущности, нет ни одного.
О, как это, должно быть, благородно, свято, картинно – служить народу, облегчать его муки, просвещать его. Но она, Вера, не знает народа. И как подойти к нему? Он чужд ей, неинтересен; она не выносит тяжелого запаха изб, кабацкой брани, немытых детей, бабьих разговоров о болезнях. Идти по сугробам, зябнуть, потом сидеть в душной избе, учить детей, которых не любишь, – нет, лучше умереть! И учить мужицких детей в то время, как тетя Даша получает доход с трактиров и штрафует мужиков, – какая это была бы комедия! Сколько разговоров про школы, сельские библиотеки, про всеобщее обучение, но ведь если бы все эти знакомые инженеры, заводчики, дамы не лицемерили, а в самом деле верили, что просвещение нужно, то они не платили бы учителям по 15 рублей в месяц, как теперь, и не морили бы их голодом. И школы, и разговоры о невежестве – это для того только, чтобы заглушать совесть, так как стыдно иметь пять или десять тысяч десятин земли и быть равнодушным к народу. Вот про доктора Нещапова говорят дамы, что он добрый, устроил при заводе школу. Да, школу построил из старого заводского камня, рублей за восемьсот, и «многая лета» пели ему на освящении школы, а вот, небось, пая своего не отдаст, и, небось, в голову ему не приходит, что мужики такие же люди, как он, и что их тоже нужно учить в университетах, а не только в этих жалких заводских школах.
И Вера чувствует злобу на себя и на всех. Она берется опять за книгу и хочет читать, но немного погодя опять садится и думает. Сделаться врачом? Но для этого нужно держать экзамен по латинскому языку, и к тому же еще у нее непобедимое отвращение к трупам и болезням. Хорошо бы стать механиком, судьей, командиром парохода, ученым, делать бы что-нибудь такое, на что уходили бы все силы, физические и душевные, и чтобы утомляться и потом крепко спать ночью; отдать бы свою жизнь чему-нибудь такому, чтобы быть интересным человеком, нравиться интересным людям, любить, иметь свою настоящую семью… Но что делать? С чего начать?
Как-то, в одно из воскресений в Великом посту, тетя зашла к ней рано утром, чтобы взять зонтик. Вера сидела в постели, охватив голову руками, и думала.
– Ты бы, душечка, поехала в церковь, – сказала тетя, – а то подумают, что ты неверующая.
Вера ничего не ответила.
– Я вижу, ты скучаешь, бедняжечка, – сказала тетя, опускаясь на колени перед постелью; она обожала Веру. – Признайся: скучаешь?
– Очень.
– Красавица, королева моя, я твоя послушная раба, я желаю тебе только добра и счастья… Скажи, отчего ты не хочешь идти за Нещапова? Кого же тебе еще нужно, деточка? Извини, милая, перебирать так нельзя, мы не князья… Время уходит, тебе не 17 лет… И не понимаю! Он тебя любит, боготворит!
– Ах, господи, – сказала Вера с досадой, – но почем я знаю? Сам он молчит, никогда не говорит ни слова.
– Он стесняется, душечка… А вдруг ты ему откажешь!
И когда потом тетя вышла, Вера стояла среди своей комнаты, не зная, одеваться ей или опять лечь. Противная постель, глянешь в окно – там голые деревья, серый снег, противные галки, свиньи, которых съест дедушка…
«В самом деле, – подумала она, – замуж, что ли!»
III
Два дня тетя ходила с заплаканным, сильно напудренным лицом и за обедом все вздыхала и посматривала на образ. И нельзя было понять, в чем ее горе. Но вот она решилась, вошла к Вере и сказала развязно:
– Это самое, деточка, надо проценты в банк взносить, а арендатор не платит. Позволь заплатить из пятнадцати тысяч, что тебе оставил папочка.
Потом целый день тетя в саду варила вишневое варенье. Алена, с красными от жара щеками, бегала то в сад, то в дом, то на погреб. Когда тетя варила варенье, с очень серьезным лицом, точно священнодействовала, и короткие рукава позволяли видеть ее маленькие, крепкие, деспотические руки, и когда не переставая бегала прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будет есть не она, то всякий раз чувствовалось мучительство…
В саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли, но все еще в воздухе держался этот приятный, сладковатый запах. Вера сидела на скамье и смотрела, как новый работник, молодой прохожий солдат, делал, по ее приказанию, дорожки. Он резал лопатой дерн и бросал его в тачку.
– Ты где был на службе? – спросила у него Вера.
– В Бердянске.
– А куда идешь теперь? Домой?
– Никак нет, – ответил работник. – У меня нет дома.
– Но ты где родился и вырос?
– В Орловской губернии. До службы я жил у матери, в доме вотчима; мать – хозяйка, ее уважали, и я при ней кормился. А на службе получил письмо: померла мать… Идти мне теперь домой как будто уж и неохота. Не родной отец, стало быть, и дом чужой.
– А твой родной отец умер?
– Не могу знать. Я незаконнорожденный.
В это время в окне показалась тетя и сказала:
– Иль не фо па парле́ о жанс…[14] Иди, любезный, в кухню, – обратилась она к солдату. – Там расскажешь.
А потом, как вчера и всегда, ужин, чтение, бессонная ночь и бесконечные мысли все об одном. В три часа восходило солнце. Алена уже возилась в коридоре, а Вера все еще не спала и старалась читать. Послышался скрип тачки: это новый работник пришел в сад… Вера села у открытого окна с книгой, дремала и смотрела, как солдат делал для нее дорожки, и это занимало ее. Дорожки ровные, как ремень, гладкие, и весело воображать, какие они будут, когда их посыплют желтым песком.
Видно было, как в начале шестого часа из дома вышла тетя в розовом капоте, в папильотках. Она постояла на крыльце, молча, минуты три, и потом сказала солдату:
– Возьми свой паспорт, уходи с богом. Я не могу у себя в доме держать незаконнорожденных.
В груди у Веры камнем повернулось тяжелое, злое чувство. Она негодовала, ненавидела тетю; тетя надоела ей до тоски, до отвращения… Но что делать? Оборвать ее на слове? Нагрубить ей? Но какая польза? Положим, бороться с ней, устранить ее, сделать безвредной, сделать так, чтобы дедушка не замахивался палкой, но – какая польза? Это все равно, что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змею. Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности, положение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать, – все бесполезно.
Вошла Алена и, низко поклонившись Вере, начала выносить кресла, чтобы выбить из них пыль.
– Нашла время убирать, – сказала с досадой Вера. – Уйди отсюда!
Алена растерялась и от страха не могла понять, что хотят от нее, и стала быстро убирать на комоде.
– Уйди отсюда, тебе говорят! – крикнула Вера, холодея; никогда раньше она не испытывала такого тяжелого чувства. – Уйди!
Алена издала какой-то стон, словно птичий, и уронила на ковер золотые часы.
– Вон отсюда! – крикнула Вера не своим голосом, вскакивая и дрожа всем телом. – Гоните ее вон, она меня замучила! – продолжала она, быстро идя за Аленой по коридору и топоча ногами. – Вон! Розог! Бейте ее!
И потом вдруг опомнилась и опрометью, как была, непричесанная, немытая, в халате и туфлях, бросилась вон из дому. Она добежала до знакомого оврага и спряталась там в терновнике, чтобы никого не видеть и ее бы не видели. Лежа тут на траве неподвижно, она не плакала, не ужасалась, а, глядя на небо, не мигая, рассуждала холодно и ясно, что случилось то, чего нельзя забыть и простить себе в течение всей жизни.
«Нет, довольно, довольно! – думала она. – Пора прибрать себя к рукам, а то конца не будет… Довольно!»
В полдень проезжал через овраг в усадьбу доктор Нещапов. Она видела его и быстро решила, что начнет новую жизнь, заставит себя начать, и это решение успокоило ее. И провожая глазами стройную фигуру доктора, она сказала, как бы желая смягчить суровость своего решения:
«Он славный… Проживем как-нибудь».
Она вернулась домой. Когда она одевалась, в комнату вошла тетя Даша и сказала:
– Алена тебя встревожила, душечка, я услала ее домой в деревню. Мать ее избила всю и приходила сюда, плакала…
– Тетя, – быстро проговорила Вера, – я выхожу за доктора Нещапова. Только поговорите с ним сами… я не могу…
И опять ушла в поле. И идя, куда глаза глядят, она решила, что, выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга; а это постоянное недовольство и собой, и людьми, этот ряд грубых ошибок, которые горой вырастают перед тобою, едва оглянешься на свое прошлое, она будет считать своею настоящею жизнью, которая суждена ей, и не будет ждать лучшей… Ведь лучшей и не бывает! Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни… Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо…
Через месяц Вера жила уже на заводе.
Печенег
Жмухин, Иван Абрамыч, отставной казачий офицер, служивший когда-то на Кавказе, а теперь проживающий у себя на хуторе, бывший когда-то молодым, здоровым, сильным, а теперь старый, сухой и сутулый, с мохнатыми бровями и с седыми, зеленоватыми усами, – как-то в жаркий летний день возвращался из города к себе на хутор. В городе он говел и писал у нотариуса завещание (недели две назад с ним приключился легкий удар), и теперь в вагоне все время, пока он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете сует, о бренности всего земного. На станции Провалье, – а такая есть на Донецкой дороге, – в его вагон вошел белокурый господин, средних лет, пухлый, с поношенным портфелем, и сел против. Разговорились.
– Да-с, – говорил Иван Абрамыч, задумчиво глядя в окно. – Жениться никогда не поздно. Я сам женился, когда мне было сорок восемь лет, говорили – поздно, а вышло не поздно и не рано, а так, лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро прискучает всякому, да не всякий правду скажет, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрывают ее. Иной около жены – «Маня, Маня», а если бы его воля, то он бы эту Маню в мешок да в воду. С женой скука, одна глупость. Да и с детьми не лучше, смею вас уверить. У меня их двое, подлецов. Учить их тут в степи негде, отдать в Новочеркасск в ученье – денег нет, и живут они тут, как волчата. Того и гляди, зарежут кого на дороге.
Белокурый господин слушал внимательно, отвечал на вопросы негромко и кратко и, по-видимому, был тихого, скромного нрава. Он назвался частным поверенным и сказал, что едет в деревню Дюевку по делу.
– Да ведь это в девяти верстах от меня, господи ты боже мой! – сказал Жмухин таким тоном, как будто с ним спорили. – Но позвольте, на станции вы теперь не найдете лошадей. По-моему, для вас самое лучшее, знаете ли, сейчас поехать ко мне, у меня переночуете, знаете ли, а утром и поедете на моих лошадях, с богом.
Частный поверенный подумал и согласился.
Когда приехали на станцию, солнце уже стояло низко над степью. Всю дорогу от станции до хутора молчали: говорить мешала тряская езда. Тарантас прыгал, визжал и, казалось, рыдал, точно его прыжки причинили ему сильную боль, и частный поверенный, которому было очень неудобно сидеть, с тоской посматривал вперед: не видать ли хутора. Проехали верст восемь, и вдали показался невысокий дом и двор, обнесенный забором из темного плитняка; крыша на доме зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза. Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев. Назывался он у соседей-помещиков и у мужиков «Печенегов хутор». Много лег назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамычем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь мой, печенег!» Отсюда и пошло «Печенегов хутор», и это прозвище еще более укрепилось, когда дети Жмухина подросли и стали совершать набеги на соседние сады и бахчи. А самого Ивана Абрамыча звали «знаете ли», так как он говорил обыкновенно очень много и часто употреблял это «знаете ли».
Во дворе около сарая стояли сыновья Жмухина: один лет 19-ти, другой – подросток, оба босые, без шапок; и как раз в то время, когда тарантас въезжал во двор, младший высоко подбросил курицу, которая закудахтала и полетела, описывая в воздухе дугу; старший выстрелил из ружья, и курица, убитая, ударилась о землю.
– Это мои учатся стрелять влёт, – сказал Жмухин.
В сенях приехавших встретила женщина, маленькая, худенькая, с бледным лицом, еще молодая и красивая; по платью ее можно было принять за прислугу.
– А это, позвольте представить, – сказал Жмухин, – мать моих сукиных сынов. Ну, Любовь Осиповна, – обратился он к ней, – поворачивайся, мать, угощай гостя. Ужинать давай! Живо!
Дом состоял из двух половин; в одной была «зала» и рядом с ней спальня старика Жмухина – комнаты душные, с низкими потолками и со множеством мух и ос, а в другой была кухня, в которой стряпали, стирали, кормили работников; здесь же под скамьями сидели на яйцах гусыни и индейки, и здесь же находились постели Любови Осиповны и ее обоих сыновей. Мебель в зале была некрашеная, срубленная, очевидно, плотником; на стенах висели ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины, в углу темная доска, которая когда-то была иконой.
Молодая баба, хохлушка, накрыла на стол и подала ветчину, потом борщ. Гость отказался от водки и стал есть только хлеб и огурцы.
– А ветчинки что ж? – спросил Жмухин.
– Благодарю, не ем, – ответил гость. – Я вообще не ем мяса.
– Почему так?
– Я вегетарианец. Убивать животных – это противно моим убеждениям.
Жмухин подумал минуту и потом сказал медленно, со вздохом:
– Да… Так… В городе я тоже видел одного, который не ест мяса. Это теперь такая вера пошла. Что ж? Это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварям. Грех убивать, грех, – что и говорить. Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребенок. Значит, больно!
– Конечно, больно. Животные так же страдают, как и люди.
– Это верно, – согласился Жмухин. – Я все это понимаю очень хорошо, – продолжал он, думая, – только вот, признаться, одного не могу понять: если, положим, знаете ли, все люди перестанут есть мясо, то куда денутся тогда домашние животные, например, куры и гуси?
– Куры и гуси будут жить на воле, как дикие.
– Теперь понимаю. В самом деле, живут вороны и галки и обходятся же без нас. Да… И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина. Только вот, знаете ли, одного не могу понять, – продолжал Жмухин, взглянув на ветчину. – Со свиньями как быть? Куда их?
– И они так же, как все, то есть и они на воле.
– Так. Да. Но позвольте, ведь если их не резать, то они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья, и недаром ее свиньей прозвали…
Поужинали. Жмухин встал из-за стола и долго ходил по комнате и все говорил, говорил… Он любил поговорить о чем-нибудь важном и серьезном и любил подумать; да и хотелось на старости лет остановиться на чем-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать. Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба и думает, что от этого стал совершеннее; сидит он на сундуке, здоровый, пухлый, молчит и терпеливо скучает, и в сумерках, когда взглянешь на него из сеней, похож на большой булыжник, который не сдвинешь с места. Имеет человек в жизни зацепку – и хорошо ему.
Жмухин через сени вышел на крыльцо, и потом слышно было, как он вздыхал и в раздумье говорил самому себе: «Да… так». Уже темнело, и на небе показывались там и сям звезды. В комнатах еще не зажигали огня. Кто-то бесшумно, как тень, вошел в залу и остановился около двери. Это была Любовь Осиповна, жена Жмухина.
– Вы из города? – спросила она робко, не глядя на гостя.
– Да, я живу в городе.
– Может, вы по ученой части, господин, поучите нас, будьте такие добрые. Нам надо бы прошение подать.
– Куда? – спросил гость.
– У нас два сына, господин хороший, и давно пора отдавать их в ученье, а у нас никто не бывает и не с кем посоветоваться. А сама я ничего не знаю. Потому, если не учить, то их возьмут на службу простыми казаками.
Не хорошо, господин! Неграмотные, хуже мужиков, и сами же Иван Абрамыч брезгают, не пускают их в комнаты. А разве они виноваты? Хоть бы младшенького отдать в ученье, право, а то так жалко! – сказала она протяжно, и голос у нее дрогнул; и казалось невероятным, что у такой маленькой и молодой женщины есть уже взрослые дети. – Ах, так жалко!
– Ничего ты, мать, не понимаешь, и не твое это дело, – сказал Жмухин, показываясь в дверях. – Не приставай к гостю со своими разговорами дикими. Уходи, мать!
Любовь Осиповна вышла и в сенях повторила еще раз тонким голоском:
– Ах, так жалко!
Гостю постлали в зале на диване и, чтобы ему не было темно, зажгли лампадку. Жмухин лег у себя в спальне. И, лежа, он думал о своей душе, о старости, о недавнем ударе, который так напугал и живо напомнил о смерти. Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой, в тишине, и тогда ему казалось, что он очень серьезный, глубокий человек и что на этом свете его занимают одни только важные вопросы. И теперь он все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьезной и глубокой, как он сам. Вот хорошо бы и ему, старику, совсем отказаться от мяса, от разных излишеств. Время, когда люди не будут убивать друг друга и животных, рано или поздно настанет, иначе и быть не может, и он воображал себе это время и ясно представлял самого себя, живущего в мире со всеми животными, и вдруг опять вспомнил про свиней, и у него в голове все перепуталось.
– История, господи помилуй, – пробормотал он, тяжело вздыхая. – Вы спите? – спросил он.
– Нет.
Жмухин встал с постели и остановился в дверях на пороге, в одной сорочке, показывая гостю свои ноги, жилистые и сухие, как палки.
– Вот теперь, знаете ли, – начал он, – пошли разные телеграфы, телефоны и разные там чудеса, одним словом, но люди не стали лучше. Говорят, что в наше время, лет 30–40 назад, люди были грубые, жестокие; но теперь разве не то же самое? Действительно, в мое время жили без церемоний. Помню, на Кавказе, когда мы целых четыре месяца стояли на одной речке без всякого дела, – я тогда еще урядником был, – произошла история, вроде как бы роман. Как раз на берегу той речки, знаете ли, где стояла наша сотня, был похоронен один князек, которого мы же убили незадолго. И по ночам, знаете ли, ходила вдова-княгиня на могилку и плакала. Уж она голосит-голосит, уж она стонет-стонет, и такую на нас тоску нагоняла, что не спим да и все. Одну ночь не спим, другую не спим; ну, надоело. И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать черт знает из-за чего, извините за выражение. Взяли мы эту княгиню, высекли ее – и перестала ходить. Вот вам. Теперь, конечно, уж не та категория людей, и не секут, и живут чище, и наук стало больше, но, знаете ли, душа все та же, никакой перемены. Вот, изволите ли видеть, живет здесь у нас помещик один. У него шахты, знаете ли. Работают у него беспаспортные, разные бродяги, которым деваться некуда. По субботам надо расчет давать рабочим, а платить-то не хочется, знаете ли, денег жалко. Вот он и нашел себе такого приказчика, тоже из бродяг, хотя и в шляпе ходит. «Ты, говорит, им ничего не плати, ни копейки; они тебя будут бить и пускай, говорит, бьют, а ты терпи, я за это каждую субботу буду тебе по десяти рублей платить». Вот вечером в субботу, порядком, как водится, рабочие приходят за расчетом; приказчик им: «Нету!» Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка… Бьют, бьют его, и руками и ногами, – знаете ли, народ озверелый с голоду-то, – бьют до бесчувствия, а потом и уходят кто куда. Хозяин велит отливать приказчика водой, потом ему десять рублей в зубы, а тот и берет, да еще рад, потому, в сущности, не то, что за десять, он и за трешницу согласится хоть в петлю. Да… А в понедельник приходит новая партия рабочих; приходит, деваться некуда… В субботу опять та же история…
Гость повернулся на другой бок, лицом к спинке дивана, и пробормотал что-то.
– А вот другой пример, – продолжал Жмухин. – Как-то была тут сибирская язва, знаете ли; скотина дохла, я вам скажу, как мухи, и ветеринары тут ездили, и строго было приказано, чтобы палый скот зарывать подальше, глубоко в землю, заливать известкой и прочее, знаете ли, на основании науки. Издохла и у меня лошадь. Я со всякими предосторожностями зарыл ее и одной известки вылил на нее пудов десять. И что ж вы думаете? Мои молодцы, знаете ли, сыночки мои милые, ночью вырыли лошадь, содрали с нее шкуру и продали за три рубля. Вот вам. Значит, люди не стали лучше, и, значит, как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Вот вам. Подумать-то есть о чем! А? Как вы полагаете?
На одной стороне в окнах, в щелях ставен, вспыхивала молния. Было душно перед грозой, кусались комары, и Жмухин, лежа у себя и размышляя, охал, стонал и говорил самому себе: «Да… так» – и уснуть было невозможно. Где-то очень-очень далеко ворчал гром.
– Вы спите?
– Нет, – ответил гость.
Жмухин встал и через залу и сени, стуча своими пятками, прошел в кухню – воды напиться.
– Хуже всего на свете, знаете ли, глупость, – говорил он, немного погодя, возвращаясь с ковшом. – Моя Любовь Осиповна стоит на коленках и богу молится. Молится каждую ночь, знаете ли, и поклоны бухает, первое, чтоб детей в ученье отдать; боится, что дети пойдут на службу простыми казаками и их будут там поперек спины шашками лупить. Но чтобы учить, надо деньги, а где их взять? Хоть лбом пол прошиби, а коли нет, так и нет. Второе, молится, потому что, знаете ли, всякая женщина думает, что несчастнее ее нет на свете. Я человек откровенный и скрывать от вас ничего не желаю. Она из бедного семейства, поповна, колокольного звания, так сказать; женился я на ней, когда ей было 17 лет, и ее выдали за меня больше из-за того, что было есть нечего, нужда, злыдни, а у меня все-таки, видите, земля, хозяйство, ну, как-никак, все-таки офицер; лестно ей было за меня идти, знаете ли. В первый день, как поженились, она плакала и потом все двадцать лет плакала – глаза на мокром месте. И все она сидит и думает, думает. А о чем думает, спрашивается? О чем женщина может думать? Ни о чем. Я женщину, признаться, не считаю за человека.
Частный поверенный поднялся порывисто и сел.
– Извините, мне что-то душно стало, – сказал он. – Я выйду.
Жмухин, продолжая говорить о женщинах, в сенях вынул засов, и оба вышли наружу. Как раз над двором плыла по небу полная луна, и при лунном свете дом и сараи казались белее, чем днем; и по траве между черными тенями протянулись яркие полосы света, тоже белые. Направо далеко видна степь, над нею тихо горят звезды – и все таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над степью навалились одна на другую тяжелые грозовые тучи, черные, как сажа; края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на вершинах, темные леса, море; вспыхивает молния, доносится тихий гром, и кажется, что в горах идет сражение…
Около самой усадьбы маленькая ночная сова кричит монотонно: «сплю! сплю!»
– Который теперь час? – спросил гость.
– Второй в начале.
– Как еще далеко до рассвета, однако!
Вернулись в дом и опять легли. Надо было спать, и обыкновенно перед дождем так славно спится, но старику захотелось важных, серьезных мыслей; хотелось ему не просто думать, а размышлять. И он размышлял о том, что хорошо бы, в виду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая так незаметно и бесследно поглощает дни за днями, годы за годами; придумать бы для себя какой-нибудь подвиг, например, пойти бы пешком куда-нибудь далеко-далеко, отказаться бы от мяса, как этот молодой человек. И он опять воображал себе то время, когда не будут убивать животных, воображал ясно, отчетливо, точно сам переживал это время; но вдруг в голове опять все перепуталось и все стало неясно.
Гроза прошла мимо, но тучи захватили краем, дождь шел и тихо стучал по крыше. Жмухин встал и, охая от старости, потягиваясь, посмотрел в залу. Заметив, что гость не спит, он сказал:
– У нас на Кавказе, знаете ли, один полковник тоже был вегетарианцем. Не ел мяса, никогда не охотился и не позволял своим людям рыбу ловить. Конечно, я понимаю. Всякое животное должно жить на свободе, пользоваться жизнью; только не понимаю, как может свинья ходить, где ей угодно, без присмотра…
Гость поднялся и сел. Его бледное, помятое лицо выражало досаду и усталость; видно было, что он замучился и только кротость и деликатность души мешали ему высказать на словах свою досаду.