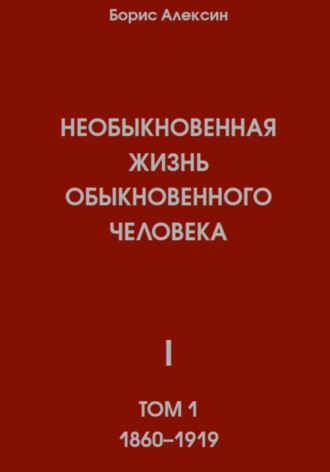
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Я чувствую себя хорошо, болей не бывает, только руки болят от впрыскивания мышьяка, а теперь и ноги, т. к. стали впрыскивать в ноги, чтобы дать отдохнуть рукам. Был ли ты у Гаусманна?
Боря всё ещё не совсем пришёл в норму: очень бледен, иногда жалуется на головную боль, не может много двигаться; я всё ещё не решаюсь сказать ему о смерти матери. Женя очень похудела за эту зиму; без меня у неё была ветряная оспа, и вообще какая-то она слабенькая стала. Крепко обнимаю. Мама».
Из этого письма видно, что Дмитрий Болеславович сумел-таки, по-видимому, используя адрес Алёшкина в Верхнеудинске, сообщить или Шалиной, или ему о смерти его первой жены, и сделал это, прежде всего, из меркантильных соображений.
Дело в том, что в то время все врачи состояли в Обществе врачей. При каждом губернском земском управлении был совет этого общества, а при нём – так называемая пенсионная касса. Каждый врач ежемесячно вносил в эту кассу определённый процент со своего заработка и имел право по достижении пенсионного возраста получать из этих денег пособие на жизнь. Если член кассы умирал раньше, то накопленные в кассе деньги выдавались его наследникам.
По существовавшим тогда законам, наследниками признавались законный муж (или жена) и законные дети. Законным мужем у Алёшкиной считался Я. М. Алёшкин, и поэтому право на получение денег из кассы имел только он.
Сумма, как оказалось, в пенсионной кассе была накоплена по тем временам довольно порядочная, а именно – 531 рубль. Деньги оставшимся после смерти Нины Болеславовны детям были очень нужны, особенно двум младшим, они ведь числились Алёшкиными и потому являлись законными наследниками денег, но их опекуном считался человек, числящийся их отцом, то есть Яков Матвеевич Алёшкин, и для того, чтобы получить эти деньги, от него требовалось заявление о передоверии своего опекунства кому-нибудь другому. После получения такого заявления дело могло быть разобрано в Сиротском суде и учреждена новая опека.
К счастью, это письмо Дмитрия Болеславовича каким-то образом дошло до Алёшкина, и он выслал необходимое заявление, после чего началась судебная волокита, и решение состоялось лишь 13 августа 1918 г., то есть почти через два года. Суд, наконец, дал право Дмитрию Пигуте распоряжаться вышеуказанными деньгами. Однако пользы детям Нины Болеславовны это решение уже не принесло: к этому времени деньги настолько упали в своей стоимости, что сумма в 531 рубль не могла обеспечить им и недельного существования.
В этом же письме Алёшкину Дмитрий Болеславович просил о высылке и другого документа – согласия на усыновление младших детей Нины Мирновым Николаем Геннадиевичем, их действительным отцом. Такое согласие Яков Матвеевич тоже выслал, но тут решение вопроса в соответствующих инстанциях затянулось на ещё более продолжительное время, и один из этих детей так никогда и не получил своей настоящей фамилии, а другой, вернее другая, получила её будучи уже почти взрослой.
Из комментируемого письма Марии Александровны видно, что и сам Алёшкин, живший с Анной Николаевной Шалиной в гражданском браке, узнав из письма Дмитрия Пигуты о смерти своей первой жены, поспешил оформить свой второй брак венчанием в церкви. Такая предусмотрительность в военное время для человека, находящегося в действующей армии, была далеко не лишней.
Во всех письмах Мария Александровна упоминает о находящихся на её попечении внуках с большой теплотой и любовью, чувствуется, что её мысли полны ими…
25 мая занятия в подготовительном классе были закончены, Боря показал неплохие успехи, потому они с бабусей надеялись, что осенью он успешно сдаст экзамены в первый класс гимназии. Пока же предстояло лето, и надо было организовать проведение его так, чтобы мальчик, перенёсший много нравственных волнений и тяжёлые болезни, как следует окреп.
А перед Марией Александровной возникла новая задача: она получила приглашение на Всероссийский учительский съезд в город Харьков. Ей, горячо любившей свою профессию, чрезвычайно хотелось на него попасть. Оставлять же детей почти на полмесяца одних, под присмотром только прислуги, она не решалась и была в очень затруднительном положении. Выручили, как всегда, друзья.
Янина Владимировна Стасевич предложила на это время привезти детей в лесничество, где они будут находиться вместе с её детьми. Пигута с благодарностью воспользовалась этим предложением, а для детей это явилось неожиданной и очень приятной радостью.
В письме от 19 мая 1916 года Мария Александровна сообщает сыну о предполагаемой поездке: «…Целую неделю собиралась написать тебе, но всё это время было очень много работы. Гаусманн ожидает, что я буду в Москве в мае и покажусь ему. Но я спешу тебя уверить, что чувствую я себя прекрасно. <…> В Москву ехать мне было бы очень тяжело, если бы не представился удобный случай: в Харькове при учебном округе открывается педагогический съезд, и для поездки мне отпускаются прогоны и суточные от попечительного совета гимназии. Ехать придётся через Москву, где я смогу задержаться на 2–3 дня. Очень бы хотелось повидать тебя, но остановку в Москве мне было бы удобнее делать на обратном пути, при возвращении в Темников, то есть числа 12–13 июня. Выехать из Темникова я смогу не раньше 28 мая, съезд назначен на первое июня, следовательно, задерживаться в Москве было бы нежелательно во всех отношениях:
1) мне необходимо поспеть к открытию съезда, так как придётся делать доклад;
2) я потеряю милую попутчицу Анну Захаровну Замошникову, с которой я выезжаю из Темникова и хотела бы доехать до самого Харькова; она приглашает меня погостить у неё во время съезда в доме её матери. Поэтому мне было бы удобнее остановиться в Москве 12–13 июня.
Хотелось бы иметь от тебя ответ до моего отъезда из Темникова, можешь ли ты быть в Москве в это время; из Харькова я напишу день в точности и сообщу, где меня найти в Москве…»
Помимо большой подробности в описании планов своей поездки в Харьков, которая, очевидно, очень волновала старую учительницу (в то время такие съезды были ведь редкостью), в письме – горячее желание увидеться с сыном, и в то же время вновь полное игнорирование его жены: ни привета ей, ни вопроса, хотя бы из приличия, о состоянии её здоровья – ничего. Конечно, такие письма, попадая в руки молодой, самолюбивой, гордой женщины, её обижали и вызывали в ней к свекрови чувство справедливого негодования.
Причина такого отношения Марии Александровны, бывшей, в общем-то, очень доброй и отзывчивой женщиной, к своей невестке, так до конца её жизни и осталась неизвестной.
В этот же период времени, отвечая на настойчивые запросы Дмитрия Болеславовича, продолжавшего беспокоиться о здоровье матери, Янина Владимировна Стасевич сообщает ему в письме: «С радостью спешу исполнить Вашу просьбу и написать Вам поподробнее о Вашей маме. Из ежедневных почти разговоров с ней и последнего осмотра я вынесла такое впечатление, что физически она, безусловно, поправилась: ей прибыло шесть с половиной фунтов, болей не было ни разу, аппетит хороший. Что касается состояния нервной системы, то меня оно не удовлетворяет: по-моему, у неё слишком много энергии и жажды деятельности. Недавно, когда я заикнулась о том, что хорошо бы, если бы она не так много металась по всем собраниям и делам, она мне ответила, что если у неё найдётся такой день, в который дел мало и можно бы отдохнуть, то у неё делается скверное самочувствие. Мне кажется, что эти слова характеризуют состояние её нервов. <…> Лекарства она первое время принимала, а теперь и слушать не хочет: говорит, что ей совсем немыслимо помнить, что когда пить, что ей слишком тяжело вскакивать с постели в шесть часов, чтобы пить боржом с висмутом и т. д. Что касается её поездки в Москву, то хотя она мне категорически заявила, что это равносильно для неё новой болезни, но всё-таки я уверена, что мне удастся отправить её. Она очень уж Вас любит и очень ей неприятно огорчить Вас. Вот этот-то большой козырь в моих руках и поможет мне выиграть.
Ещё неожиданно на днях так устроились дела в гимназии, что Мария Александровна вызвалась ехать на педагогический съезд в Харьков к первому июня. Я думаю, что это, конечно, вовсе не необходимо, чтобы она там была, но не отговариваю, в надежде, что Вы увидитесь с ней перед съездом в Москве и, если найдёте нужным, сами отговорите её. Детей я на всё время её отсутствия хочу взять к себе, и, кажется, она ничего не имеет против».
В начале июня Мария Александровна, сообщая сыну о работе съезда, о том, как тепло она была принята в семье Замошниковых, назначает ему встречу в Москве на 13 июня.
Глава тринадцатая
Пока Мария Александровна Пигута участвует в работе учительского съезда в Харькове, её два шалуна гостят у Стасевичей и время проводят весело и интересно.
Около четырёх лет тому назад Стасевич окончил строительство дома в лесничестве, и с этого времени этот дом стал основным местопребыванием почти всей семьи. Последние годы только один Юра, начавший учиться в гимназии, с осени уезжал в город на неделю.
Дом Стасевичей, срубленный из добротных толстых брёвен, обшитый снаружи тёсом, а изнутри оштукатуренный, покрытый железной крышей, был велик. Одно из его крыльев, имевшее отдельное крыльцо и вход, занимала контора лесничества. Около крыльца конторы постоянно толпились мужики с подводами и без них. Это были крестьяне ближайших деревень, приехавшие наниматься на работы, получать разрешение на сбор валежника и вырубку сухостоя на дрова или делового леса на какие-нибудь постройки. Тут же находились и лесники с дальних кварталов, прибывшие за какими-нибудь распоряжениями или боеприпасами и другими мелкими хозяйственными товарами и продуктами, которые они приобретали в лавочке, содержавшейся одним из служащих конторы.
В отличие от просителей-мужиков, лесники держались более независимо и солидно, почти все они были с ружьями, а некоторые и с собаками. А если тут случался и объездчик, то есть человек, поставленный начальником над группой лесников, то тот и вовсе выделялся, и не только своим начальническим видом, но и одеждой, имевшей уже большее сходство с городской. Главное, у объездчика обязательно были сапоги, тогда как все крестьяне и большинство лесников носили лапти.
Кроме того, объездчику полагалась казённая верховая лошадь, обычно стоявшая тут же, у коновязи, и служившая источником бесконечных споров и обсуждений толпившихся вокруг неё мужиков.
Время ожидания приёма в конторе проходило у всех этих людей, куривших, как правило, огромные, свёрнутые из газеты козьи ножки, в обсуждении достоинств и недостатков коня объездчика, в беседах о своих крестьянских нуждах, приведших их к господину лесничему, в сетовании на несправедливость или чрезмерную строгость какого-нибудь лесника, стремившегося в своей должности помимо законного жалования, получаемого от казны, выжать что-либо и с бедного мужика.
В последние два года в этой толпе ожидающих всё чаще и больше оказывались женщины и дети, привезённые к «докторше» – жене лесничего, у которой в одной из комнат конторы был небольшой кабинет и аптечка, где она вела приём больных. Принимала она бесплатно, и лекарства её помогали. Количество больных росло.
Ни в одной из окрестных деревень никаких лечебных учреждений не было, и всем приходилось ездить за помощью в Темников, за девять с лишним вёрст, к доктору Рудянскому, а это и хлопотно, и долго. «Докторша» Стасевич жила в двух-трёх верстах, то есть совсем близко.
Сам Стасевич пользовался уважением крестьян. Он, правда, никому не прощал самовольных срубок и беспощадно за них штрафовал, но и лесников, и объездчиков держал в строгости, не позволяя им заниматься взяточничеством или применением каких-либо телесных воздействий к порубщикам.
Кроме того, он почти всегда удовлетворял просьбы об отпуске тех или иных лесоматериалов, причём за очень умеренную плату, а беднейшим крестьянам или погорельцам, к большому неудовольствию своего помощника и счетовода Пушкова, лес отпускал даже бесплатно. Делал это он не столько по доброте душевной, сколько из простого расчёта. Дело в том, что в этот период времени Пуштинская лесная дача правительством не эксплуатировалась из-за сложности вывоза леса, поэтому очистка леса от валежника и сухостоя была не только желательной, но и просто необходимой. Своим знакомым Иосиф Альфонсович говорил:
– Если бы я не отдавал эту древесину даром или за небольшие деньги местным крестьянам, то мне для сохранения санитарного состояния леса пришлось бы нанимать людей и платить им за то, чтобы они произвели уборку. И если я одновременно с этим отпускаю несколько стволов деловой древесины, так казна от этого только выигрывает.
И верно, Пуштинское лесничество, которым он заведовал, всегда находилось в образцовом порядке.
Его соседи–лесничие, заведующие Саровским и Харинским лесничествами, были людьми другого склада, они норовили на этом деле получить кое-какую выгоду лично для себя. Цены на валежник и сухостой они назначали более высокие, а об отпуске леса бесплатно у них даже и заикнуться было нельзя. Поэтому крестьяне, проживавшие в районах и этих лесничеств, приезжали за лесом к Стасевичу
Нельзя сказать, чтобы это способствовало установлению особенно тесных дружеских отношений между лесничими. Вид лесных дач этих лесничеств значительно отличался от Пуштинского: если в последнем почти не было глухих непроходимых мест, если на его вырубках не только не было остатков вырубленной древесины, но почти всегда и все пни были выкорчеваны (их Стасевич тоже бесплатно отдавал на дрова), а сами вырубки в большей своей части были превращены в питомники, то в Саровском и Харинском лесничествах такой отрадной картины не было.
Это и отметил ревизор из столицы, приезжавший в Темников, кажется, в 1914 году. Акт ревизора ещё более ухудшил отношения Стасевича со своими коллегами. Он, однако, на это внимания не обращал и продолжал поступать по-своему.
С течением времени дом лесничего, находившийся на самой южной границе лесничества, ровно в девяти верстах от г. Темникова, оброс разными хозяйственными постройками: амбарами, конюшней, сеновалами, домами для работников, хлевами и т. п. Около дома в небольшом саду с несколькими, пока ещё не плодоносящими, фруктовыми деревьями, многочисленными кустами малины, смородины и крыжовника, стояли три улья. Пчеловодство, после охоты, было одним из самых любимых занятий Стасевича.
Недалеко, около опушки леса, существовало довольно много (десятин десять) земли, она использовалась лесничим и служащими конторы под огороды и посевы кое-каких злаков: проса, гречихи и овса. Для обработки своей земли лесничий нанимал временных рабочих, хотя держал двух человек и постоянных, ухаживающих за скотом и поддерживающих порядок на дворе.
К описываемому нами времени хозяйство Стасевичей напоминало собой маленькую помещичью усадьбу. В нескольких сотнях шагов от дома, на невысоком пригорке, поросшем мелким сосняком и ельником, стояла смотровая вышка, позволявшая со своей вершины осматривать почти всю Пуштинскую лесную дачу. Она служила для выявления лесных пожаров. Каждое утро и вечер один из лесников, избушка которого находилась в полуверсте от вышки, забирался на неё и осматривал лес, для этого ему выдавали бинокль.
Вышка, сооружённая из довольно толстых брёвен, имела в высоту около двенадцати сажен. Она состояла из четырёх ярусов, отделённых друг от друга перекрытиями из толстых досок. На её вершине, каждая сторона которой составляла один аршин, в досках, её закрывающих, было сделано отверстие, в которое едва мог протиснуться взрослый человек. Каждый ярус вышки соединялся с другими лестницами. Брёвна скреплялись поперечными балками. Сооружение было довольно прочным, что, однако, не мешало ему раскачиваться при малейшем ветре.
Ни Юре, ни Боре залезать выше второго яруса не разрешалось, но они этого запрета не соблюдали и довольно часто забирались на самый верх, откуда с замирающим от страха сердцем смотрели по сторонам.
Регулярное наблюдение за лесом с вышки оказывало большую помощь не только в борьбе с лесными пожарами в Пуштинском лесничестве, где за последние годы не было ни одного крупного лесного пожара, но и в ликвидации пожаров на соседней Саровской даче и в ближайших от лесничества деревнях. Особенно часто лесничество оказывало помощь лежащей в трёх верстах от конторы деревне Русское Караево, которая горела каждое лето.
Чуть ли не на второй день пребывания внуков Марии Александровны у Стасевичей в начале лета 1916 года там произошёл такой огромный пожар, что выгорела почти половина деревни.
Сборы пожарной команды Боря и Юра наблюдали собственными глазами, вертясь у всех под ногами и умоляя Иосифа Альфонсовича взять их с собой. Тот уже было согласился, но вмешалась Янина Владимировна, и так им на тушение пожара попасть и не удалось.
* * *
К этому времени Юра Стасевич уже окончил второй класс гимназии, а несколько месяцев тому назад в семье Стасевичей появилась дочка Ванда.
После возвращения в Темников Боря приехал к Стасевичам всего второй раз, Женя же гостила у них часто и раньше. Но почти всегда это её пребывание в лесу происходило совместно с бабусей, а тут дети были оставлены совсем одни. И оставались не на один–два дня, а почти на месяц. Это их пугало и волновало, поэтому первые дни они немного дичились и старались держаться вместе. Но так было только первые дни, а затем они освоились и стали чувствовать себя как дома.
Сказалось и то, что старшие Стасевичи были простые, добрые и очень хорошие люди, а Янина Владимировна отличалась ещё и большой душевной теплотой, и лаской.
Боря целыми днями играл с Юрой, а Женя вертелась в детской около маленькой Вандочки, наблюдая, как её пеленают, кормят и укладывают спать, а затем проделывая всё это со своей куклой.
Юра Стасевич любил читать, но ещё больше он любил что-либо мастерить. Боре это было совсем незнакомо, и он смотрел на Юру, как на некоего чародея, из-под рук которого выходили порой удивительные вещи, при виде их мальчишка не мог сдержать своего восхищения. Юре это льстило, и он ещё старательнее делал какую-либо вещь к большему удовольствию своего младшего друга.
Он изготовлял модели различных простых сельскохозяйственных машин или физических приборов, причём все эти модели были действующими. Родители поощряли это увлечение, поэтому в комнате, где временно вместе с Юрой поселили и Борю, находилось множество самых разнообразных инструментов. В углу комнаты стоял даже небольшой токарный станок, а находившийся рядом с ним большой шкаф был заполнен физическими приборами и химическими реактивами.
По всему полу валялись кусочки дерева, металла и стекла, убирать всё это было категорически запрещено. Уборку в своей комнате Юра производил сам, хотя делал это и не каждый день. Боря с этим столкнулся впервые. Юра убирал за собой постель, сам чистил своё платье и обувь, сам должен был вытирать пыль и подметать в своей комнате, а раз в неделю прибирать и все валяющиеся на полу кусочки различных материалов, иначе Арина, так звали служанку-мордовку, всё найденное на полу безжалостно выбрасывала.
У бабуси Боря вставал, одевался, умывался и шёл учиться или уходил играть во двор. Постель, а также и комнату, в которой они с Женей спали, убирала няня Марья.
Здесь было не так. Утром, прежде чем умыться, нужно было застелить постель, вытереть пыль и подмести пол. И сделать надо всё как следует, а то та же Арина, которая у Стасевичей была чем-то вроде экономки, обнаружив непорядок, доложит об этом хозяевам, и тогда вместо того, чтобы идти играть, придётся всё переделывать, на что уйдёт чуть ли не целый день.
Дом Стасевичей стоял на небольшом песчаном холме. В одном из углов сада находилась довольно глубокая яма, образовавшаяся после добычи песка, необходимого при строительстве дома. Эта яма была излюбленным местом игры обоих мальчишек.
Юра, начитавшись Майн Рида, Купера, Буссенара и других таких же писателей, изображал себя то индейцем, то охотником, то ещё каким-нибудь книжным героем. Не отставал от него и Боря. Правда, последнему в таких играх отводилась второстепенная роль. Юра сделал себе лук и стрелы, под его руководством и при его помощи сделал то же самое себе и Боря.
Обзаведясь оружием, они решили устроить небольшое сражение. Спрятавшись за деревьями, крались друг к другу, а потом начинали обстреливать обнаруженного противника из своих луков. Стрелы были деревянные, с тупыми концами, но попадая, оставляли на теле ощутимые отметины. Хорошо было только то, что вояки лучше маскировались, чем стреляли из лука, поэтому попадали друг в друга довольно редко.
Как-то во время дождя, когда мальчики сидели в столовой, Боря увидел на столе польский юмористический журнал «Муха». Он заинтересовался смешными картинками, а затем, пользуясь своими скромными знаниями французских букв, попытался прочитать и подписи под рисунками, но из этого ничего не получилось. Он попросил Юру растолковать значение букв и слов, которые, как он понял, были написаны на польском языке. Юра это сделал, а затем и Янина Владимировна, узнав о желании гостя научиться писать по-польски, стала Боре помогать. Она очень высоко ставила польскую культуру, и потому приобщение к ней даже такого мальчика, как Боря, ей импонировало, а ему впоследствии эти зачатки новых знаний очень пригодились.
Как-то, под влиянием только что прочитанного произведения Купера, Юра сказал, что для закрепления их дружбы они должны выкурить трубку мира. Боря не знал, что это такое, но раз Юра заявил, что так надо и что сейчас же необходимо сделать трубку, Боря, безоговорочно признававший авторитет Юры во всех вопросах, согласился.
Примерно в полутора верстах от дома, в лесу, на берегу речки Чернушки нашли они глину, накопали, завернули её в лопухи и принесли в свою яму. Увидев ребят за лепкой, пристала к ним и Женя, и весь вечер все трое лепили и трубки, и ещё самые разнообразные вещи: от грибов до лошадей и человечков. Потом мальчики всё налепленное, за исключением трубок, великодушно передали Жене во владение. Трубки же после сушки были обожжены на углях в русской печке на людской кухне.
Теперь встал вопрос: где выкурить трубку мира? Ребята понимали, что их попытки сделать это где-нибудь на виду у родных успехом не увенчаются. Ведь они, взрослые, в их делах не разбираются, и в священном ритуале трубки мира увидят только то, что мальчики курят. Значит, надо найти укромное место. Можно было бы забраться на сеновал, но, к счастью, Юра читал, что обыкновенно все индейцы делали это в лесу или в пещере.
В лес идти далеко, а пещеры не было. Но тут Боря предложил:
– А что если выкопать пещеру в яме?
И дело закипело. Принесли из амбара две лопаты и принялись за работу. Она пошла очень быстро: грунт – песок оказался податливым, и к вечеру в их распоряжении уже имелась пещера глубиною аршина в полтора, высотой немного больше аршина и с аршин шириной. В ней, кое-как скорчившись, можно было уместиться даже и вдвоём, но этого, конечно, было недостаточно. К вечеру следующего дня пещера увеличилась более чем вдвое, и теперь она уже действительно походила на пещеру. Сидеть в ней стало удобно, а Боря, немного согнувшись, мог даже и стоять. Там было прохладно и почти совсем темно.
Правда, после этой работы у обоих мальчиков на ладонях образовались довольно большие мозоли, которые, впрочем, в пылу работы они не заметили, а ощутили боль от них лишь потом, когда всё было закончено. Но разве это имело значение?
Итак, трубку мира можно раскурить!
Ещё раньше Юра стащил у сторожа, дремавшего у ворот конторы, горсточку табаку, которым тот набивал свою деревянную трубку; спички раздобыли на кухне, и священнодействие началось.
Забравшись в подземелье, Юра набил трубку, взял её в рот и, приложив к ней зажжённую спичку, стал тянуть воздух в себя. Табак разгорелся, в рот попала порядочная порция дыма, и он жестоко закашлялся. Со слезами на глазах протянул он трубку другу и сказал:
– Теперь ты, твоя очередь!
Боря, заметив, как повлияло курение на Юру, не очень-то хотел курить, но делать было нечего, и он схитрил. Видел когда-то, что бабуся, взяв в рот дым, быстро его выдувает, и сделал так же. Всё обошлось благополучно: он не закашлялся. Вскоре они немного освоились с трубкой и, осмелев, стали понемногу втягивать табачный дым и в себя. Так продолжалось минут десять, затем Боря вдруг почувствовал, что его тошнит и что у него кружится голова. Он на четвереньках быстро выполз на свежий воздух и тут потерял силы. Вслед за ним выполз и позеленевший Юра. Так они и лежали рядышком с полчаса, пока их не увидел Иосиф Альфонсович. Нагнувшись к Юре, он сразу почувствовал запах табака.
– Янина, скорее! Эти сопляки накурились до бесчувствия! Что с ними делать?
Из дома выскочила перепуганная Янина Владимировна и тоже бросилась к ребятам. Но свежий воздух сделал своё дело. Отравление никотином начало проходить. Когда она посчитала пульс у обоих мальчиков, он был почти нормальным, и они уже вполне сознательно реагировали на окружающее. Опасность миновала.
Она успокоилась, но не забыла своего испуга и ещё строже стала выговаривать шалунам, конечно, сыну особенно, как старшему. Пришлось рассказать всё.
А когда была принесена из пещеры оставленная там трубка, и некурящий Стасевич увидел её размеры, то не удержался, рассмеялся и сказал:
– Ого! Вот это трубка, от такой трубки лошадь может ноги протянуть!
Так эта история и не вызвала особого наказания. Взрослые решили, что ребята достаточно наказали себя сами. Да так оно было и на самом деле, после трубки мира ни Юра, ни Боря к табаку не прикасались много лет.
Юра учился играть на рояле и на скрипке, он обладал врождёнными способностями, делал успехи в игре на обоих инструментах, хотя лучше играл на рояле. Но это было не то! Его всегда увлекала игра на каких-нибудь необыкновенных инструментах, на которых в обычном обществе играют только специалисты или вообще не играют. В это время его особенно увлекали колокола.
По его настойчивым просьбам ему купили десятка полтора самых разнообразных колоколов, начиная по величине от крошечного настольного колокольчика, каким в барских домах вызывали слуг, и кончая колоколом весом в пуд, какой использовался на настоящей колокольне. Около забора своего дома в саду, недалеко от излюбленной ямы, Юра устроил себе невысокий помост, над ним укрепил две балки, а на них повесил все свои колокола, подобрав их по размерам и звуку. И вскоре по окрестностям стали раздаваться перезвоны его колоколов. Он мастерски подражал звонарям почти всех темниковских церквей, а они все звонили одно и то же, но по-разному, со своими, присущими только каждому из них оттенками. Юра запомнил эти особенности и в своём исполнении эти оттенки повторял. И все различные звоны при разных богослужениях он тоже виртуозно исполнял. Позже благодаря его способностям им вместе с Борей не раз удавалось проникнуть на колокольни Иоанна Богослова, Троицы и даже собора в большие праздники и названивать там.
Надо сказать, что и Боря, имевший хороший слух, тоже вроде бы овладел техникой звонаря и умел довольно прилично исполнять на колоколах необходимый звон. Но до Юриного совершенства ему было далеко.
Если Юра звонил днём или утром, когда с другой стороны дома собирались в ожидании господина лесничего или «докторши» крестьяне и лесники, то все они, в особенности бабы, немедленно перекочевывали к этому забору, чтобы послушать, как «ихний сынок во все колокола играют». Слушать Юрины названивания они могли часами, иногда даже пропуская приход барина, как они все называли лесничего. Особенно всем нравилось, когда Юра с церковного звона переключался на русские народные песни: «Во саду ли в огороде», «Во поле берёзонька стояла», «Ах, вы сени, мои сени».
По этому поводу у Иосифа Альфонсовича даже была небольшая неприятность. Как-то, когда Юра с особым увлечением названивал на колоколах какую-то весёлую плясовую песню, мимо дома лесничего проезжал в Саров темниковский протопоп. Услышав колокольный звон, в котором не было ничего божественного и торжественного, и увидев стоящих у забора крестьян, слушавших этот перезвон с открытыми от удовольствия ртами, протопоп послал своего служку к Стасевичу с требованием немедленно прекратить это богохульственное занятие.
После этого Юре пришлось на время свои упражнения с перезвонами оставить. Колокола были сняты и заброшены куда-то в сарай, где они и пролежали до самой революции.
Так, в играх, развлечениях, небольших ссорах, ежедневных шалостях и проказах прошли три недели, которые бабуся провела на учительском съезде в Харькове. Вернувшись, Мария Александровна немедленно приехала за детьми. Но ребята так полюбились Янине Владимировне, что она ни за что не хотела их отпускать, а уговаривала М. А. Пигуту и саму погостить у неё. Но у Марии Александровны было много дел в гимназии, и она остаться категорически отказалась, увезла она с собой и Женю, которая уже начала немного скучать без своих городских подруг. Борю же, которому постоянное пребывание на свежем воздухе, постоянное движение, беготня и игры, видимо, пошли на пользу, согласилась оставить до осени.
А до осени внук её не только ходил за ягодами, ездил за грибами, на озеро, где купался вместе с семьёй Стасевичей, но ещё успел и удивить их, в особенности Юру.
Юра почему-то боялся воды и, хоть ему было двенадцать лет, плавать не умел. Боря же умел это с пяти лет. Вода в озере, очевидно, от торфа, имела коричневатый оттенок и у берега очень тёплая, в середине и на глубине, где били подземные ключи, была холодна, как лёд. В озеро не впадала ни одна речка, а вытекала из него уже знакомая нам Чернушка, протекавшая почти через всю Пуштинскую лесную дачу и где-то за Темниковым впадавшая в Мокшу.
День был жаркий – начало июля, время – около пяти часов вечера, в лесу тихо. Шёл сенокос, пахло травами и лесными цветами. Берег озера был покрыт высокой мягкой травой, растущей между ивовыми кустиками. Разместившись около них, купальщики медленно раздевались.
Первым разделся и залез в воду Иосиф Альфонсович. Он плавал неважно и предпочитал бултыхаться у берега. Юра, сидя голышом на берегу, болтал ногой в воде и не решался в неё залезть. Боря, тоже раздетый, ходил по мягкой шелковистой траве, наслаждаясь её прохладной ласковостью.
– Ну что же вы, ребята? Здесь у берега неглубоко. Дно песчаное, лезьте скорее в воду, смотрите, как хорошо! – кричал Стасевич, брызгая на ребят водой, окунаясь и отдуваясь, как морж, сходство с которым ему придавали большие рыжие усы, обычно щегольски закрученные, а сейчас намокшие и торчащие волосками в разные стороны.







