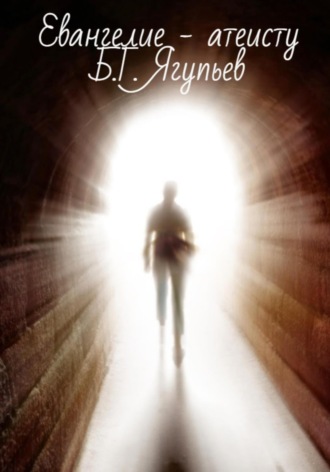
Борис Григорьевич Ягупьев
Евангелие – атеисту
Вступление
Этот слепой текст, напечатанный на пожелтевших страницах на старенькой печатной машинке, я получила от своего дяди. Некоторые страницы – это рекламные плакаты кандидата, другие – папиросная бумага. Текст лишён абзацев. Видно, что бумага явно экономилась… Время, когда Борис писал роман, было трудное, советское на самом излёте. Чтобы иметь бумагу, он специально устроился расклейщиком объявлений. Вот на обратной их стороне и писал. Никому о том, что пишет, рассказать не мог, упрятали бы в психушку. В самом ещё начале, когда это произошло, попытался рассказать о случившемся жене, но она посоветовала больше не пить…
Получила я эту рукопись не сразу. Дядя говорил, что тема очень специфическая, что нельзя воцерковленным этого читать, что писал он не для прочтения кем-то, а потому, что не мог не писать, потому что такова была воля Светлого. При этом велено ему было не беспокоиться о том, для чего и кого пишет. Было условия – писать первоначально только от руки.
Наверное, я бы не узнала о рукописи, но случилось так, что у дяди открылась большая язва в желудке. Я положила Бориса к себе в отделение, где работала младшим научным сотрудником. У меня был свой кабинет, в котором стояла печатная машинка, вот он и попросил разрешения проводить вечера в моём кабинете. Я разрешила. Как-то я нагла на полу, оброненный дядей печатный лист, прочитала его и стала задавать вопросы. Ответил, что не хочет об этом говорить. Я не стала настаивать.
Когда умерла моя бабушка, его мать, мы встретились на похоронах и разговорились о том, что сейчас с её душой происходит. Я предположила, что бабушка незримо присутствует на похоронах. Борис сказал, что мамы рядом нет, что она далеко и ей хорошо. Слово за слово, и он рассказал мне о рукописи. Так всё и началось.
Первоначально он только рассказывал мне кое-какие эпизоды, потом разрешил почитать ещё не оконченную рукопись, не вынося из его дома. Разумеется, прочитала я тогда несколько первых глав, тех что были им отпечатаны. Я видела рукопись, написанную его, положенным влево, почерком. Попросила его дать экземпляр книги, когда она будет напечатана. Он сказал, что книга ещё не окончена. Задержка с написанием случилась из-за того, что в какое-то время возникли проблемы с покупкой бумаги. Устроился расклеивать объявления и писал на обратной их стороне. Писал – на чём придётся – это было видно.
В итоге две папки-скоросшиватели, получил мой отец, когда Борис приехал к нему в гости. Они с мамой прочитали рукопись, и предложили её прочитать мне. Но я была очень занята и отложила прочтение на «потом», а потом забыла о тексте. Вспомнила пару лет спустя. Забрала папки к себе, сказав, что потихоньку перепечатаю текст, чтобы даль почитать уже повзрослевшим детям и парочке подруг.
Времени было мало, и перепечатка рукописи продвигалась медленно. Недавно решила разместить уже напечатанное на каком-нибудь литературном форуме, потому что текст кажется мне интересным. Борис рассказывает интересные эпизоды из своей жизни. Кроме воспоминаний описываются некие мистические события связанные с Иисусом, Хранителем, Матфеем, Лукой и некоторыми другими библейскими персонажами. Борис уверял, что это не фантазии, не литературный приём, а произошло с ним реально. Так ли это? Не поручусь… Мои родители воспринимали написанное, как автобиографическую повесть с элементами мистики… Пусть так. Будет ли роман кому-то интересен или нет, не знаю. Борис был ещё жив, когда я спросила у него разрешение поместить рукопись в Интернете. Он сказал, что тяжело болен, и ему всё равно. У него был обнаружен рак горла.
Дядя уже умер. Не так давно он приснился мне, во сне поцеловав меня, и я решила, что надо понемногу начать размещать, написанную им книгу.
Евангелие – атеисту – отрицание отрицания
В начале было Слово, и Слово было у Бога…
Глава 1.Начало
Спрятавшись в густом лапнике ели и вцепившись в ее шершавый липкий ствол, приникнув к ней всем телом, и щекою понял я, что не спрятался и увиден, замечен, взглянул в бездонные синие глаза и в невыразимом ужасе поняв, что душа моя покинула тело, бросился бежать. Удивительно, что я ни разу не упал в том паническом бегстве сквозь густые лапы елей, ветки кустарника на опушке, которые хватали, цепляли меня за одежду. Затем были какие-то колдобины, промоины, неровности обработанного поля, густо засеянного кормовыми травами, опутывавшими мои ноги. Бег был так стремителен, что ветер свистел у лица и срывал слезы с углов глаз и, забивая через открытый рот плотной пробкой глотку, был плотен и ощутим, словно я не бежал, а несся на мотоцикле.
Перелетев, таким образом, поле и очутившись на опушке другого лесного массива, я чуть не споткнулся о ствол, весной поваленной ветром, старой, еще не умершей, березы, с черным мощным комлем и глыбой, вывороченного с дерном и землею, корневища. Последним усилием перепрыгнул и, обессилев в прыжке, осел на тропу, буквально свалился с ног, неосознанно подвернув их под себя «по-узбекски», как привык в детстве, в Фергане, где был с матерью, теткой и братом в эвакуации в начале войны. Сидел я вплотную к лежащему стволу. Рюкзачком за спиною опираясь в изогнутый комель и дернину корневища. Я задыхался. Сердце готово было выпрыгнуть через глотку. Пот струился и стекал по голове, лицу, шее под одежду, и была она под курткой противно липкой и сырой. Дыхание странно быстро восстановилось, и сердцебиение успокоилось, только дрожь продолжала бить все тело. С трудом я высвободился от лямок рюкзачка, достал из кармашка пачку сигарет и зажигалку. Вынимая трясущимися руками сигарету, я рассыпал несколько по траве, но собирать не стал, прикурил судорожно, задохнулся дымом, зажмурившись, вслепую, развязал веревку, достал и прислонил к стволу термос, не открывая ее, вынул два свертка с остатками еды и положил их в ногах. Делалось это механически. Мыслей в голове не было никаких и даже страха уже не было. В правой руке, свободной от сигареты, оказался мой старенький транзистор, настроенный на волну «Маяка». Я нажал на кнопку включения. Раздались позывные, мелодия «Подмосковные вечера» перед сигналами точного времени. Взглянул на часы, высвечивались последние секунды перед полуднем. Зазвучали сигналы точного времени, но последний сигнал как бы растянулся и , затихая, пропал. Часы мои электронные так и не пропищали полдень. Экран их тихо угас. Вспыхнула первая мысль: «Батарейки сели… не вовремя!». Сигарета сгорела как-то стремительно. Окурок стал жечь пальцы, и я, не глядя, ткнул его в мягкую влажную траву у своей ноги. Тут то и прозвучал вопрос:
–
–Осознаешь ли, понимаешь- ли, знаешь ли, кто над тобою и перед тобою? – слышу вопрос, заданный негромко и очень отчетливо с твердостью, исключающей возможность уклониться от ответа с помощью жеста, мимической ужимки, какого-либо междометия или мычания. Голос прозвучал чуть сверху, но явно вблизи.
–
Подняв голову и чуть ли не вытаращив глаза, ведь не слышал я ни приближающихся шагов, ни шороха, ни звука, охватил сразу всю его фигуру, как бы слегка светящуюся на фоне темневшего за ней хвойного леса, и, избегая останавливать взгляд на лице или заглянуть в глаза, постарался разглядеть возможно больше внешних подробностей, запомнить, не упустить.
–
Вопрос требовал полного развернутого ответа, и я уже мысленно готовил формулировку такого ответа, но не
спешил с
ним, потому что вдруг догадался, что важен не только смысл, но и порядок слов, и даже интонации при произнесении. В возникшую секундную паузу я поднял опущенную низко голову и открыл глаза, до того зажмуренные, и увидел стоящую в трех шагах от себя громадную человеческую фигуру, словно богатыря или рыцаря, в облегающей длинной, до пят, одежде, без какого-либо оружия.
От вопроса до ответа прошли две-три секунды, полагаю, но за этот крохотный промежуток, он явно был дозволен мне самой структурой вопроса, взглядом и стремительно раскручивающимися мыслями успел я охватить поразительно много для себя, не обладающего ни особой наблюдательностью, ни яркими мыслительными способностями, ни даже простой сообразительностью в критических ситуациях – это я знал и понимал о себе, не без сожалений, правда. Не зная того, что уже «выхвачен» из потока времени, я поражался своей неожиданной, не свойственной натуре, стремительности мысли, четкости понимания происходящего и обостренности восприятия окружающего.
Рост очень большой, за два метра. Если бы у меня хватило сил и смелости встать рядом с Ним, я был бы ему, пожалуй, на уровне середины груди своею макушкой. Голова крупная, шея длинная и мощная, плечи покатые и широченные. Тело от горла до самой земли закрыто облегающим то ли плащом, то ли рубашкой без видимых швов или разрезов, кармашков там, пояса, только с капюшоном за спиною. Рукава широкие, оставляющие открытыми кисти рук. Кисти рук были богатырские и вместе с тем утонченные, гибкие, подвижные и чувствительные. Левая рука была слегка сжата, словно в ней было что-то скрыто. Правая рука была раскрыта, и пальцы слегка пошевеливались. Кожа очень нежная, тонкая, белая, покрытая негустым пушком золотистых волосиков, ясно видны на ней голубые сплетения вен, пальцы длинные и сухие, почти без морщинок и без складок у суставов, прямые, с плоскими продолговатыми ногтями на средних трех опиленными или очень ровно обрезанными. На мизинце ноготь был удлиненный и срезан в острый угол, на большом пальце ноготь был также удлиненным, но обрезан в идеальную полуокружность. Сверху ногти словно отполированы или покрыты лаком, по цвету чуть розоватые. С этой кисти я опустил взгляд вниз, на обувь, вернее некое подобие обуви под босыми ступнями: что-то напоминающие пляжные тапки, многослойные, плоские, высотой в два моих пальца, снизу как бы очень темный плотный войлок или фетр, а над ним два слоя вязанных, из шерсти серой и белой, под ступней. Причем вязка казалось очень плотной. Как эти подошвы были прикреплены к ногам, я не мог рассмотреть или угадать. Меня поразило, как такая мощная фигура не сминает траву, не вдавливается в мягкую влажную землю. Ступни были крупные, длинные, узковатые, с молочно-белой кожей, безволосые и даже без пушка, с просвечивающими венами, длинными подвижными пальцами, со столь же тщательно ухоженными крупными ногтями. Я поднимал взгляд все выше. Под одеянием просматривались контуры икр, коленей, бедер, тонкая талия и широкая грудь, плавно приподнимаемая глубоким дыханием, хотя видел за эти мгновения всего один-два вдоха. Наконец я решился рассмотреть голову и лицо, стараясь не заглянуть в глаза.
Я увидел лицо очень молодого человека, овальное, здорового и цветущего вида, с кожей нежной, словно персик. Волосы на голове волнистые, тонкие и мягкие по виду, светлые с чуть золотым отливом, длинные, забранные в пучок за спиной, где-то посередине шеи, так, что оставлены были открытыми небольшие аккуратные уши почти без мочек. Насколько длинны волосы видно не было, т. к. пучок прикрывал капюшон за плечами. На какое-то мгновение в ушах что-то блеснуло, и взгляд мой зацепил то ли серьги, то ли клипсы в ушах. Причем они были разными: в левом ухе был простой крестик из желтого металла (золотой?) как будто ручной работы, в правом ухе такой же крестик был наложен на два сплетенных в звезду Давида (или Соломона?) треугольника. Треугольники эти были металлическими и облиты чем-то вроде синей эмали с блестками (алмазными?). Эти серьги-клипсы мелькнули и пропали, не оставив мочках дырочек или следов от зажимов. Я переключил взгляд на узенькую слегка кудрявую бородку, аккуратно подстриженную и ровно подбритую так, что щеки были почти не прикрыты, а шея и горло были совсем свободны о волос. Цвет волос менялся от висков, все темнее, и на подбородке был уже темно-каштановым. Бородка не скрывала слегка выступающего вперед широкого и твердого подбородка человека стальной воли. С бородкой смыкалась подковка тонких усиков почти черного цвета, и ярко блестели идеально ровные зубы меж полных, красивых, ярких и сочных улыбающихся губ, но не влажных, а сухих. Нос у основания был неуловимо вздернут, с ноздрями небольшими, но тонкими и подвижными. Линия носа была без какой-либо впадинки или горбинки и у бровей переходила в столь же прямую линию белого, без морщинок лба той же высоты, что длина носа. Брови черные, бархатистые, очень прямые, широко разлетались к вискам и здесь чуть приподнимались. Столь же темные, очень длинные ресницы обрамляли очень крупные сливовидной формы глаза с белыми белками без намека на какие-либо прожилки. Глаза были глубоко синего цвета. Глядя на эти неимоверные глаза, понимал я только то, что на меня истекает доброта, внимание и сочувствие с примесью жалости, пожалуй. И, утопая в этих глазах, начал я отвечать, удивляясь тому, что голос мой негромок и ровен, не дрожит, язык не запинается:
"Вы – Иисус, Сын Божий и Бог. Казненный и воскресший, Спаситель мира…"
"Ты сказал!" – Улыбка растаяла, и на губах появился горький изгиб. "Ты обращаешься неправильно. Эти ваши речевые выкрутасы с множественным числом, долженствующие показать почтение, уважение, на самом деле ни о чем не говорят, вносят только дополнительную путаницу и в без того нечетко, неумело выражаемые мысли… Впредь со мною и с теми, кто будет призван Мною, говори «Ты»! Если тебе будет дозволено обратиться одновременно к нескольким, можешь сказать "Вы", но вернее будет, если ты перечислишь каждого, из слушающих тебя. Теперь произнеси сказанное тобой ранее, но уже так, как Я тебя научил".
"Ты, Господин мой, Иисус, Сын Божий и Бог, казненный и воскресший, Спаситель мира". – Слова эти я произнес понизив голос почти до шепота, но не было во мне страха, я был уверен, что Он меня услышит и услышал бы даже шелест моих мыслей, если бы мне отказал голос. Он смотрел на меня с легкой улыбкой, и вдруг легко и непринужденно присел на ствол лежащей березы, причем ствол этот явно слегка прогнулся под тяжестью тела и как-то задрожал по живому…Он оказался теперь повернутым ко мне в профиль, смотрел не на меня, а в сторону, вдоль тропы, бегущей по опушке между стены елей и кустарников, по краю поля. Правую руку Он непринужденно положил на ствол и легко поглаживал его пальцами и ладонью. Левой рукой Он приподнял низ своей одежды и открыл ноги почти до коленей, положил ее на ногу и раскрыл ладонь. Зажатым в ладони предметом оказался простой деревянный хорошо отполированный крестик, коричневатый, отполированный до блеска, с явно видимым рисунком древесины. Длинный стержень был сантиметров девяти-десяти, поперечный – чуть менее пяти, причем в их пересечении не видно было какого-то следа механического соединения. Они словно были неведомым способом мягко сплетены тончайшими слоями, но без утолщения в месте соединения. Углы были идеально прямые.
Молчания не возникло, пока это произошло, и я рассмотрел нечто новое, и я услышал: " Ответь Мне, раб, почему ты именно эти слова выбрал и произнес? Ты ведь вне верований христианских, верно?" – спросил с явной усмешкой.
"Господин мой, меня не воспитали в вере и не учили никогда…".
"Будь точнее, вспомни старушку, няню свою в раннем детстве…"
"Ивановна? В Ростове?"
"Да, раб, Полина Ивановна"
"Помню, песню по радио пели, про полюшко широкое. Я думал, что про нашу Полюшку поют. Удивлялся, почему широкая, ведь она маленькая и сухонькая была. Господин мой, почему Ты называешь меня рабом" – спросил я без обиды, так – "запросил информацию".
"Ты и есть раб, и иным быть не способен. Оставим это. Я удалюсь на некоторое время, а ты подумай, вспомни, но главное – приведи себя в порядок."
Сказано было резко и сухо, но без брезгливости. Он перешагнул через ствол березы и исчез, сделав один лишь шаг, а я вдруг увидел, что там, куда он поставил ногу, у березы, бьет из травы фонтанчик воды и журчит…
Холодно мне стало, зябко…Мыслишка шевелилась простенькая: "Когда душа покидает тело, человек умирает. Я, наверное, сейчас в состоянии клинической смерти. Нужно подчиняться и сделать то, что мне приказано. Может быть душа будет возвращена в тело?" Я аккуратно положил рюкзак у самого комля с тем, чтобы, когда лягу, положить на него голову, и была бы она чуть приподнятой, для этого я сложил стопкой заготовленные мной веники в рюкзаке, собрал рассыпанные сигареты, вложил их в пачку и уложил в кармашек рюкзака. В другой кармашек я положил транзистор и зажигалку, снял с руки неработающие часы и сунул туда же. Вылил чай из термоса, развернул от газетной обертки остатки еды, раскрошил хлеб и разбросал в траву поля также кусочки сала и колбасы. Вытер руки куском газеты, которую смял и зарыл в землю корневища поваленной березы, разделся догола, вытряс тщательно всю одежду и даже сапоги вывернул и потряс. Перешагнул ствол и начал умываться. Попил воду. Была она очень холодная, но я вымыл голову, затем стал плескать воду на плечи, спину. Не спеша омыл всего себя дважды. Стало очень тепло и легко. Обсыхал я удивительно быстро. Я нагнулся и взял термос, разобрал его, промыл колбу и все металлические части, пластмассу, чашку. Из нее еще раз напился, не ощутив уже ледяного холода воды, почувствовал лишь ее оживляющую силу, и тогда залил полный термос этой водой.
Ясно вспомнил, часто бывал в этом месте в разное время года, и здесь до сих пор не было родника, это точно! Держа термос в руках, я переступил через березу, уложил его в рюкзак под веники и стал медленно одеваться, вновь встряхивая каждую вещь. Одетый и обутый. Накинул я капюшон на голову и прилег у ствола, положив голову на рюкзак. Подумалось:" Так меня и найдут. Интересно, когда это будет! Наверное, еще сегодня. Сегодня суббота, и дачники по дорожке будут гулять, не заметить не смогут." Думалось лениво и безразлично, без жалости к себе и сожалений об окружающем. Вдруг пришло понимание, что я нахожусь в какой то сфере, достаточно большой и проницаемой для ветра и близких звуков. Там, куда я бросил остатки пищи, чирикали птицы, Где то каркали вороны, но не доносились звуки летающих самолетов, не такого уж далекого Внукова. Не доносился шум тяжелых автомашин, регулярно носящихся, по близкой, километра полтора-два, бетонки, обычные шумы-крики, доносящиеся из строящегося дачного поселка. С этой мыслью я задремал, испытывая странную легкость полета…
Глава 2.Пробуждение
В полусне увиделось мне сладостно знакомое и в то же время неведомое ранее. Словно со стороны я видел себя самого и других людей. Слышались торопливые шаги по деревянным мосткам, хлюпающим в оттаявшей мерзлоте почвы под ними, туманно виделись деревянные одно-двухэтажные домишки, словно деревенские, но я знал, что это город, и зовётся этот город – Архангельск, и на самом деле он большой и далеко не весь деревянный. Три женщины спешили куда-то, чуть ли не бежали. Были они в длинных темных одеждах, от головы и до колен покрыты черными платками. Одна из них под платком прятала небольшой сверток. Я знал, что в этом свертке ребенок и понимал, что этот ребенок – я сам. Женщины вошли в один из приземистых длинных деревянных домов. После серенького туманного дня, они сразу погрузились в полумрак. Где-то впереди мерцали огоньки свечей, колебалось от сквозняка их пламя, они потрескивали. Слышалось монотонное многоголосье, приглушенное, с напевными интонациями, и было много темных кланяющихся фигур. Совершался какой-то обряд. Я вдруг понял, что этот обряд – крещение, которое совершается над несколькими младенцами. Одни из них буду я сам.
Обожгла холодная вода в большой деревянной бадье, куда меня окунули голого, но лицо мое было плотно закрыто мягкой большой мужской ладонью, и заорал я лишь вынутый из воды, когда руки обмывали мое лицо. Слышалось скороговорка-бормотание: "Крещается раб божий…нарекается…", и снова я – в сухой и теплой простынке и завернут в одеяльце. Меня выносят на улицу. С женщины, несущей меня, снимают черный платок и повязывают ей голову красной косынкой. Она несет меня уже открыто, не спеша, словно бы гуляет, но я снова ору, почувствовав сильный голод. Женщина достает из под одежды с груди тепло пахнущий телом тряпичный сверточек. Один из его углов свернут соскою. Это тряпичную соску я жадно хватаю беззубым ртом, жамкаю вложенный туда сырой хлебный мякиш и, глотая густеющие слюни, засыпаю.
Просыпаюсь я на коленях совсем другой женщины, маленькой и сухонькой, зовут ее Ивановна. Она меня любит и бормочет: "Господи Иисусе Христе! Спаси и помилуй дитя малое, невинное! За что ты его нехристям послал?"
Я уже не в Архангельске и старше. Ивановна меня учит: "Повторяй, Отче наш, иже еси на небеси…" Я обнимаю ее за плечи, за шею, смотрю в ее светлые заплаканные глаза на морщинистом лице и повторяю за ней, не понимая смысла и засыпая, засыпаю…
Я проснулся, открыл глаза, левой рукой я гладил траву рядом с собой. Вспомнил: "Вокруг меня колпак. Он не может быть велик. Надо встать и выйти из него и никогда сюда не возвращаться. Но буду ли я жив, выйдя отсюда? Нет, надо оставаться и ждать возвращения души. Пусть Он вернет ее или скажет, что не вернет". Лежать было удобно, словно я лежал на стоге зеленого еще сена, не подсохшего, мягкого еще и душистого, под лучами ласкового солнышка…
Он возник вновь бесшумно и неосязаемо, просто оказался сидящим там же, где прежде стоял. Сидел он на чем-то наподобие циновки, подвернув под себя по-восточному ноги. Руки лежало на коленях, лицо было приподнято, и глаза смотрели в небо. Листочек какой-то принесло ветерком, маленький глянцево зеленый, с приклеившейся паутинкой. Листочек этот прилип к Его одежде на груди. Я сел одним движением, также подтянув под себя привычно ноги, и тоже положил на колени руки.
"Вижу, выполнил ты порученное без лени" – сказал Он сухо и холодно – "Мысли твои Мне понятны, даже и в ошибочности некоторой. Ответь, почему ты встретил меня без испуга? Меня сейчас одновременно с тобой встретили несколько десятков людей разных возрастов и верований, и языков всех континентов вашего мира, который только из издёвки можно назвать "миром", а правильнее бы "войной". Многие несравненно выше тебя по умы, знаниям, образованности. Реакцией на встречу была паника, ужас, онемение, шок, восторг до идиотских воплей, прыжков и ужимок".
"Господин мой, но я ведь также в панике! Разве не видел ты, как я убежал, не чуя под собой ног!
"Бежал ты не с испуга, а от смерти и быстро оправился". Говоря, Он одновременно снял с себя листик, понюхал его, потянул мне: "Возьми его в рот, пожуй, но не глотай, а кашицей смажь веки и кожу под глазами. Ты не взял с собой очки, поэтому близкое видишь неясно, а кое-что и вообще не видишь."
Втирая в веки кашицу, я обдумывал ответ на сложный вопрос, и слушал Его слова одновременно: " У тебя сносный словарный запас. Ты много и внимательно слушал окружающих и немало читал, хотя и без всякой системы и осмысленной цели. Ты плохо составляешь фразы, но способен делать это лучше. У тебя есть возможность рассмотреть Меня и запомнить, и будет еще возможность, используй их. Постарайся подробно Меня описать. То, что сейчас происходит с твоим зрением не действие волшебства. Это знания. Я неплохой лекарь".
Глаза мои действительно стали видеть каждую травинку и букашку так же отчетливо, как в детстве. Я начал отвечать: "Увидел я, что душа из меня вышла и устремилась к тебе, и сразу понял, кто Ты. Я знаю, что без души человек умирает, поэтому думаю, тело и побежало от смерти своей!"
"Видишь, как глупо тело твое. Душа стремится ко мне, а тело от меня. Но ведь ты двигался, мыслил, значит, был жив. Значит, ты ошибался. Объясни, почему ты не принял меня за другого, Мне противоположного."
"Я, Господин мой, рано, еще в пору детских сказок, разуверился в чертовщине, дьявольщине, сатанизме и прочем бреде…
"Не встречал в жизни никого, кому бы они навредили. Вредили всегда другие люди. О желании продать душу дешево я слышал не раз, а о том, чтобы ее купили, не слышал. При этом пожелания продать были продуманными и искренними".
"А в Бога ты верил?"
"О Боге я не думал, вернее, старался не думать. Бог – понятие для меня непостижимое. Есть он или нет, судить не брался. Но в Бога, каким его рисовали в церкви, старца в облаках, с сиянием вокруг головы в кругу ангелов с крыльями, точно уж не верил. О Тебе же думал, что Ты жил и учил людей справедливости, что казнили Тебя, что потом о Тебе многое напридумывали, но что-то и истинное в книгах есть. А читал я об этом очень мало, только то, что дозволено было читать". Великий инквизитор" в "Братьях Карамазовых" потряс меня, и мне захотелось прочитать Библию, Новый завет, но я так и не читал их".
"Хотел бы, так нашел и прочитал. Но я тебя не осуждаю. Просто ты труслив, ленив, непредприимчив, как и народ, к которому ты принадлежишь".
"Уверен, Господин мой, что в "Великом инквизиторе" на самом деле Ты не молчал вовсе, говорил, но что Ты говорил, Федор Михайлович написать не решился".
"Догадлив, раб! Угадал верно, но воздержись от предположений. Знание лучше догадок. Ты узнаешь нечто, и дай Бог тебе сохранить разум и память, и смелость не умолчать. Пусть в этом поможет тебе Хранитель!"
Последнее слово-имя Он выделил интонацией, словно позвал, и рядом с Ним, там, где до ухода Он сидел, на стволе березы возникла как бы видящая расплывчатая некрупная человеческая фигура, с головой скрытой как бы туманным голубоватым покрывалом, и я услышал удивительно знакомый мне голос, произнесший четко:
"Я здесь, Господин, и исполню волю Твою!"
"Не сомневаюсь. Но продолжай, раб…"
Я пытался рассмотреть новую фигуру и не мог уловить ничего конкретного, даже не мог угадать, чей слышал голос, и это почему-то подействовало угнетающе. Дальше я говорил уже с заиканием, шепелявостью, проглатывая окончания слов, как-то бессвязно:
"Ты, Господин мой, спрашиваешь, почему не боюсь. Дело в том, что почему-то с детства ждал, что со мной непременно случится нечто странное, такое, что не случается с другими. Такое ощущение возникало хотя и не часто, но по несколько раз ежегодно, но ничего не случалось. Постепенно я притерпелся, привык, а уж сегодня я спросонок знал, что что-то произойдет. Поехал в эту сторону, хотя было разумнее поехать в другую, в Вялки, к родителям, жене, дочери. Они ждут, наверное, меня".
"Тебя еще кое-кто ждет…"
«Да, и здесь я виноват. Ждет меня со вчерашнего вечера тесть. Он парализован. Я в гонце недели помогаю ему мыться».
«Знаю, похвально, что делаешь ты это охотно и без брезгливости, жалеешь старика, но и от стопки водки, что можно считать платой, не отказываешься…»
«Грешен, Господин мой!»
«Не говори слова, истинного смысла которого не понимаешь. Просто –слабоволен, не воздержан… Теперь достаточно с тебя оправданий и объяснений. Я хоть и не люблю, так скажем, твоего наречья, который вы нахально и с самомнением зовёте «великим и могучим», разобрался в нём, и в твоих мыслях и мыслишках. А с помощью Хранителя сумею вложить в тебя нечто, что будет полезно и тебе самому и иным, о ком ты пока не подозреваешь…
Скажи мне, Хранитель, долго ли этот раб останется под твоим сбережением?»
«Срок определён до дня его шестидесятилетия, Господин. Он сможет жить и ещё, если сможет стать более осмотрительным, и хоть немного полюбит своё тело и умрёт от естественного износа почек, сердца, печени, мозга. Именно в этой последовательности. Сколько он проживёт после шестидесяти, от меня не зависит, а только от него самого.»
«Видишь, раб, до смерти тебе ещё далеко! Да, я знаю, твоё имя -Борис, это исковерканное от изначального Борух, а не от слова «борись». Произносить твоё имя буду правильно, но буду и рабом называть, дабы не забывал ты о месте своём.»
Тут он улыбнулся и развёл широко руки и затем левую, с крестиком, поднёс к моему лицу и я прикоснулся к нему сухими горящими губами и ощутил исходящее от него мягкое тепло и некий свет… А ОН после этого выдержал паузу и произнёс:
«Хранитель, расскажи рабу Боруху ему неведомое, но его касаемое.»
«Выполню, Господин! Родившие этого раба, которого назвал ты Борухом, в телесных утехах были не воздержаны, ребёнком уже отяготились, избегать зачатия ленились, от плодов нежеланных избавлялись. Скажу в утешение Боруху – не были они в этом особенными, подобных им в том отвратительном народе было много…»
«Уточни, Хранитель, ты сказал «от плодов»?
«Так, Господин. Они стали соучастниками четырёх умерщвлений».
«И здесь пришло время вмешаться тебе, Хранитель?»
«Не мне одному, Господин! Всем Хранителям, кому приходилось касаться этого несчастного народа рабов. Уничтожение младенцев в утробе стало массовым…Мы обратились к Всевышнему – ибо Он запрещает Хранителям общаться с власть имущими, оберегать их или корректировать их действия, и Всевышний позволил произвести некоторые подвижки в статистике и в подаче информации, и аборты были запрещены.»
«Что было далее, Хранитель?»
«От убитых младенцев остались четыре невоплощённые души, из ранее живших и умерших в разных поколениях предков. Души были готовы к искуплению в новых телах в том же мире, и по Его воле не были возвращены в жизни прошлые, как это случается, а ожидали жизни последующей. Лишь одна из них была прощена по убиению плода, а три другие присуждены были прожить очередную жизнь в одном общем теле. Смертному не положено знать, за какие именно проступки даётся такое наказание.»
«Да, я считал с тебя эту информацию, продолжай».
«Я принял необходимые меры для сбережения плода и здесь установил, что кроме трёх душ, о которых было сказано, Всевышний вложил в зародыш ещё одну душу, впервые воплощающуюся. Это обязало меня предпринять дополнительные действия по сбережению не только этого плода, но и не порученных моему попечению. О них Ты, Господин, также можешь сведения считать.»
«Я доволен тобой, Хранитель. Всевышний знает об этом!»
« Господин, надо ли смертному знать о нас?»
«Да, Хранитель! Люди в безудержности воображения нагромоздили столь запутанные клубки измышлений, что эти фантазии приобретают определённую силу и могут воздействовать на миллиарды смертных, а это противно воле Всевышнего!
В продолжении этого странного разговора я сидел в прострации, словно окаменев, и даже взгляд мой (я это чувствовал) остекленел. Я не видел перед собой ни леса, ни двух фигур, ни даже просто дневного света, а только клубилась передо мной два каких-то переливающихся шара, а между ними перелетали крупные синие искры. Но голоса я слышал очень явственно и интонации их, выражавшие оттенки чувств, вложенных во фразы, были очень даже человеческими.


