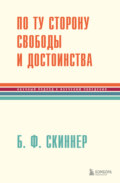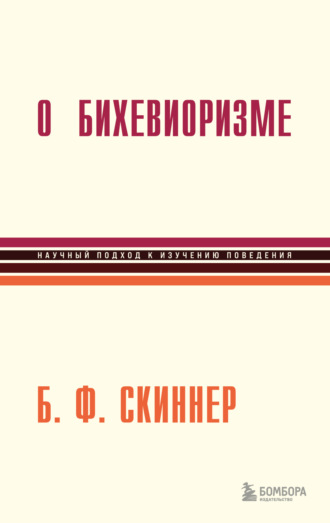
Беррес Фредерик Скиннер
О бихевиоризме
Выявление причин поведения
Вопрос «Что ты делаешь?» часто является просьбой о предоставлении дополнительной информации. Этот вопрос может быть задан человеку, который роется в коробке с мелкими предметами, и типичным ответом может быть: «Я ищу свой старый перочинный нож». Слово «рыться» описывает особый тип поведения; помимо определенной картины, оно подразумевает причину. Человек, который роется, ищет что-то, и его поиски прекратятся, когда это что-то будет найдено. Другой вопрос «Что ты ищешь?» сужает поле поиска, и «Мой старый перочинный нож» определяет искомый предмет, нахождение которого положит конец поведению. Следующий вопрос «Почему ты ищешь свой нож?» может привести к ответу: «Потому что мне он нужен», что обычно означает больше, чем «Потому что он нужен».
Более прямой вопрос о причинах – «Почему ты это делаешь?». И ответ на него обычно представляет собой описание чувств: «Потому что мне хочется». Такой ответ часто бывает приемлемым, но если вербальная общность требует чего-то другого, можно спросить: «Почему тебе хочется это сделать?» – и тогда ответом будет либо ссылка на другие чувства, либо (в крайнем случае) на внешние обстоятельства. Так, в ответ на вопрос «Почему вы передвигаете свой стул?» человек может сказать: «Плохое освещение» или «Чтобы книга лучше освещалась».
Подобные вопросы не всегда имеют правильный ответ, поскольку мы часто не знаем, почему мы ведем себя так, а не иначе. Несмотря на кажущуюся близость внутреннего мира, несмотря на преимущество, которым пользуется человек как наблюдатель своей личной истории, другой человек может знать больше о причинах его поведения. Психотерапевт, который пытается дать своему пациенту какой-то намек, вероятно, подчеркивает причинно-следственные связи, о которых его пациент еще не догадывается.
Когда мы не знаем, почему мы так себя ведем, мы склонны придумывать причины: «Я сделал это, значит, я должен был подумать, что это поможет». Возможно, что многие мифы – это не более чем придуманные причины суеверного поведения, кажущегося беспричинным, о чем пойдет речь в главе 8.
Объяснения поведения варьируются в зависимости от того, какие ответы принимаются вербальной общностью. Если достаточно простого «Мне так хочется», то ничего другого не последует. Фрейд оказал некоторое влияние на изменение типов ответов, которые часто давались на вопрос «Почему ты это делаешь?». Он делал акцент на чувствах, но допускал отсылки на личную историю. Экспериментальный анализ поведения обращается непосредственно к предшествующим причинам в окружающем мире.
Самопознание
Я всегда подчеркивал разницу между чувствами и сообщением о том, что человек чувствует. Мы можем считать, что чувства – это просто реакция на стимулы, но сообщение – это продукт особых вербальных условий, установленных обществом. Существует аналогичное различие между поведением и сообщением о том, как человек ведет себя или сообщает о причинах своего поведения. Организуя условия, в которых человек описывает открытый или личный мир, в котором он живет, общество порождает ту особую форму поведения, которая называется знанием. Реагировать на пустой желудок наполнением его пищей – это одно, знать, что человек голоден, – совсем другое. Передвигаться по пересеченной местности – это одно, а знать, что ты это делаешь, – совсем другое.
Самопознание имеет социальное происхождение. Только когда личный мир человека становится важным для других, он становится важным для него самого. Тогда он включается в управление поведением, называемым знание. Но самопознание имеет особую ценность для самого человека. Человек, который «познал себя» благодаря заданным ему вопросам лучше предсказывает и контролирует собственное поведение.
Бихевиористский анализ не ставит под сомнение практическую пользу описания внутреннего мира, который ощущается и интроспективно наблюдается. Описания являются подсказками (1) для прошлого поведения и повлиявших на него условий, (2) для текущего поведения и также повлиявших на него условий, и (3) для условий, связанных с будущим поведением. Тем не менее внутренний мир не является однозначно наблюдаемым или познаваемым. Я уже упоминал две причины, к которым мне еще не раз придется вернуться: при обучении самопознанию, во-первых, вербальная общность вынуждена довольствоваться весьма примитивными нервными системами и, во-вторых, оно не может полностью решить проблему приватности. Существует старый принцип, согласно которому ничто не меняется, пока разницы не видно, а в отношении событий во внутреннем мире вербальная общность эту разницу выявить не смогла. В результате остается место для спекуляций, которые на протяжении веков демонстрировали самое необычайное разнообразие.
Про Платона говорят, что он открыл разум, но точнее было бы сказать, что он изобрел одну из его версий. Задолго до него греки создали сложную объяснительную систему, причудливую смесь физиологии и метафизики. Чистый идеализм не заставил долго себя ждать, и он доминировал в западном мышлении более двух тысяч лет. Почти все его версии утверждают, что разум – это нефизическое пространство, в котором события подчиняются нефизическим законам. Сознание, о котором говорят в том смысле, что человек осознает себя, стало таким основным элементом западного мышления, что «все знают, что значит быть сознающим», а бихевиориста, который ставит этот вопрос, называют неискренним, будто он отказывается признать свидетельства своих чувств.
Даже те, кто настаивает на реальности умственной жизни, обычно соглашаются с тем, что прогресс со времен Платона был незначительным или же отсутствовал вовсе. Идеалистические теории подвержены изменениям моды, и, как и в истории моды или архитектуры, стоит только подождать достаточно долго, чтобы обнаружить, что прежние взгляды снова в тренде. У нас было «аристотелевское возрождение», и теперь говорится, что мы возвращаемся к Платону. Современная психология может утверждать, что она намного превзошла Платона в управлении средой, в которой происходит осознавание, но она несильно улучшила их доступ к самому сознанию, потому что не смогла усовершенствовать словесные условности, в которых чувства и состояния ума описываются и познаются. Достаточно взглянуть на полдюжины современных идеалистических теорий, чтобы убедиться, насколько разнообразными они продолжают оставаться.
Бихевиоризм, с другой стороны, продвинулся вперед. Пользуясь последними достижениями в экспериментальном анализе поведения, он более внимательно изучил условия, в которых люди реагируют на свой внутренний мир, и сегодня он может проанализировать один за другим ключевые термины в идеалистическом арсенале.
3
Врожденное поведение
Человек, как и все остальные биологические виды, – продукт естественного отбора. Каждый из представителей этого вида является чрезвычайно сложным организмом, живой системой, которую изучают анатомия или физиология. Такие процессы, как дыхание, пищеварение, кровообращение и иммунитет, изучаются отдельно, и среди них есть один, который мы называем поведением.
Поведение обычно связано с окружающей средой. Новорожденный устроен так: он поглощает воздух и пищу и выбрасывает отходы. Дыхание, сосание, мочеиспускание и дефекация – это то, что делает младенец, но то же самое относится и ко всем другим его физиологическим процессам/действиям.
Когда мы узнаем об анатомии и физиологии новорожденного достаточно, мы сможем точно сказать, почему он дышит, сосет, мочится и испражняется. Но в настоящее время мы должны довольствоваться описанием самого поведения и исследованием условий, при которых оно происходит – например, внешняя или внутренняя стимуляция, возраст или уровень депривации.
Рефлексы и освобожденное поведение
Один из видов связи между поведением и стимулами называется рефлексом. Как только это слово было придумано, под ним стали понимать лежащие в основе анатомию и физиологию, но они до сих пор изучены лишь приблизительно. В настоящее время рефлекс имеет исключительно описательную силу, он не является объяснением сам по себе. Сказать, что ребенок дышит или сосет, потому что у него есть соответствующие рефлексы, – значит просто отметить, что он это делает предположительно потому, что он так эволюционировал. Дыхание и сосание связаны с реакцией на окружающую среду, но их нельзя отличить ничем другим от остальной части пищеварения и респирации.
Когда рефлексы впервые начали изучать в изолированных частях организма, посчитали, что результаты оспаривают роль внутренних факторов поведения. Казалось, некоторые рефлексы, например, вытесняют Rückenmarkseele[8] («душ спинного мозга») – явление, защита которого ранее считалась атакой на анализ окружающей среды.
Поведение обычно связано с окружающей средой более сложным образом. Наглядные примеры можно найти среди низших видов. Ухаживание, спаривание, строительство гнезд и забота о потомстве – это то, что делают организмы, и опять же предположительно, благодаря тому, каким образом они эволюционировали. Поведение такого рода обычно называют инстинктивным, а не рефлекторным, и этолог скажет о среде как об «освобожденном» поведении, менее непреодолимом действии, чем рефлекторные реакции. Освобожденное, или инстинктивное, поведение также более гибко в адаптации к изменчивым особенностям среды, чем рефлекторное. Но сказать, что птица строит гнездо, потому что у нее есть инстинкт строительства гнезда или потому что определенные условия заставляют ее строить его, – значит просто описать факт, а не объяснить его. Инстинктивное поведение представляет собой более сложную задачу для физиолога, чем рефлекс, в настоящее время у нас мало подтвержденных фактов и мы можем только предполагать, какие системы могут быть задействованы.
Когда мы говорим, что стилист прозы обладает «инстинктом», который позволяет ему без раздумий судить о том, что предложение написано хорошо, мы имеем в виду лишь то, что он обладает определенным, глубоко укоренившимся поведением неясного происхождения. Говоря об инстинктах в целом, мы редко имеем в виду что-то большее, и, возможно, нет ничего плохого в том, чтобы использовать это слово таким образом, но во многих случаях этот термин стоит понимать куда шире. Рефлекс обычно описывается так: «Стимулы вызывают состояние напряжения, которое стремится к разрядке, приводя к расслаблению». «Каждый случай инстинктивного поведения, – писал Уильям Мак-Дугалл, англо-американский психолог, один из основателей социально-психологических исследований, – включает в себя знание о какой-то вещи или объекте, чувство по отношению к нему и тягу к этому объекту или от него». Чувства приписываются действующему организму, когда говорят, что мотыльку нравится свет, на который он летит, или пчелам – внешний вид и запах цветов, которые они часто посещают. Трудности, связанные с ключевыми терминами в предложениях такого рода – напряжение, разрядка, расслабление, знание, чувство, стремление и симпатия – будут рассмотрены в последующих главах.
ИНСТИНКТЫ КАК ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ. Более серьезная ошибка совершается при превращении инстинкта в силу. Мы едва ли будем говорить о силе, описывая тот факт, что организм переваривает пищу или вырабатывает иммунитет к болезни, но это понятие часто появляется при обсуждении взаимоотношений организма и окружающей среды. «Жизненная сила» Герберта Спенсера, «слепая воля к жизни» Шопенгауэра и élan vital Бергсона были ранними примерами приведения биологических процессов к более энергетическим и вещественным формам. Например, о élan vital говорили, что это «неутомимая сила, постоянно движущаяся вперед и вверх». Фрейд также рассматривал инстинкт как движущую силу; поведение, ведущее к опасности, плохому самочувствию или смерти, говорило о проявлении инстинкта смерти, в то время как поведение «на службе жизни» показывало инстинкт жизни, хотя наблюдаемый факт заключался лишь в том, что поведение могло иметь поддерживающие или разрушительные последствия.
Можно привести два примера, которые недавно привлекли большое внимание. Первый: когда организм ранен или ему угрожает опасность, он может напасть – например, ударить или укусить, – и, как я покажу далее, такое поведение может быть частью генетического наследия в той же степени, что и дыхание или пищеварение, но нет никаких причин утверждать, что организм нападает, потому что он обладает агрессивным инстинктом. Нападение – единственное свидетельство того, что у животного есть склонность к этому. Второй пример: некоторые виды защищают территорию, на которой они живут, и такое поведение, очевидно, обусловлено генетической наследственностью, но сказать, что организм защищает свою территорию из-за территориального императива или любого другого инстинкта, – значит просто сообщить, что этот вид склонен защищать свою территорию. (Выражение «генетическая обусловленность» само по себе опасно. Подобно рефлексам и инстинктам, оно имеет тенденцию объяснять свойства, не подкрепляя их доказательствами, и служить причиной, а не описывать эффекты естественного отбора, от которых таким образом отвлекается внимание.)
Теория естественного отбора Дарвина вошла в историю науки с большим опозданием. Задержалось ли ее распространение, потому что она противоречила истине того времени, или была совершенно новым предметом в истории науки, или применима только для живых существ, или потому что имела дело с целью и конечными причинами, игнорируя акт творения? Я думаю, что нет. Дарвин просто открыл роль отбора – вид причинности, сильно отличающийся от механизмов, существовавших в науке до того времени. Происхождение фантастического разнообразия живых существ можно было объяснить тем вкладом, который вносили в выживание новые признаки, возможно, случайного происхождения. В физической или биологической науке не было практически ничего, что показало бы, что для отбора существует причинность.
Хотя мы все еще многого не знаем об анатомии и физиологии, лежащих в основе поведения, мы можем представить процесс отбора, который сделал их частью генетического наследия. Допустимо сказать, что выживание зависит от определенных видов поведения. Например, если бы представители вида не спаривались, не заботились о потомстве и не защищались от хищников, вид бы не выжил. Экспериментально изучить эти «условия выживания» непросто, поскольку отбор – медленный процесс, но некоторые эффекты можно увидеть, наблюдая за видами, которые быстро созревают до возраста размножения, и тщательно подбирая условия отбора.
Условия выживания часто описываются терминами, предполагающими другой вид причинной связи. Примером может служить «давление отбора». Отбор – это особый вид причинности, который неверно было бы представлять как силу или, собственно, давление. Сказать, что «не существует очевидного давления отбора на млекопитающих, объясняющего высокий уровень интеллекта, достигнутый приматами», – значит утверждать, что трудно представить себе условия, при которых чуть более интеллектуальные представители вида имели бы больше шансов выжить. (Кстати, неверно и предположение, что «давление» оказывается в основном со стороны других видов. Выживание может почти полностью зависеть от «конкуренции» с самой окружающей средой, в которой разумное поведение явно предпочтительнее.)
Обстоятельства выживания легче спрогнозировать, если в них повышается вероятность выживания и размножения особи, а условия остаются неизменными на протяжении длительного периода времени. Условия внутри организма обычно подходят для выживания и размножения, а некоторые особенности внешней среды, такие как циклы дня и ночи, времена года, температура или гравитационное поле, являются долговременными. Другие представители того же вида – это также своего рода условия, и именно поэтому этологи придают большое значение ухаживанию, сексу, родительской заботе, социальному поведению, игре, подражанию и агрессии. Но трудно представить условия отбора, которые смогли бы подтвердить тезис о том, что «принципы грамматики присутствуют в сознании при рождении». Вряд ли грамматическое поведение могло быть достаточно важным для выживания в течение достаточно долгого времени, чтобы считать его результатом отбора. Как я еще раз отмечу позже, вербальное поведение могло возникнуть только тогда, когда необходимые компоненты уже развились по другим причинам.
Подготовка к новым условиям
I: РЕСПОНДЕНТНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ[9]
Если окружающая среда существенно меняется от поколения к поколению, условия выживания не могут обеспечить нужное поведение. То есть эволюционировали конкретные механизмы, благодаря которым индивид приобретает поведение, соответствующее новой среде, в течение своей жизни. Относительно простым примером является условный рефлекс. Определенные сердечные рефлексы поддерживают сильное напряжение, например, при бегстве от хищника или борьбе с ним; и то, что сердце реагирует до начала бега или борьбы, скорее является преимуществом. Но хищники различаются по внешнему виду, и только благодаря респондентному обусловливанию конкретный вид может вызвать подходящий сердечный рефлекс до начала бега или борьбы.
Условный рефлекс сам по себе имеет не больше объяснительной силы, чем безусловный или врожденный. Сердце бегуна начинает биться сильно и быстро непосредственно перед бегом не из-за условного сердечного рефлекса; рефлекс – это просто способ указать на тот факт, что оно начинает биться быстро. Бегун изменился, когда ситуация в начале забега сопровождалась сильным напряжением, и как изменившийся организм он ведет себя по-другому. Такую перемену просто удобно идентифицировать как «приобретение условного рефлекса».
Как мы указываем на условия выживания для объяснения врожденного рефлекса, так мы можем указать на «условия подкрепления» для объяснения условного. Рефлекторные явления, условные и безусловные, конечно известны уже много веков, но условия выживания и условия подкрепления были исследованы лишь недавно.
ВНУТРЕННИЕ ДОПОЛНЕНИЯ. Условный рефлекс – это простой принцип ограниченного применения, описывающий некоторые простые факты, но для его объяснения было придумано множество внутренних состояний и действий, сравнимых с движущей силой инстинктов. Говорят, что сердце бегуна учащенно бьется перед началом забега, потому что он «ассоциирует» ситуацию с последующим напряжением. Но именно окружающая среда, а не бегун, «ассоциирует» эти две вещи, в этимологическом смысле связывая или объединяя их. Бегун также не «формирует связь» между двумя вещами, связь устанавливается во внешнем мире. Об условных реакциях также говорят, что они происходят в «предвкушении» или в «ожидании» привычных последствий, а об условном стимуле говорят, что он функционирует как «знак», «сигнал» или «символ». Я вернусь к этим выражениям позже.
II: ОПЕРАНТНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ
Совсем другой процесс, благодаря которому человек эффективно справляется с новой средой, – это оперантное обусловливание. Пища и вода, сексуальные контакты и защита от вреда имеют решающее значение для выживания особи и вида, и любое поведение, обеспечивающее их приобретение, имеет ценность. В процессе оперантного обусловливания поведение, помогающее достичь желаемого, становится более вероятным. Говорят, что поведение подкрепляется его последствиями, и по этой причине сами последствия называются «подкрепляющими факторами». Таким образом, когда голодный организм демонстрирует поведение, приносящее пищу, это поведение подкрепляется таким последствием и поэтому с большей вероятностью повторится. Поведение, убирающее потенциально опасное состояние, например экстремальную температуру, подкрепляется этим последствием и поэтому имеет тенденцию повторяться в подобных случаях. Этот процесс и его следствия привели к появлению большого количества концепций ментализма, многие из которых будут рассмотрены в следующих главах.
Стандартное различие между оперантным и рефлекторным поведением заключается в том, что одно из них видится добровольным, а другое – недобровольным.
Считается, что оперантное поведение находится под контролем человека, демонстрирующего его, и традиционно приписывается волевому акту. Рефлекторное поведение, с другой стороны, не находится под сопоставимым контролем и даже приписывается внешнему воздействию, например одержимости духами. Чихание, икота и другие рефлекторные действия когда-то приписывались дьяволу, от которого в английском языке до сих пор защищают чихнувшего друга, говоря: «God bless you!»[10] (Монтень отмечал, что он крестился, даже когда зевал.) Когда же незримого захватчика не предполагается, такое поведение просто называют автоматическим.