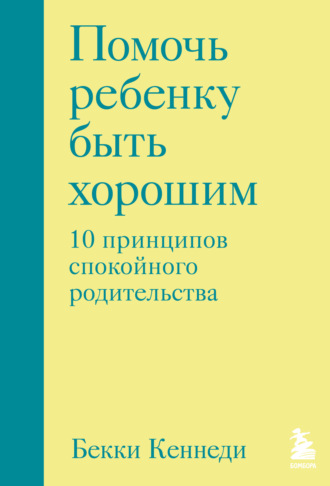
Бекки Кеннеди
Помочь ребенку быть хорошим. 10 принципов спокойного родительства
Теория привязанности
Дети появляются на свет с врожденной «привязанностью» к опекунам. Психолог Джон Боулби, сформулировавший эту теорию в 70-е годы ХХ века, описывал привязанность как систему близости: дети, которые понимают, как удержать субъект привязанности рядом с собой (в буквальном, физическом смысле), с большей вероятностью получают утешение и защиту и, следовательно, повышают шансы на выживание. Те, кто оказываются на большем отдалении от субъекта привязанности, недополучают утешение и защиту и снижают шансы на выживание. Как писал Боулби, привязанность – это не просто нечто «приятное», а первичный эволюционный механизм – именно через привязанность ребенок может удовлетворить базовые потребности: в пище, воде, эмоциональной безопасности. Теория привязанности утверждает: дети инстинктивно тянутся и привязываются к тем, кто обеспечивает им необходимый для выживания комфорт и безопасность.
Дети создают привязанности разного типа, основанные на раннем опыте общения с опекунами. Тип привязанности формирует внутреннюю рабочую модель ребенка – мысли, воспоминания, убеждения, ожидания, эмоции и поступки, которые влияют на его взаимодействие с собой и другими и на тип отношений, к которым он будет стремиться в дальнейшей жизни. Внутренние рабочие модели основываются на том, что ребенок через личные взаимодействия узнает об отзывчивости опекунов, их доступности, постоянстве, восстановлении и реакциях. Дети фильтруют взаимодействия через ряд вопросов: Достоин ли я любви и достаточно ли хорош, чтобы со мной хотели общаться? Увидят ли меня и услышат ли? Чего ожидать от окружающих в трудные моменты жизни? Чего ожидать от окружающих, когда я расстроен? Чего ожидать, когда мы не согласны друг с другом? Дети отвечают и делают обобщения относительно того, кем им позволено быть, и как устроен мир. Нам кажется, будто мы просим детей выключить телевизор или не позволяем ложиться спать поздно, однако их такая конкретика не волнует, в отличие от того, безопасно ли в рамках данных отношений иметь желания и чувства, которые ведут к трудным моментам.
Помните: дети учатся динамике отношений, находясь в отношениях с нами, родителями.
Дети полностью зависят от нас и отлично это знают. Поэтому они собирают данные об окружающей среде, а затем настраиваются с тем, чтобы усилить привязанность и держать родителей максимально близко. То есть наше поведение – реакция на потребности детей, какие их эмоции подтверждаем, насколько мы доступны для них, восстанавливаем или нет отношения с ними после трудных моментов, насколько стабильны наши реакции – влияет не только на семью: воздействие ощущается и за ее пределами.
Очень важный момент: дети подстраиваются под раннюю среду, формируя ожидания от мира на основе полученных данных. Эта «настройка» влияет на их восприятие самих себя и других даже во взрослой жизни. Теперь рассмотрим несколько примеров, как ранние взаимодействия становятся более обобщенными «уроками привязанности». Конечно, обобщения строятся не на единичном взаимодействии, а на предположении, что такие моменты отражают определенный паттерн взаимодействия.
ПОВЕДЕНИЕ: Родитель ведет ребенка в школу, а тот начинает плакать.
ПОВЕДЕНИЕ: Ребенок хочет мороженое на завтрак и устраивает настоящую истерику.
Родительская реакция № 1: «Перестань плакать! Ты уже не маленький!»
Урок привязанности № 1: В моменты уязвимости надо мной смеются и меня не замечают. В близких отношениях уязвимость демонстрировать нельзя – это небезопасно.
Родительская реакция № 2: «Сегодня трудно расстаться. Я понимаю. Иногда такое бывает. Я точно знаю, что в школе тебе будет хорошо. Мы оба знаем, что папа всегда возвращается. Встретимся после уроков, я тебя заберу».
Урок привязанности № 2: Я могу рассчитывать, что другие воспримут мои чувства всерьез. Когда мне тяжело и плохо, мои чувства признают и поддержат. В близких отношениях демонстрировать уязвимость вполне безопасно.
Родительская реакция № 1: «Пока ты не успокоишься, я не буду с тобой разговаривать. Иди в свою комнату и возвращайся, когда будешь вести себя нормально!»
Урок привязанности № 1: Когда я чего-то хочу, люди сторонятся меня, я плохой, меня бросают, я остаюсь в одиночестве. Люди хотят быть со мной, когда я послушен и спокоен.
ПОВЕДЕНИЕ: Ребенок не спешит присоединиться к другим детям на празднике и цепляется за мать.
Родительская реакция № 2: «Понимаю, милый. Ты хотел получить мороженое на завтрак. Но сейчас это невозможно. У тебя есть все основания огорчаться».
Урок привязанности № 2: Я могу желать чего-то для себя. В близких отношениях это позволительно и нормально.
Родительская реакция № 1: «Ты же всех здесь знаешь! Ну же! Нечего бояться!»
Урок привязанности № 1: Своим чувствам доверять нельзя, они смешны и неуместны. Другие лучше знают, что я должен чувствовать.
Родительская реакция № 2: «Да, здесь неуютно. Я тебя понимаю. Не торопись. Ты сам поймешь, когда будешь готов».
Урок привязанности № 2: Я могу доверять своим чувствам. Можно проявлять осторожность. Я знаю, что чувствую, и могу рассчитывать, что окружающие будут уважать и поддерживать меня.
С первых дней жизни дети понимают, что ведет к близости, а что – к дистанцированию, и корректируют поведение, чтобы упрочить надежную привязанность.
По каждой первой родительской реакции (полагая, что это является общим паттерном взаимодействий) ребенок осознает: определенные чувства угрожают привязанности. Тогда ребенок начинает подавлять их через механизм стыда и самоуничижения, поскольку от этого зависит его выживание. По вторым родительским реакциям (опять же полагая, что это общие паттерны взаимодействия) ребенок понимает: его чувства реальны и ценны, проявлять их в близких отношениях можно. Хочу сразу сказать: вторые реакции не ведут к мгновенному разрешению проблем. Слезы и крики не смолкают немедленно и навсегда. Однако произойдут две вещи. Вы заметите краткосрочное преимущество, поскольку ребенок овладеет навыками управления эмоциями, что поможет ему справляться с разочарованиями. И долгосрочные преимущества появятся, потому что вы помогаете ребенку обретать доверие к себе, принятие себя и открытость в отношениях с окружающими. Стыд же, самоуничижение и защитная позиция остаются в прошлом.
Идем дальше.
Прошли десятилетия, а внутренняя рабочая модель и система привязанностей этого ребенка все еще основывается на том, чему он научился из общения с родителями. Только теперь он применяет эту информацию в других близких отношениях. Он может думать: «Моя уязвимость в близких отношениях нежелательна. Я должен полагаться только на себя». Или: «Мне нельзя ни о чем просить, если я не уверен, что другой человек даст мне это. Подобное необходимо для ощущения безопасности и комфорта в отношениях». Если хотим, чтобы дети искали отношений, где можно уравновесить зависимость и независимость, где можно чувствовать близость к другим, но не «терять» себя, где можно говорить о собственных слабостях и получать поддержку, то над этим нужно работать в ранние годы. Чем спокойнее и увереннее ощущает себя ребенок рядом с родителями, чем шире диапазон его чувств в этих отношениях, тем стабильнее и гармоничнее будут его отношения во взрослой жизни.
Как создать надежную привязанность сейчас, чтобы дети смогли повторить такие отношения впоследствии? В целом можно сказать, что отношения с родителями, построенные на основе отзывчивости, теплоты, предсказуемости и возможности восстановления в трудной ситуации, дают надежную основу. Ребенок, который видит в родителях надежную основу, чувствует себя в безопасности, знает, что «есть кто-то, кто заступится и утешит, если что-то случится». Это позволяет без страха исследовать мир, пробовать новое, рисковать, терпеть неудачу и не бояться собственных слабостей. В этом скрыт важный парадокс: чем сильнее можно положиться на родителей, тем выше наша любознательность и готовность к риску. Чем сильнее мы верим в надежные отношения с родителями, тем выше наша уверенность в себе.
Иначе говоря: зависимость и независимость – не всегда противоположности. Напротив, одно позволяет другое – оба состояния справедливы! Чем сильнее дети чувствуют возможность зависеть от родителей, тем более независимыми становятся. Уверенность, что нас поймут, не осудят, поддержат и утешат в трудную минуту, позволяет стать уверенными в себе, смелыми и решительными взрослыми.
Внутренние семейные системы
Внутренние семейные системы (ВСС) – это терапевтическая модель, включающая различные части человека. Это противоположность модели, в которой человек воспринимается единым целым. Основная идея ВСС в следующем: природу разума можно разделить на части, то есть субличности. Возьмите, к примеру, себя. Может, вы общительны с теми, кого хорошо знаете, но замкнуты в незнакомой среде. Может, вы способны постоять за себя, когда необходимо, но отступаете в тень, если роль лидера берет кто-то другой. Может, вы уверены в себе в профессиональной среде, но стеснительны в социальной. Вы можете быть смелым, тревожным, уверенным, сдержанным. Вы многогранны, а не единообразны. И ни одна грань не лучше и не хуже другой – вы сумма этих граней. Чем лучше вы себя чувствуете, когда одна из граней «барахлит», тем легче справляться с самыми разными ситуациями. Уверенность, стойкость и самостоятельность зависят от способности это понимать. Когда мы подавлены и просто реагируем на ситуацию, это почти всегда связано с тем, что верх берет какая-то одна грань. Мы теряем ощущение идентичности и «становимся» своими чувствами.
Понятие «частей» позволяет сформулировать (внутренне и внешне) конфликтующие (или хотя бы сосуществующие) эмоции: чувствовать уверенность в состоянии стресса, концентрацию во время конфликта, гнев параллельно с сознанием, что мы хорошие люди. В частной практике я постоянно замечаю: понятие «частей» дает взрослым клиентам свободу, сочувствие, облегчение и способность справляться с трудностями. Убедившись, насколько это эффективно, я стала использовать то же с детьми. Я хочу внедрить в их разум идею: ощущения, чувства и мысли – это части, с которыми мы можем связываться, а не жизненный опыт, который нас захватывает и поглощает.
Рассматривая ВСС и теорию привязанности в тандеме, мы более глубоко понимаем раннее развитие детей. Теория привязанности утверждает, что дети должны учиться привязываться к родителям, чтобы выжить и удовлетворить потребности. В результате они рассматривают среду сквозь призму вопроса: «Что максимально повышает шансы на выживание?» При совмещении этого с идеей ВСС, вопрос предстает в следующей формулировке: «Какие части меня получают связь, внимание, понимание и принятие? Я должен уделять им больше внимания, ведь это усиливает привязанности и, следовательно, шансы на выживание! Эти мои части хороши, управляемы и способствуют сближению с другими. Они – источник связи. А какие мои части ведут к разъединению и отдалению? Их следует подавлять, поскольку они угрожают привязанности и, следовательно, выживанию. Эти части плохи и неприятны, их нельзя любить. Они мешают связи».
Дети усваивают подобные «уроки» в процессе взаимодействия с родителями – не через слова, конечно, а через опыт. Дети видят, что вызывает у родителей улыбки, вопросы, объятия и принятие (т. е. «Ты можешь это чувствовать. Расскажи мне об этом. Я здесь, я рядом, я слушаю»), а что ведет к наказанию, отверженности, критике и отдалению (т. е. «Иди в свою комнату! Немедленно! Когда ты такой, я не буду рядом с тобой!»). Как пишет создатель ВСС, психолог Ричард Шварц: «Дети в процессе развития склонны переводить опыт в идентичность: “меня не любят, потому что меня нельзя любить, а все плохое случается со мной, потому что я плохой”. Иными словами, дети ощущают опыт общения с опекунами и формируют важные сигналы о самих себе. Эмоции, с которыми родители ощущают связь, – те, которые их интересуют и сближают, – говорят детям, что те части, которые чувствуют эти чувства, хороши, достойны и заслуживают любви. Но есть эмоции, которые взрослые подавляют, наказывают, отвергают или пытаются перевести в нечто “более приятное”. Дети усваивают: те части, которые чувствуют такие чувства, деструктивны, дурны, не заслуживают любви и неприемлемы».
Вот почему важно отличать поведение от лежащих в его основе чувств и опытов. Да, необходимо сдерживать ребенка, когда тот не слушается и демонстрирует «плохое поведение». Однако не менее важно понимать, что за этим поведением стоит ребенок (или, на языке ВСС, часть ребенка), которому больно, у которого есть неудовлетворенные потребности и которому необходима связь. Дети истолковывают наше общение с ними не как реакцию на конкретный момент, но как сигнал о том, какими они должны быть. И если ваш ребенок говорит: «Я ненавижу своего младшего брата! Верните его назад, в больницу!», а вы начинаете кричать: «Не говори так про брата, ты его любишь!», ребенок усваивает урок. И он не в том, что произнесенные слова неприличны, а в том, что ревность и гнев – опасные эмоции, иметь которые нельзя. Вот почему важно отделять поступки ребенка (они могут быть «дурными») от самого ребенка (добрый внутри). Конечно, мы не хотим, чтобы дети дрались (поступок), при этом наверняка желая, чтобы у детей было право чувствовать гнев (чувство). Мы не хотим, чтобы дети устраивали истерики в магазинах (поступок), но хотим, чтобы они имели доступ к желаниям и право высказываться (чувства). Мы не хотим, чтобы дети ели на обед только мюсли (поступок), зато жаждем, чтобы они знали, что являются хозяевами собственных тел и могут чувствовать, что для них хорошо (чувства).
Если не поймем чувств, стоящих за поведением, и не покажем любовь, даже когда дети ведут себя неправильно, в их разуме поступки и чувства сольются воедино: они решат, будто надежность привязанности зависит от отказа от чувств, стоящих за поведением, а это приведет к серьезным и длительным проблемам отношений.
Поэтому повторю: ранние годы очень важны. Они готовят детей к тому, чтобы стать уверенными, независимыми, самостоятельными взрослыми, способными на здоровые межличностные отношения… или не стать. Конечно, не нужно воспринимать мои слова как абсолютную истину – развивать эти качества можно на любом этапе жизни. Но в мучительные моменты воспитания непослушного малыша, когда начинаешь сомневаться, а стоят ли затраченные усилия того (ведь воспитание маленького ребенка – тяжелая работа!), знайте: они того стоят! Ваша работа всегда, всегда стоит того!
Глава 5
Никогда не поздно
Чаще всего я слышу от родителей такой вопрос: «А не слишком ли поздно?» И всегда отвечаю: «Нет!» Это действительно так!
Родители часто настаивают: «Моему ребенку уже три, а я слышала, что первые три года самые важные», «Моему сыну восемь, мне кажется, он уже слишком взрослый», «Моей дочери шестнадцать, и я чувствую, что упустила свой шанс». Иногда я слышу даже такое: «Я уже бабушка и чувствую, что своих детей нужно было воспитывать иначе… Уже слишком поздно, да?» Хочу повторить: «Нет!» НЕТ. Никогда не поздно восстановить отношения с детьми и изменить траекторию их развития. И для вас не слишком поздно. Не слишком поздно понять, какие ваши части нуждаются в восстановлении. Взрослые могут перенастроить себя и изменить траекторию собственного развития. Не слишком поздно. Никогда, никогда не бывает слишком поздно.
Вопрос в том, как мы воспринимаем новые идеи, как относимся к изменению самих себя и своего поведения, как вырабатываем добрые чувства к самим себе. Все это лежит в основе моего подхода к родительству. Как изучить, восстановить и изменить стратегию продвижения вперед сначала для себя, а потом для детей? Как справиться с чувствами вины и сожаления, возникающими при мысли о том, как мы в прошлом справлялись с собственными чувствами и поступками? Управление чувством вины во многом связано с переменами на любом этапе жизни. Но, учитывая, как сильно мы любим детей и как мечтаем быть хорошими родителями, чувства, связанные с воспитанием, особенно сильны.
Родительство – это не душевное стремление. Это невероятно трудная работа, требующая (что очень важно!) самокопания, готовности учиться и развиваться. Я часто думаю, что родительство – это упражнение развития и роста. Когда появляются дети, мы открываем множество истин о самих себе, своем детстве, отношениях с родителями и родственниками. Хотя эту информацию можно использовать для обучения, отвыкания, нарушения циклов и исцеления, мы должны делать это, одновременно заботясь о детях, справляясь с их истериками, страдая от недосыпа и чувствуя невероятную усталость. Это тяжело. Может быть, сейчас мы вместе признаем: это страшно тяжело. Положите руку на сердце и скажите: «Я одновременно работаю над собой и забочусь о своей семье. Я пытаюсь перенастроить паттерны, пагубные для меня, и стараюсь с самого начала настроить детей на принятие самих себя и стойкость. Вау! Я столько делаю!!!»
Надеюсь, вы будете перечитывать эту главу снова и снова, особенно когда чувство вины начнет просыпаться, а надежда – угасать («Это я во всем виновата», «Я навсегда испортила жизнь ребенку!», «Наша семья никогда не изменится!»). Этот раздел поможет вам прийти в себя и вспомнить, что перемены и восстановление всегда возможны.
Способность мозга к перенастройке
Вот две истины: мозг настраивается очень рано и обладает удивительной способностью к перенастройке. Способность мозга переобучаться и трансформироваться при необходимости адаптации называется нейропластичностью. Мозг продолжает развиваться всю жизнь. Тело должно защищать человека, поэтому, если мозг считает, что старый образ бытия нам более не полезен, он усваивает новые паттерны, убеждения и системы обработки и реагирования на информацию. Да, с возрастом становится труднее – чем мы старше, тем упорнее и настойчивее приходится трудиться над переменами. Однако и старую собаку можно научить новым трюкам.
Развивающийся мозг ребенка настраивается в контексте отношений с родителями. Развитие средней префронтальной коры – части мозга, отвечающей за регулирование эмоций, когнитивную гибкость, эмпатию и связь – происходит под влиянием привязанности к опекунам. Другими словами, самые ранние опыты ребенка серьезно влияют на развитие мозга. Но из научных данных мы знаем, что привязанность – это не судьба. Человек, настроенный на нестабильную привязанность, способен перенастроить себя иным образом. Психолог Луис Козолино так сформулировал роль терапии в процессе нейропластичности: стабильная привязанность к одному терапевту может привести к перенастройке мозга, что поспособствует улучшению регулирования эмоций и повышению навыка справляться со стрессом. Этот принцип можно отнести к семье, поскольку, как нам известно, родители способны развивать более стабильную привязанность с детьми. Когда они готовы меняться, готовы восстанавливать отношения и вместе размышлять о прошлых событиях, вызывающих у ребенка негативные чувства, мозг ребенка может меняться.
Мозг обладает удивительной способностью к обучению. Ученые установили: мозг меняется в ответ на условия среды. Невролог Мариан Даймонд в начале 70-х годов установила, что в скудной среде мозг сжимается, а разнообразная, богатая среда развивает его. Меняется среда – меняется и мозг. Недавнее исследование подтвердило данный эффект в контексте родительства. Ученые рассматривали влияние родительских программ, направленных на детей в возрасте от 2 до 11 лет. Они установили: когда вмешательства соответствуют возрасту конкретного ребенка, родительские программы имеют равную эффективность. Они в равной степени способствовали развитию новых навыков как у старших детей, так и у малышей. Этот вывод вселяет надежду. Вспоминайте о нем, когда будете думать, что «все испортили». Касательно времени родительских изменений и вмешательств авторы исследования пишут: «Очень важно, чтобы наши открытия не использовались для отсрочки вмешательства, поскольку иначе дети и семьи будут страдать дольше. Со всем уважением к обычным родительским вмешательствам для решения поведенческих проблем детства мы считаем, что подход “чем раньше, тем лучше” следует заменить другим: “никогда не рано, никогда не поздно”».
Поскольку родители – главнейшая часть детской среды, неудивительно, что, когда меняется родитель, меняется и настройка ребенка. Исследования показывают: часто для решения проблем детей терапия нужна не им, а их родителям. Именно она ведет к самым значительным переменам в детях. Это очень важное исследование, так как оно показывает, что поведение ребенка, то есть выражение его паттернов регулирования эмоций, развивается в соответствии с эмоциональной зрелостью родителей. Толковать эти данные можно двояко. Первое толкование: «О нет, я порчу жизнь ребенка, ведь я сама испорчена. Я хуже всех!» Но есть и другое, более оптимистическое и полезное: «Вау! Это потрясающе! Если я смогу справиться с собственными способностями по регулированию эмоций (а это всегда полезно!), изменится и мой ребенок! Это вселяет надежду!»
Я всегда говорю родителям: «Проблемы ребенка – это не ваша вина. Но именно вы, взрослые члены семейной системы, должны изменить среду так, чтобы ребенок мог учиться, развиваться и расти. Его мозг настраивается в соответствии с нашим взаимодействием с ним. Теперь мы это знаем. Если продолжать поступать одинаково снова и снова, закрепляются уже сформированные паттерны. А если мы размышляем, развиваемся и пробуем новое, сами растем и меняем отношение к детям, мы помогаем и детям формировать новые связи, одновременно помогая себе. Вот почему вы пришли ко мне. Вы смелы и отважны, вы можете размышлять, развиваться и пробовать новое. Поэтому я помогу вам. У меня нет готовых ответов. Мне самой свойственна тревожность. Порой я реагирую, не думая. Однако я считаю себя членом потрясающего общества вечных студентов, разрушающих порочный круг».


