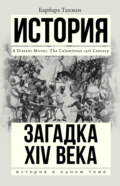Барбара Такман
Европа перед катастрофой. 1890-1914
Но и в Америке Мост продолжал печатать бунтарские воззвания. Публикации в газете «Фрайхайт» один читатель сравнил с «потоками лавы, извергающими сарказм, злобу, ненависть… и возбуждающими дух мятежа и неповиновения». Поработав какое-то время на заводе взрывчатки в Джерси, Мост опубликовал руководство по изготовлению бомб, а на страницах «Фрайхайт» разъяснял, как пользоваться динамитом и нитроглицерином. Его целью, как он сам говорил, по-прежнему было готовить человека к разрушению «существующего порядка» неустанным революционным действием. Большинство людей не придают никакого значения восьмичасовому рабочему дню. Если же проблема восьмичасового рабочего дня, эта, по его выражению, «чертова канитель», будет решена, то нововведение послужит ширмой, отвлекающей массы от главной задачи: борьбы против капитализма за построение справедливого общества.
В 1890 году Мосту исполнилось сорок четыре года. Он был среднего роста, густая и уже седеющая шевелюра венчала массивную голову, нижнюю часть которой уродовала смещенная влево челюсть. Он говорил настолько резко, злобно и страстно, что люди забывали о его безобразной внешности. Одной женщине на митинге его голубые глаза показались «привлекательными», и она почувствовала, как от него «исходит не только ненависть, но и любовь».
Эмме Гольдман, еврейке, недавно эмигрировавшей из России, шел тогда двадцать второй год. Она отличалась бунтарством и легко возбудимой натурой, и Мост ей очень понравился. Ее сопровождал Александр Беркман, тоже русский еврей, но живший в Соединенных Штатах уже почти три года. Гонения в России и бедность в Соединенных Штатах пробудили в них горячие революционные чувства. Анархизм стал их кредо. В Америке Эмма вначале работала швеей на фабрике, трудилась по десять с половиной часов в день и получала за это два с половиной доллара в неделю. Комнату она снимала за три доллара в месяц. Беркман происходил из более зажиточной семьи, которая могла платить слугам и отправить его в гимназию. Но на них навалились экономические невзгоды; любимого дядю с революционными наклонностями арестовали жандармы, и они его больше никогда не видели; Сашу (Александра) исключили из школы за нигилистские и атеистические сочинения. Теперь ему было двадцать лет, он обладал «шеей и грудью гиганта», высоким умным лбом, интеллигентной внешностью и суровым взглядом. После «страшных переживаний» от грозных речей Моста Эмма нашла «успокоение» в объятиях Саши, а впоследствии повышенная возбудимость привела ее и в объятия Моста. Их мирное сосуществование ничем не отличалось от аналогичных буржуазных тройственных альянсов.
В июне 1892 года забастовал профсоюз сталелитейщиков в Хомстеде штата Пенсильвания, протестуя против снижения зарплат владельцами сталелитейного завода Карнеги. Компания урезала зарплаты, стремясь задавить профсоюз, и, предвидя неизбежные схватки, распорядилась соорудить крепостной забор с колючей проволокой, ограждавший цеха, где должны были работать штрейкбрехеры, нанятые агентством Пинкертона. Филантроп Эндрю Карнеги благоразумно уехал на лето ловить лосося в Шотландии, поручив управляющему Генри Клею Фрику бороться с союзом рабочих. Трудно было найти менее компетентного и подходящего для этого человека. Необычайно благовидный мужчина сорока трех лет с черными усами и такой же черной бородкой, сдержанными манерами и взглядом, который мог внезапно приобрести «стальное выражение», происходил из весьма состоятельной пенсильванской семьи. На нем всегда был дорогой темно-синий костюм в полоску, он не признавал украшений и однажды, страшно возмутившись карикатурой, напечатанной в питсбургской газете «Лидер», приказал секретарю: «Это недопустимо. Это совершенно непозволительно. Узнайте, кто владеет газетой, и купите ее».
5 июля предстояло привезти штрейкбрехеров, нанятых Фриком. Когда их на бронированных баржах доставили через реку Мононгахела и уже собрались высаживать, забастовщики напали на них, обстреливая из самодельной пушки, ружей, взрывая динамит и поливая горящей смолой. В схватке погибли десять человек, несколько человек получили ранения, но истекающим кровью и одержавшим победу рабочим удалось прогнать из завода пинкертонов. Губернатор Пенсильвании выслал восьмитысячное войско милиции, вся округа была взбудоражена, а Фрик, пренебрегая смертями и протестами, выпустил ультиматум, заявив об отказе вести переговоры с профсоюзом и пригрозив уволить и выселить из домов всех, кто не вернется к своим рабочим местам.
«Хомстед! Я должен быть в Хомстеде!» – вскричал Беркман, когда Эмма пришла с газетой в руке. Наступил долгожданный «психологический момент для действия… Вся страна поднялась против Фрика, и удар, нанесенный ему, привлечет внимание всего мира». Рабочие бастуют не только ради себя, но и «во имя будущего, свободы, торжества анархизма», хотя сами сталелитейщики, конечно, даже и не догадывались об этом. Пока они действуют «в мятежном ослеплении», но Беркман придаст их борьбе новый смысл, «обогатит идеями анархизма, которые привнесут в мятеж революционное содержание». Избавление от тирана – оправданный акт борьбы «за свободу, лучшую жизнь и новые возможности для угнетенного народа». «Величайший долг» и «испытание для каждого революционера» – умереть за эти благородные цели.
Беркман поездом приедет в Питсбург и убьет Фрика, но доживет до того времени, когда «докажет на суде правоту своего деяния». А потом, уже в тюрьме, он «умрет по своей воле, как Лингг».
23 июля он действительно появился в офисе Фрика, предъявив визитную карточку, на которой значилось: «Агент по занятости. Нью-Йорк». Фрик в это время разговаривал с вице-президентом Джоном Лейшманом. Беркман вынул револьвер и выстрелил. Первая пуля ранила Фрика в шею с левой стороны. Он выстрелил снова и ранил управляющего в шею с правой стороны. Когда Беркман стрелял в третий раз, Лейшман успел ударить по руке, и тот промахнулся. Фрик, истекая кровью, поднялся и накинулся на Беркмана вместе с Лейшманом, анархист упал, увлекая за собой обоих. Он все же смог освободить одну руку, вынуть из кармана кинжал и семь раз ударить Фрика, прежде чем его оттащили подоспевшие полицейские с помощником шерифа 36.
«Дайте мне взглянуть на его лицо», – шепотом попросил Фрик, побледневший и окровавленный. Шериф вздернул голову Беркмана за волосы, и Фрик посмотрел в глаза своему палачу. В полицейском участке на теле Беркмана (по другим сведениям, во рту) нашли две капсулы гремучей ртути, точно такие же, какие использовал Лингг, чтобы подорвать себя. Фрик выжил, милиция подавила забастовку, а Беркмана отправили в тюрьму на шестнадцать лет.
Страна долго не могла успокоиться. Шокирована была не только общественность. Анархистов хватил столбняк, когда Иоганн Мост, проповедник насилия, порвав с прошлыми убеждениями, 27 августа опубликовал в газете «Фрайхайт» статью, осуждавшую попытку Беркмана совершить тираноубийство. Он заявил, что эффективность террористического действия преувеличена, что оно не в состоянии возбудить восстание в стране, где отсутствует пролетарское классовое самосознание, и с пренебрежением отозвался о поступке Беркмана, которого анархисты теперь считали героем. Когда Иоганн Мост повторил те же слова на собрании, в публике поднялась разъяренная женская фигура. Это была Эмма Гольдман. С кнутом в руках она взошла на трибуну и отхлестала своего бывшего любовника. Скандал был грандиозный.
Без сомнения, в поведении Иоганна Моста и Эммы сыграли свою роль эмоции. Мост последовал примеру Кропоткина и Малатесты, которые после акций Равашоля разуверились в эффективности насилия. Но верный долгу идеалист Беркман радикально отличался от разбойника Равашоля, и желчный Мост завидовал сопернику, более молодому и страстному как в любви, так и в революционном движении. Его нападки на коллегу-анархиста, готового отдать жизнь за дело революции, означали предательство, которое негативно сказалось на дальнейшей судьбе анархизма в Америке.
Об этом, естественно, ничего не знала общественность: она следила лишь за акциями анархистов, attentats [19], как называли их французы. С каждой новой акцией в обществе нарастал страх перед таинственной убийственной силой, таящейся в его недрах. Через год после событий в Хомстеде этот страх снова дал о себе знать, когда губернатор Джон П. Альтгельд из Иллинойса помиловал троих узников Хеймаркета 37. Жесткий и вспыльчивый политик, Альтгельд, рожденный в Германии и привезенный в Соединенные Штаты трехмесячным ребенком, прожил тяжелую жизнь и познал тяготы физического труда. Он сражался в гражданской войне, когда ему было шестнадцать лет, изучал право, занимал должности атторнея штата, судьи, стал губернатором, разбогател на продаже недвижимости, но всегда оставался убежденным либералом. Сразу же после вступления в должность губернатор пообещал восстановить справедливость. Возможно, им отчасти руководила и неприязнь к судье Гэри. Став губернатором, Альтгельд поручил проверить материалы судебного процесса и 26 июня 1893 года вынес решение о помиловании, сопроводив его документом из 18 000 слов, подтверждавшим противозаконность приговора. В нем доказывалось, что состав присяжных был специально подобран для вынесения обвинительного приговора, судья предубежденно относился к обвиняемым и не мог беспристрастно вести процесс и атторней штата признал, что по крайней мере против одного обвиняемого не имелось достаточных улик. Все эти факты, безусловно, были известны, в период между вынесением приговора и повешением многие видные граждане Чикаго, обеспокоенные суровостью приговора, настойчиво пытались добиться помилования, и благодаря их усилиям была спасена жизнь троим обвиняемым. Но когда Альтгельд публично продемонстрировал дьявольский характер существующей системы правосудия, он поколебал веру людей в фундаментальные институты – столпы общества. Если бы он помиловал анархистов, простив их за содеянное, то это не вызвало бы никаких претензий. Но он сделал это таким образом, что вызвал на себя гнев прессы, священников и очень важных персон различного толка. Торонтская газета «Блейд» заявила, что он «низвергает цивилизацию». А нью-йоркская «Сан» изложила свое возмущение в стихах:
О дикий Чикаго…
Воздень виновные, слабые руки
Из развалин штатов, повергнутых в прах,
И средь павших города башен
Напиши АЛЬТГЕЛЬД на вратах! [20]
Альтгельд потерпел поражение на очередных выборах. И хотя наверняка были и иные причины, он никогда больше не занимал высокий пост и умер в возрасте пятидесяти пяти лет в 1902 году.
Одновременно с этими событиями эра динамита началась и в Испании. Она возгоралась с еще большей жестокостью и свирепостью, характеризовалась еще более жуткими эксцессами и длилась дольше, чем в других странах. Испанцы всегда отличались склонностью к проявлению безумной отваги и пристрастием к трагическому образу жизни. Их горы обнажены, соборы погружены во мрак, реки летом пересыхают, а один из великих испанских королей еще при жизни построил для себя мавзолей. Самый любимый спорт у них – не игра и не состязание, а опасный и кровавый ритуал. Особое свойство испанской души передала низложенная королева Изабелла II. Посетив родину в 1890 году, она написала дочери: «Мадрид печален, и все здесь кажется еще более странным, чем прежде»38.
Для Испании было естественным то, что борьба титанов Маркса и Бакунина за руководство рабочим классом закончилась победой анархизма. В Испании, однако, где все приобретает более серьезный характер, анархисты проявили больше организованности и продержались дольше, чем в какой-либо другой стране. Как и Россия, Испания была котлом, в котором революция закипала под тяжелой крышкой гнета. Церковь, лендлорды, Guardia Civil, все стражи государства не давали этой крышке сорваться с места. Хотя в Испании действовали кортесы и существовала видимость демократического процесса, рабочий класс не располагал легальными средствами для навязывания реформ и каких-либо перемен, как во Франции или в Англии. В результате анархистские настроения были сильнее и взрывоопаснее. В отличие от «чистого» анархизма, его испанская разновидность была коллективистской и никакой другой она просто не могла быть в силу обстоятельств. Гнет был слишком тяжелый и исключал малейшую возможность для индивидуальных акций.
В январе 1892 года вспыхнул бунт, вызвавший, как и первомайское восстание в Клиши, цепную реакцию возмездия. Аграрный мятеж всегда назревал на юге, где огромные латифундии отсутствующих лендлордов обрабатывались крестьянами, трудившимися целый день за буханку хлеба. Теперь четыреста крестьян, взяв в руки вилы, косы и кустарное огнестрельное оружие, двинулись в деревню Херес-де-Фронтера в Андалусии. Они требовали освободить пятерых товарищей, приговоренных к пожизненному заключению в кандалах за участие в трудовом конфликте десять лет назад. Армия подавила восстание, и четверых вожаков казнили на гарроте – чисто испанским способом умерщвления, когда жертву привязывают спиной к столбу, а палач душит его удавкой, стоя позади и затягивая ее деревянной рукояткой. Сарсуэла, один из казненных, успел перед смертью крикнуть: «Отомстите за нас!»
Опорой испанского правительства был генерал Мартинес де Кампос, железной рукой восстановивший монархию в 1874 году. После этого он нанес поражение карлистам, подавил восстание на Кубе, исполнял обязанности премьер-министра и военного министра. 24 сентября 1893 года генерал принимал парад войск в Барселоне. Из переднего ряда вдруг в него полетела одна бомба, а потом и вторая. Их бросил анархист по имени Пальяс, помогавший Малатесте в Аргентине 39. От взрыва бомб погибли пятеро зевак, один солдат и лошадь генерала, но жертва покушения отделалась синяками, оказавшись под лошадью. Пальяс говорил с гордостью, что собирался убить генерала и «весь его штаб». Когда военный трибунал приговорил его к смертной казни, он воскликнул: «Замечательно! Тысячи людей продолжат начатое мною дело». Ему разрешили попрощаться с детьми, но почему-то запретили увидеться с женой и матерью. Его расстреливали в спину, тоже сугубо испанский обычай, и он тоже успел крикнуть: «Месть будет ужасной!»
И возмездие вскоре свершилось, в столице Каталонии, самое страшное и кровавое деяние анархистов. 8 ноября 1893 года, почти в годовщину со дня повешения жертв Хеймаркета, открывался оперный сезон в «Театро Лисео», и публика в вечерних нарядах слушала «Вильгельма Телля». Внезапно с балкона в партер полетели две бомбы. Одна сразу же взорвалась, убив пятнадцать человек, другая – лежала на полу, готовая взорваться в любой момент. Поднялась невероятная паника, люди в ужасе ринулись к выходам, пихая и расталкивая друг друга, «как дикие звери», подминая и стариков и женщин. Когда раненых унесли, на улице собралась толпа, согласно описанию репортера, осыпавшая ругательствами как анархистов, так и полицию. От ран умерли еще семь человек. Общий итог жертв: двадцать два убитых и пятьдесят раненых 40.
Правительство ответило свирепыми репрессиями. Полиция устроила обыски во всех известных клубах, домах и местах собраний оппозиционеров. Тысячи людей были арестованы и заточены в камерах тюрьмы-крепости Монжуик, мрачный силуэт которой постоянно темнел на высоте семисот футов над уровнем моря на виду у всего города. Ее пушки всегда были направлены в сторону вечно мятежной Барселоны. Крепостных темниц не хватало, и многих узников разместили на военных кораблях, стоявших внизу на якорях. Поскольку трудно было найти виновных в гибели столь многих людей, то пытали всех, чтобы добиться признаний. Узников жгли раскаленными прутьями, стегали кнутами, заставляя идти без отдыха тридцать, сорок и пятьдесят часов подряд, применяли другие изощренные методы пыток, которыми славилась страна великой инквизиции. Власти все-таки при помощи пыток получили необходимую информацию и в январе 1894 года арестовали анархиста по имени Сантьяго Сальвадор, который признал, что бросил бомбы в Оперном театре, мстя за Пальяса. На его арест анархисты Барселоны ответили взрывом бомбы, убившей двоих ни в чем не повинных людей. Правительство, в свою очередь, в апреле приговорило к смертной казни семерых узников крепости Монжуик, добившись от них под пытками неких признаний 41. Сальвадора, безуспешно пытавшегося покончить с собой при помощи револьвера и яда, судили в июле и казнили в ноябре.
Жуткая расправа в Оперном театре в Испании напугала власти в других странах. В Англии наконец засомневались в том, что надо позволять анархистам свободно толковать и распространять свои доктрины. Когда анархисты собрались на традиционный митинг в память о жертвах Хеймаркета, в парламенте подвергли критике поведение либерала министра внутренних дел Асквита, разрешившего проведение этого мероприятия. Мистер Асквит сослался на незначительный характер сборища, но его, по описанию репортера, «сокрушил» лидер оппозиции мистер Бальфур, который в своей обычной вялой манере разъяснил, что применение бомб против людей не может быть предметом обсуждения на собраниях и оправдываться ссылками на неправильное общественное устройство. То ли вняв аргументам Бальфура, то ли переосмыслив последствия терактов в Испании, Асквит спустя пару дней заявил, что «пропаганда анархистской доктрины опасна для общества» и открытые собрания анархистов более не будут разрешаться 42.
Анархистами в Лондоне в то время были в основном русские, поляки, итальянцы и другие эмигранты, группировавшиеся вокруг «Автономии», анархистского клуба; другая группа эмигрантов-евреев, обитавшая в бедняцком Ист-Энде, издавала на идише газету «Арбайтер-Фрайнт» и собиралась в клубе под названием «Интернационал» в Уайтчепеле. Английский рабочий класс, для которого индивидуальное насильственное действие было менее естественно, чем для славян, итальянцев и испанцев, анархизмом не интересовался. Некоторые интеллектуалы вроде Уильяма Морриса могли взять на себя роль «светочей», но и Уильям Моррис занимался главным образом разработкой собственной утопической версии государства, утерял влияние к концу восьмидесятых годов и уступил журнал «Общее благо» (Commonweal), который основал и редактировал, более воинственным, плебейским и ортодоксальным анархистам. Существовали и другие журналы: «Воля» (Freedom) – издавался группой активистов, чьим учителем был Кропоткин; «Факел» (The Torch) – редактировался двумя дочерьми Уильяма Россетти и публиковал взгляды Малатесты, Фора и других французских и итальянских анархистов.
В 1891 году Оскар Уайльд опубликовал необычное эссе под заголовком «Душа человека при социализме». Его заинтересовала личность Кропоткина, и он действительно поверил в то, что художник может быть свободным только в обществе, в котором «отсутствуют власть и принуждение». Несмотря на заглавие, Уайльд отвергал социализм подобно ортодоксальному анархисту на том основании, что он «авторитарен». Если правительство наделить экономической властью, то есть если «у нас по-прежнему останутся индустриальные тираны, то последнее государство человека будет даже хуже первого». Уайльд предпочитал социализм, основанный на индивидуализме. Именно при таком социализме высвободится истинная душа человека и художник тоже станет самим собой.
Во Франции не прекращалась террористическая активность анархистов. 8 ноября 1892 года, во время забастовки шахтеров «Сосьете де мин де Кармо», в парижском офисе компании на улице Оперы была подложена бомба. Ее обнаружил консьерж, бомбу осторожно вынесли и доставили в ближайший полицейский участок на улице Бонз-Анфан. Когда полицейский вносил ее в помещение, она взорвалась, убив и его, и еще пятерых служителей порядка. Их разорвало в клочья, кровью залило окна и стены, повсюду были раскиданы окровавленные фрагменты тел, рук и ног. Полиция заподозрила Эмиля Анри, младшего брата известного радикала-оратора и сына Фортюни Анри, приговоренного к смертной казни и бежавшего в Испанию. Но когда проследили его передвижения в этот день, то оказалось, что он не мог находиться в момент взрыва на улице Оперы, и Анри не арестовали.
Взрыв бомбы в полицейском участке вызвал в городе панику. Все ждали новых взрывов, которые могли произойти где угодно. Любого, кто был связан с законниками и полицейскими – поскольку парижане жили преимущественно в апартаментах, – соседи остерегались как чумного, и нередко такому человеку домовладелец предписывал переселиться в другое место. Город, писал один приезжий англичанин, был «буквально парализован страхом»43. Привилегированные классы «вновь заволновались, как в дни Парижской коммуны». Они боялись пойти в театр, ресторан, перестали посещать модные магазинчики на улице Мира и прогуливаться верхом на лошадях в Буа, где «за каждым деревом мог прятаться анархист». Распространялись ужасные слухи: анархисты заминировали церкви, вылили синильную кислоту в городское водоснабжение, они затаились под сиденьями карет, чтобы накинуться на пассажира и задушить или ограбить его. В пригородах расположились войска, иностранные туристы уехали, отели опустели, автобусы разъезжали без пассажиров, театры и музеи забаррикадировались.
Но и в самом высшем обществе не было тогда мира и согласия. Еще не утихли страсти после попытки переворота Буланже, как разразился скандал в связи с разоблачениями коррупции в Панаме и государственных структурах. Изо дня в день на протяжении 1890–1892 годов в парламенте вскрывались все новые детали нелегальных финансовых схем, взяточничества, использования «грязных денег», торговли полномочиями и лоббизма, пока не выяснилась причастность к коррупции 104 депутатов. Запятнали даже Жоржа Клемансо, из-за чего он лишился депутатского мандата на следующих выборах.
Падение престижа государственной власти благоприятствует нарастанию анархистских настроений. Интеллектуалы начинают заигрывать с анархизмом. Большинству людей в глубине души свойственно испытывать неприязнь к правительству, и в таких условиях это скрытое чувство выходит наружу. Подобно тому, как всякому толстяку присуще тайное желание похудеть, и в человеке солидном и респектабельном иногда можно обнаружить подспудные анархистские помыслы. Это качество особенно характерно для натур творческих, художников, писателей, поэтов и других людей аналогичных занятий. Новеллист Морис Баррес, пытавшийся применить свой талант в самых разных сферах политической мысли, посвятил анархистской философии два сочинения – «Враг закона» (l’Ennemi des Lois) и «Свободный человек» (Un Homme Libre). Поэт Лоран Тайад писал о пришествии анархистского общества как о «блаженных временах»44, когда аристократами будут сплошь одни интеллектуалы, а «простой человек будет целовать отпечатки ног служителей муз». Литературный анархизм стал особенно популярен среди символистов, таких как Малларме и Поль Валери. Октав Мирбо увлекся анархизмом вследствие нелюбви к власти 45. Ему досаждал любой человек в форменной одежде: полицейские, билетеры, курьеры, консьержи, лакеи. По словам приятеля Леона Доде, лендлордов он считал извращенцами, министров – ворами, адвокатов и банкиров – мошенниками, и ему нравились только дети, нищие, собаки, некоторые художники и скульпторы и очень молодые женщины. «Его идеей фикс было построение мира без нищеты 46, – говорил приятель. – И у него всегда находился повод или объект для ненависти». В среде художников Писсаро предоставил свой рисунок журналу «Пер-Пенар», некоторые другие обозленные парижские иллюстраторы вроде Теофиля Стейнлена пользовались анархистскими изданиями для выражения своего недовольства социальной несправедливостью, иногда, как в случае с карикатурой на президента Франции в грязной пижаме 47, совершенно непозволительными в иные времена приемами.
Распространялось множество эфемерных журналов, газет и бюллетеней. Достаточно привести лишь несколько названий, чтобы понять их назначение: «Антихрист», «Новая заря», «Черный флаг», «Враг народа», «Вопль народа», «Факел», «Кнут», «Новое человечество», «Неподкупные», «Санкюлот», «Земля и воля», «Возмездие». Члены клубов и кружков с названиями типа «Лига антипатриотов» или «Либертарианцы» собирались в полутемных помещениях, сидели на деревянных скамьях и слушали речи друг друга о тлетворности государства и необходимости революции. Но они никогда не объединялись в организации и ассоциации, не выбирали лидера, не разрабатывали планы и не подчинялись ничьим указаниям. В их представлении государство, как это подтверждалось паникой, вызванной Равашолем, и панамскими разоблачениями, уже рушилось.
В марте 1893 года во Францию вернулся тридцатидвухлетний Огюст Вайян, пытавшийся начать новую жизнь в Аргентине, но так и не преуспевший в этом. Он был внебрачным ребенком, и ему было всего десять месяцев, когда мать вышла замуж за человека, отказавшегося его содержать. Его отдали приемным родителям. С двенадцати лет ему пришлось самому себя обеспечивать, перебиваться случайными заработками, воровать и попрошайничать. Каким-то образом он все-таки окончил школу, устраивался на должности служащего, одно время редактировал еженедельник «Социалистический союз» (l’Union Socialiste), но, подобно другим бедолагам, вскоре оказался в окружении анархистов. В роли секретаря «Федерации независимых групп» (Fédération des groupes indépendants) он встречался с анархистскими ораторами, в числе которых был и Себастьян Фор, умевший своим «благозвучным и ласковым» голосом 48, красивыми фразами и элегантными манерами убедить любого человека, слушавшего его речь, в неизбежном пришествии «золотого века». Вайян женился, разошелся с женой, но оставил при себе дочь Сидонию и обзавелся любовницей. Он не был развратником или либертарианцем и заботился о своей крошечной семье изо всех сил. После неудачной экспедиции в Аргентину Вайян попробовал преуспеть в Париже. Однако подобно своему современнику Кнуту Гамсуну, скитавшемуся тогда по улицам Христиании, он тоже наталкивался лишь на унижения, «половинчатые обещания, грубые и вежливые отказы», испытывал «разочарования, горечь от несбывшихся надежд и безуспешных попыток вырваться из нищеты», и наконец оказался в таком бедственном положении, что у него уже не было приличной одежды для поиска работы. Он даже не мог купить себе новую пару обуви и ходил в старых галошах, подобранных на улице. Вайяну все-таки удалось получить работу на сахарорафинадном заводе, где ему платили всего лишь три франка в день – очень мало даже для семьи из трех человек.
Стыдясь своего нищенства и не в силах больше видеть, как голодают домочадцы, Вайян решил расстаться с жизнью. Но он не хотел уходить из жизни молча и незаметно, а замыслил сделать это громко, «выразив протест всего класса», написал Вайян накануне вечером, который «заявит о своих правах и слова дополнит практическими действиями»: «По крайней мере я умру с чувством удовлетворения, зная, что помог ускорить наступление новой эры».
Вайян не был убийцей и спланировал акцию, в которой содержалась определенная логика. Он сделал бомбу из кастрюли, наполнив ее гвоздями и зарядом взрывчатки, не смертельным для человека. Во второй половине дня 9 декабря 1893 года он пришел с бомбой на галерею для публики в палате депутатов. Очевидец видел, как высокий сухопарый мужчина с бледным лицом встал и бросил что-то вниз в самом разгаре дебатов. Бомба Вайяна взорвалась, как пушечный снаряд, осыпав депутатов металлическими фрагментами, ранив несколько человек, но никого не убив.
Взрыв в палате депутатов вызвал огромный общественный резонанс, а один предприимчивый журналист придал ему значимость памятного исторического события. На званом обеде, устроенном журналом «Плюм», он попросил прокомментировать происшествие именитых гостей, а среди них были Золя, Верлен, Малларме, Роден и Лоран Тайад. Лоран ответил на поставленный вопрос величественно и почти в стихотворном стиле: “Qu’importe les victimes si le geste est beau?” («Разве имеют значение жертвы, если совершается прекрасный поступок?») 49. Об этих словах, опубликованных на следующее утро в газете «Журналь», скоро вспомнят при гораздо более ужасных обстоятельствах. В то же утро Вайян сам пришел с повинной.
Вся Франция отнеслась с пониманием, а некоторые французы, не анархисты, даже с сочувствием к его действиям. Среди сострадателей были и представители крайне правых кругов, противники республики – роялисты, иезуиты, антисемиты и некоторые аристократы, имевшие свои резоны для того, чтобы ненавидеть буржуазное государство. Эдуард Дрюмон, автор памфлета «Еврейская Франция» и редактор газеты «Либр пароль», рьяно обличавший евреев, причастных к панамскому скандалу, сочинил эссе под многозначительным названием «О грязи, крови и золоте – от Панамы к анархизму». «Грязь Панамы породила кровь», – написал он. Герцогиня д’Юзес 50, которая вышла замуж за представителя одного из трех первых герцогских родов, предложила приютить и дать образование дочери Вайяна (сам же Вайян предпочел оставить ее на попечение Себастьяна Фора).
Правительство решило раз и навсегда покончить с анархизмом и запретить его пропаганду. Через два дня после взрыва палата депутатов единогласно приняла два закона, объявлявшие преступлением публикацию любых прямых и непрямых призывов, провоцирующих террористические акции или ассоциирующихся с намерениями совершить такие акты. Хотя эти законы назвали les lois scélérates («злодейскими»), их вряд ли можно было посчитать излишними, поскольку проповедь деяниями была главным побудительным средством распространения анархизма. Полиция провела рейды по всем кафе и местам собраний анархистов, были выписаны две тысячи суровых предписаний и предупреждений, разогнаны все клубы и дискуссионные кружки, закрыты «Револьт» и «Пер-Пенар», и ведущие анархисты покинули страну.
10 января Вайян предстал перед судом – пятью судьями в красных мантиях и черных с позолотой шапочках. Его обвиняли в убийстве, но он утверждал, что намеревался лишь нанести ранения: «Если бы я хотел убивать, то применил бы гораздо более мощный заряд и наполнил бы контейнер пулями, а я использовал гвозди». Его адвокат месье Лабори, которому было предопределено участвовать в еще более драматическом и крупном деле, защищал своего подопечного, ссылаясь на un exaspéré de la misère [21]. Во всем виновен парламент, говорил Лабори, который ничего не сделал для того, чтобы «ликвидировать бедность одной трети населения страны». Несмотря на аргументы Лабори, Вайяна приговорили к смертной казни – первый случай в XIX веке, когда приговорили к смерти обвиняемого, не совершившего убийство. Судебный процесс и вынесение приговора заняли один день. Почти сразу же президент Сади Карно начал получать петиции о прощении, в их числе было и послание, подписанное шестьюдесятью депутатами во главе с аббатом Лемиром, раненным бомбой Вайяна. Социалист Жюль Бретон предрек: если Карно «хладнокровно одобрит смертную казнь, то ни один человек во Франции не будет сожалеть, если однажды и он станет жертвой бомбы». Из-за этого заявления, по сути подстрекавшего к убийству, социалист провел два года в тюрьме, и оно тоже войдет в историю странных и зловещих совпадений.