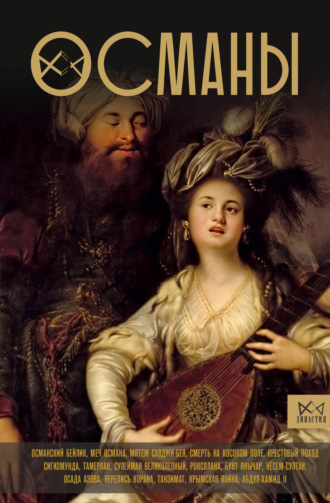
Азиз Явуз
Османы. История великой империи
Надо отдать Тимуру должное – при всей суровости своего характера он предпочитал обходиться без войны там, где можно было договориться. Иными словами, Баязид мог бы ограничиться признанием сюзеренитета Тимура и посмотреть, что из этого выйдет, а как известно, век основанного Тимуром государства был недолог и звезда его начала закатываться уже в начале XV века, вскоре после смерти Тимура.
Первый контакт Баязида с Тимуром состоялся в 1395 году, когда Тимур, с соблюдением всех положенных приличий, попытался получить поддержку султана в походе против хана Золотой Орды[48] Тохтамыша. По замыслу Железного Хромца султан должен был наступать на Тохтамыша с Балкан, а сам Тимур ударил бы по Орде с Кавказа.
В первом послании, наиболее теплом из четырех, которыми обменялись гурхан[49] и султан, Тимур называл Баязида «великим эмиром, мечом Всевышнего, направленным против его врагов, посланником Аллаха, которому поручено защищать интересы мусульман и границы исламской веры». Заодно (как известно, сахара и меда никогда не бывает много) Тимур выражал восхищение борьбой, которую Баязид вел против неверных и выражал желание поддержать его в этом праведном деле. Короче говоря, Тимур предлагал Баязиду союз на почетных условиях. «Если от тебя прибудет какой-нибудь посланник, я отправлю посла к тебе и тем самым подтвержу дружбу», писал Тимур.
Ответ Баязида был резким и недружелюбным, но в преддверии разборок с Тохтамышем Тимур предпочел проглотить горькую пилюлю. Мог Баязид решить, что Железный Хромец испугался его гнева? Мог, конечно же мог, но так поступать не стоило… И уж тем более не стоило раздражать Тимура, давая прибежище Абу Насру Кара Юсуфу ибн Мухаммеду, правителю захваченного гурханом тюркского государства Кара-Коюнлу.[50]
«В чем кроется причина твоего легкомыслия и высокомерия?.. – спрашивает Тимур Баязида. – Ты одержал несколько побед над христианами в Европе, твой меч был благословлен свыше и твое следование заповедям Корана в войне против неверных является единственной причиной, которая удерживает нас от разрушения твоей страны, рубежа и оплота мусульманского мира… Поспеши же проявить мудрость, одумайся и раскайся, пока над твоей головой не грянул гром нашего возмездия. Ты ведь не больше муравья, так зачем же ты дразнишь слонов? Горе тебе – они затопчут тебя своими ногами».
Сравнение с муравьем было уничижительным, но не оскорбительным. Тимур пытался увещевать, взывая к голосу разума. Но Баязид в ответном послании опустился до грубых оскорблений. «Твои армии неисчислимы, – написал он Тимуру, – Пусть это так, но разве могут стрелы твоих быстрых татар противостоять ятаганам и табарам[51] моих стойких и непобедимых янычар? Я буду хранить правителей, которые получили мое покровительство… И если твое оружие обратит меня в бегство, то пусть мои жены будут трижды отрешены от моего ложа. Но если у тебя не достанет мужества для того, чтобы встретится со мной на поле брани, то советую тебе трижды взять своих жен перед тем, как они трижды окажутся в объятиях чужака». Что можно сказать по этому поводу? Разве что вспомнить старинную мудрость, которая гласит: «Делай что тебе угодно, но не переходи границы приличий». И это правильно, ведь существуют границы, после перехода которых нет пути назад. Баязид эти границы перешел и вдобавок приказал писать свое имя большими золотыми буквами, а имя Тимура – маленькими и черными. Что можно было придумать для того, чтобы еще сильнее оскорбить оппонента? Ну разве что завернуть в послание свиную ногу, намекая тем самым и на хромоту Тимура, и на его неблагочестие…
В 1400 году Тимур захватил пограничную крепость Сивас, но развивать успех не стал, а пошел на Дамаск… Тут-то бы Баязиду обеспокоиться всерьез и принять надлежащие меры для противостояния угрозы с востока, но он снова проявил легкомыслие и, как ни в чем не бывало, продолжал осаждать Константинополь.
Генеральное сражение между войсками султана и гурхана состоялось 20 июля 1402 года близ Анкары. Согласно преданию, Баязид, увидев знамя Тимура, на котором были изображены три круга, олицетворявшие три известные в то время части света – Европу, Азию и Африку, воскликнул: «Что за наглость думать, что тебе принадлежит весь мир!». На это Тимур ответил, указав рукой на османское знамя с изображением полумесяца: «Еще большая наглость считать своим владением луну!».
Тимур имел полуторное численное превосходство (сто сорок тысяч против девяноста), так что исход сражения был предрешен еще до его начала. Султан Баязид, проигравший первое в своей жизни сражение, попытался бежать с поля брани, но был схвачен и умер в плену 8 марта 1403 года. В западной историографии весьма популярна тема невероятных унижений, которым Тимур подвергал пленного Баязида, вплоть до того, что использовал его в качестве подставки для ног, но эти сведения не вызывают доверия. Известно, что, когда Баязид заболел, Тимур поручил его заботам своих придворных лекарей, что свидетельствовало об определенном уважении, несовместимом с унижениями.
Итак, султан Баязид скончался в плену, не имея возможности влиять на положение дел в своих бывших владениях…
Глава 5. Противоборство шехзаде – да победит умнейший!
Тимур не стал брать земли Османского государства под прямое управление. Анатолийские бейлики были восстановлены под властью прежних правителей, а исконные османские владения и то, что было отнято у христиан, разделили между собой три сына Баязида. Старший сын Сулейман, возраст которого близился к тридцати годам, обосновался в Эдирне и взял под свой контроль Румелию. Второй сын Иса правил из Балыкесира[52] западной частью анатолийских владений османов, а третий сын Мехмед, обосновавшийся в Амасье, – восточной. Все они выразили покорность Тимуру и получили от него ярлыки[53] на правление.
Может показаться странным, что Тимур согласился оставить у власти сыновей побежденного им султана, которые сражались против него при Анкаре. Но надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, на османской территории власть султанских сыновей выглядела легитимной, и каждый из троих уже утвердился на своем месте. Во-вторых, Тимур прекрасно понимал, что шехзаде[54] очень скоро начнут враждовать между собой и что к этой сваре охотно присоединятся анатолийские беи. И пусть себе грызутся, сколько им будет угодно, ведь Тимуру эта вражда была на руку. Главное, чтобы не появился новый Осман, который снова соберет все земли под свою руку и выступит против гурхана.
В 1403 году, после смерти Баязида, Тимур освободил юного шехзаде Мусу, попавшего в плен вместе с отцом. Мусе было поручено отвезти тело отца в Бурсу и похоронить там. Иранский историк Шараф ад-дин Али Язди, служивший при сыне Тимура Шахрухе и внуке Ибрагим-Султане, в своей хронике «Зафар-наме»[55] сообщает о том, что Муса получил от Тимура ярлык на правление Бурсой и прилегающими к ней землями, которые на тот момент контролировал Иса. Тимуру явно хотелось обострить ситуацию в Анатолии перед тем, как возвращаться в Самарканд.
У Анкары против Тимура сражались пятеро султанских сыновей, но Мустафа-челеби пропал без вести на поле брани – видели, как он упал с коня, а дальнейшее покрыто мраком… О Мустафе историки писали разное, некоторые утверждали, что он попал в плен к Тимуру, после смерти которого смог вернуться в Анатолию. Однако же человек, называвший себя Мустафой, был повешен по приказу султана Мурада II как самозванец… Впрочем, самозванцем могли объявить и настоящего Мустафу, дабы лишить его права претендовать на султанство. Короче говоря, история эта темная и вряд ли когда-нибудь она прояснится.
Итак, после Баязида I осталось четверо сыновей и один не то сын, не то самозванец. Вообще-то, у Баязида сыновей было шестеро, но самый старший, Эртогрул-челеби, бывший наместником в Айдыне,[56] скончался незадолго до нашествия Тимура. Неизвестны имена матерей Эртогрула, Сулеймана, Мустафы и Мусы, а вот Иса-челеби был рожден Девлетшах-хатун, дочерью Сулеймана Гермиянида. Родство с Гермиянидами в сложившейся ситуации имело важное значение, поскольку позволяло Исе-челеби надеяться на поддержку могущественного бейлика Гермиян. Впрочем, некоторые историки считают Мусу единоутробным братом Исы.
На первый взгляд, положение Сулеймана-челеби было лучшим, чем у его братьев, поскольку он сидел в Румелии и мог не опасаться анатолийских беев, которые горели желанием поквитаться с османами. Кроме того, в отличие от анатолийских османских владений, Румелия не была разорена войском Тимура. Но при этом с севера Сулейману угрожала Венгрия, а с востока – Константинополь, да и на покоренных землях в любой момент могли вспыхнуть восстания… Для того, чтобы упрочить свое шаткое положение Сулейману пришлось пойти на уступки – в начале 1403 года он заключил с соправителем Мануила II Иоанном VII[57] мирный договор, по которому Византии возвращались Салоники и часть территории Фракии, причем в тексте договора было указано, что Сулейман клянется не только именем Аллаха и его посланника Мухаммеда, но и именем «другого великого пророка», под которым подразумевался Иисус Христос. Это обстоятельство не понравилось румелийским беям, которые и без того были недовольны возвратом территорий византийцам. Кроме того, Византия освобождалась от выплаты дани. Участниками договора были также генуэзцы и венецианцы, которые тоже освобождались от выплаты дани, а кроме того, Венеции возвращались все отторгнутые от нее территории, и вдобавок передавались Афины и часть северо-восточного побережья Центральной Греции. Договор был скреплен женитьбой Сулеймана на двоюродной сестре Иоанна. Если раньше византийские императоры отдавали султану в заложники своих сыновей, то теперь Сулейману пришлось отправить в Константинополь своего сына Орхана. В общем, власть Сулейман сохранил, но при этом лишился уважения многих беев и, кроме того, был вынужден действовать с оглядкой на Константинополь. Разумеется, Сулейман понимал, что получил всего лишь отсрочку – рано или поздно Румелия утекла бы из его рук, как утекает вода из пригоршни. Выход у него был только один – стать таким же сильным, как и отец. Однако начало войне между братьями-шехзаде положил не Сулейман, а Иса, изгнавший Мусу из Бурсы и сделавший ее своей столицей. Муса нашел прибежище в бейлике Гермиян (собственно, отталкиваясь от этого факта ряд историков делает вывод о том, что Девлетшах-хатун была не только матерью Мусы, но и Исы).
Муса был юн и несведущ в делах правления, поэтому от его имени правил атабек[58] Якуб, который решил заключить союз против Исы с Мехмедом-челеби. Решение оказалось верным – весной 1403 года Мехмед разгромил Ису в сражении, состоявшемся близ озера Улубат,[59] занял Бурсу и провозгласил себя правителем Анатолии. Правда, на первых отчеканенных Мехмедом монетах значились два имени – его и Тимура (как говорится, «не стоит дразнить тигра, даже если он далеко»). Надо отдать Мехмеду должное – прежде чем сражаться с братом, он предложил ему решить дело миром и разделить Анатолию между собой, но Иса ответил на это, что Анатолия должна принадлежать ему, как старшему из братьев, и был наказан за свою спесь. Иса бежал в Константинополь, где ему дали только приют, а не поддержку. Вскоре Сулейман потребовал отправить Ису в Эдирне, что охотно было сделано – Мануилу с Иоанном совершенно не хотелось обострять отношения с Тимуром, поддерживая человека, который изгнал из Бурсы ставленника гурхана. А вот Сулейману Иса пришелся как нельзя кстати – он дал ему войско и отправил воевать с Мехмедом.
С точки зрения традиций, не было ничего удивительного в том, что самый старший из султанских сыновей поддерживает претензии Исы, который был старше Мехмеда. Но на самом деле Сулейману хотелось ослабить Мехмеда при помощи Исы, для того чтобы впоследствии прибрать Анатолию к рукам.
Анатолийские беи не желали чрезмерного усиления кого-то из Османов, поскольку это угрожало бы их самостоятельности – так что не следовало ожидать, что все беи поддержат одного из сыновей Баязида, одни помогали Мехмеду, а другие Исе. Детали не так уж и важны, важно то, что летом 1403 года Ису задушили убийцы, подосланные Мехметом (если хочешь спокойно править, то потрудись избавиться от братьев). Правда, некоторые историки склонны считать, что убийц подослал Сулейман, недовольный тем, что Иса вышел из повиновения. Но, так или иначе, один шехзаде выбыл из игры.
Когда Исы не стало, Сулейману-челеби пришлось действовать самостоятельно. Он вторгся в Анатолию и в начале весны 1404 года взял Бурсу, а затем пошел дальше… Мехмед не мог противостоять Сулейману и потому ему пришлось признать верховенство старшего брата, после чего Сулейман вернулся в Румелию, где совершенно некстати восстали болгары. Приведя болгар к покорности, Сулейман в середине 1405 года прибыл в Анатолию и оставался здесь до начала 1410 года, укрепляя свою власть. Мехмеду пришлось искать убежища у правителя Айдына Джунейд-бея Измироглу, который сначала поддерживал Ису, а затем перешел на сторону Мехмеда.
Дело шло к тому, что Сулейман мог стать новым османским султаном, но тут дал о себе знать повзрослевший Муса-челеби. При содействии императора Мануила II он добрался до Валахии, где заключил союз с местным правителем-господарем Мирчей I против Сулеймана. По обычаям того времени союз был скреплен женитьбой Мусы на дочери Мирчи. Выступление валахов вынудило Сулеймана отвлечь часть сил из Анатолии, что облегчило задачу Мехмеда.
Принято считать, что в противоборстве побеждает сильнейший, но это не совсем так – чаще всего побеждает умнейший, потому что во многих случаях ум значит больше, чем сила. Сулейман был силен, но он совершенно не задумывался о том, какое впечатление производит на подданных. Мало того, что он вернул гяурам часть захваченных у них земель и клялся именем их бога, он еще и пил запретное вино, причем – в больших количествах. В результате подданные Сулеймана массово переходили от своего «нечестивого» правителя к благочестивому Мусе, который к весне 1411 года взял под свой контроль всю Румелию, и к не менее благочестивому Мехмеду.
Сулейман был убит при не совсем ясных обстоятельствах 17 февраля 1411 года, но можно с уверенностью предположить, что его задушили по повелению Мусы. Два шехзаде выбыло из игры, осталось двое и один, до поры до времени скрывавшийся в тени. Что же касается преемников умершего в феврале 1405 года Тимура, то им совершенно не было дела до западных окраин государства.
Изначально Муса считался вассалом Мехмеда, но после устранения Сулеймана младший брат решил обмануть старшего брата – Муса провозгласил себя султаном и, желая вернуть отданное Сулейманом, осадил Константинополь. Это было большой ошибкой, поскольку осада подтолкнула Мануила II и Иоанна VII к заключению союза с Мехмедом, которому не терпелось покарать вышедшего из повиновения младшего брата. Амбиции Мусы, желавшего восстановить Османский султанат в былых пределах, настораживали анатолийских беев, а Мехмет производил впечатление человека, с которым можно договориться. То же самое впечатление Мехмет произвел на сербского правителя Стефана Лазаревича, который не получил ни от Сулеймана, ни от Мусы никаких преференций вроде тех, что получили византийцы или венецианцы. С Константинополем Мехмету тоже удалось найти общий язык… И если в 1411 году казалось, что Муса вот-вот одержит победу над братом, то в июле 1413 года Мехмед нанес Мусе сокрушительное поражение в сражении при Чамурлу (юго-запад современной Болгарии). Муса, потерявший в сражении руку, бежал в Валахию, где то ли умер своей смертью, то ли был убит посланцами Мехмеда. Обстоятельства гибели Мусы не так уж и важны, важно то, что Мехмед остался единственным претендентом на султанство, если не считать Мустафу, о котором пока что ничего не было известно.
Важная деталь – переманивая анатолийских беев на свою сторону, Мехмед не видел в них основную опору своей власти. Продолжая традиции дома Османов, он считал основной опорой армию, а не тюркскую знать.
После победы над Мусой Мехмед совершил в Эдирне джюлюс[60] и начал править как преемник своего отца. За полтора года он сумел привести под свою руку все анатолийские бейлики, кроме Карамана. В 1416 году султан Мехмед I впервые в истории османской династии провел морскую кампанию против Венецианской республики, которая, к сожалению, оказалась неудачной – венецианцам удалось захватить двадцать пять османских кораблей. Но, тем не менее, султан показал миру, что отныне османы способны воевать не только на суше, но и на море.
Неудачная морская кампания была пустяком в сравнении с двумя другими испытаниями, которые судьба уготовила новому основателю Османского государства.
В 1415 году в Румелии вдруг объявился Мустафа-челеби, точнее – человек, называвший себя этим именем. «Мустафу» сразу же поддержали император Мануил и валашский господарь Мирча, до которых уже дошло, что в большой политической игре они ставили не на того игрока. Обоих правителей не сильно интересовало, кем был на самом деле их протеже – настоящим шехзаде или же самозванцем, важно было посеять очередную междоусобицу в доме Османов. Великим визирем при «Мустафе» стал Джунейд Измироглу, которого султан Мехмед назначил санджакбеем Никопола.
Мирча I предоставил в распоряжение «Мустафы» небольшое войско, с которым тот попытался возмутить Румелию, но успеха не достиг и был вынужден бежать в Константинополь. Весной 1416 года «Мустафа» предпринял новую попытку захвата власти, но осенью того же года был разбит султанскими войсками и снова укрылся в Византии. Понимая, что Мануил будет использовать своего «карманного» претендента на султанство еще и еще, Мехмед заключил с императором соглашение, согласно которому пребывание Мехмеда и Джунейда в заключении щедро оплачивалось – ежегодно Мануил получал от Мехмета триста тысяч акче. Византийские правители сильно нуждались в средствах и можно было надеяться, что столь солидная плата удержит их от использования «Мустафы» против Мехмеда. Эта история будет иметь продолжение, но уже при сыне и преемнике Мехмеда султане Мураде II, а мы пока перейдем к следующему испытанию, выпавшему на долю Мехмеда.
В свое время Муса-челеби назначил своим кадиаскером известного суфия[61] шейха Бедреддина. Победив Мусу, Мехмед обошелся с шейхом весьма милостиво – сослал его в Изник, где тот получал ежемесячно тысячу акче и мог жить в свое удовольствие, предаваясь на досуге благочестивым размышлениям. Однако же шейх вынашивал мечты о справедливом переустройстве мира, и эти мечты нашли отклик в сердцах крестьян, которым при Мехмеде жилось не очень-то сладко – восстановление государства требовало значительных средств, поэтому налоги росли и росли, а кроме того, крестьян часто привлекали к общественным работам, не считаясь с сельскохозяйственным календарем. Благо было только одно – в Анатолии наконец-то установился прочный мир, но людям несвойственно ценить то, что у них есть, они предпочитают сокрушаться по тому, чего нет. Крестьяне вспоминали благословенные времена правления султана Баязида, а беи надеялись вернуть себе власть, отнятую у них Мехмедом. Кроме бывших правителей бейликов, Мехмедом были недовольны многие представители тюркской знати рангом пониже – Иса и Муса довольно щедро раздавали своим сторонникам земельные наделы, которые Мехмед отбирал как незаконные пожалования самозванцев. В итоге восстание, поднятое мюридами[62] шейха Бедреддина в Измире и Манисе, поддержали и низы общества, и его верхи. Западная Анатолия[63] была избрана в качестве плацдарма неслучайно, поскольку здесь особенно были недовольны действиями султана Мехмеда. Откликнувшихся на призыв не смущали такие «революционные» идеи Бедреддина, как требование обобществления имущества и провозглашение концепции единого Бога для мусульман, христиан и иудеев.
В Манисе восстание удалось подавить довольно быстро, но в Измире оно очень скоро приняло характер гражданской войны, в которой местные власти терпели поражение за поражением. Сам Мехмед, при всех своих достоинствах, в военном деле был не особо искусен, да и не к лицу было султану лично выступать против нечестивых мятежников. Подавление восстания было поручено великому визирю Баязиду-паше, который в свое время был наставником юного Мехмеда, а после сражения у Анкары помог ему утвердиться в Амасье. У султана Мехмеда I не было более верного и более надежного сановника, чем Баязид-паша.
Баязид-паша действовал решительно и жестко, но ему не сразу удалось переломить ход событий. Полностью восстание было подавлено лишь в 1420 году и финальным «аккордом» стала казнь мятежного шейха, повешенного в греческом городе Сере. Впрочем, есть мнение, что шейх был повешен годом или двумя раньше, а раскрученный им маховик восстания продолжал вращаться без своего вдохновителя. Но, так или иначе, опасное восстание было подавлено, и последний год своей недолгой жизни султан Мехмед I провел спокойно, без потрясений. Скончался он в Бурсе 26 мая 1421 года, не дожив до сорока пяти лет.
Известно, что у Мехмеда I было две супруги – Эмине-хатун и Шехзаде-хатун, а также наложница-рабыня Кумру-хатун. Эмине-хатун была дочерью Насреддина Мехмед-бея Дулкадирида, бейлик которого находился в южной Анатолии, а отцом Шехзаде-хатун был Делиддар Ахмед-паша, правитель небольшого бейлика в северной Анатолии. Историки спорят о том, кто был матерью султана Мурада II – Эмине-хатун или Шехзаде-хатун. Большинство склоняется к Эмине-хатун, но полной ясности в этом вопросе нет.
Что же касается сыновей султана Мехмеда, то на момент его смерти их было пятеро (перечисляются по старшинству): Ахмед, Мурад, Мустафа, Махмуд и Юсуф. Византийский историк Дука в своем трактате, посвященном закату империи, пишет о намерении Мехмеда разделить свои владения между Мурадом и Мустафой, якобы первый должен был унаследовать Румелию, а второй – Анатолию. Выше султана только Аллах великий, и Мехмед мог распоряжаться своими владениями по своему усмотрению, но как-то не верится в то, что султан, который с большим трудом объединил распавшееся государство, снова начал делить его. К тому же Мехмед не сделал перед смертью соответствующего распоряжения, так что можно считать упоминание о разделе государства фантазией Дуки. Вот интересно, почему к современным авторам принято относиться с недоверием и требовать подтверждения чуть ли не каждого слова, а тем, кто жил в старину, верят априори, без сомнений?


