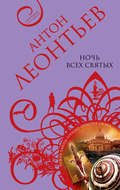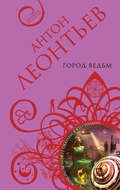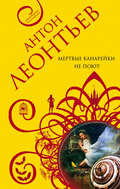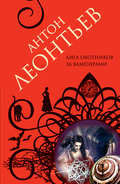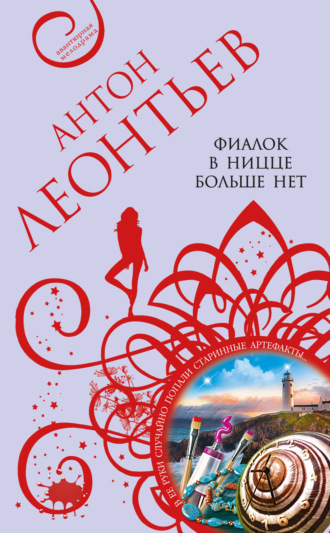
Антон Леонтьев
Фиалок в Ницце больше нет
Он прикоснулся к раме одного из полотен. Ну да, неплохо бы иметь у себя такое. Если это украшает хату академика, почему это не может украшать и его комнату?
Нет, не в солидном доме, на скамейке возле которого он вел разговор с внучкой академика: она-то наверняка подумала, что он там живет, но ведь это ее проблемы.
Только где – в коммуналке: пусть и с отдаленным видом на канал Грибоедова, но с одним сортиром на шесть семей? Чтобы на нее могла, икая от похмелья, любоваться бабка-пьянчуга? Так и сказать: мол, бабуля, вот вам и Шагал, наслаждайтесь!
Было бы вполне разумно, если бы парочка картин (не больше: не надо зарываться) в итоге осела у него. Нет, не для того, чтобы висеть в бабкиной коммуналке, а чтобы стать стартовым капиталом для собственного бизнеса.
Союз развалился, люди делали деньги, да что там, деньжища прямо из воздуха – и ему не следовало упускать свой шанс.
Федор и не намеревался упускать.
Ну да, было бы неплохо, чтобы этот Шагал пришагал прямо к нему. Ну и Кандинский тоже хорош. И вот эти красные кони – точно Петров-Водкин!
Он отправился на кухню, чтобы сделать себе еще хорошего дедушкиного кофе (и где только отоваривался старый черт – наверняка от дипломатических кругов), а затем снова насладиться экскурсией по частному музею академика Каблукова.
Открыв глаза, Саша поняла, что солнце давно уже встало: в комнату сквозь распахнутые шторы вливался сизый ленинградский свет. Чувствуя, что во рту нее горчит, а плечо затекло, она с трудом оторвалась от кушетки.
И вспомнила, что у нее в квартире гость!
Чувствуя себя крайне неловко, она босиком пробежала на кухню – и обнаружила тщательно вымытую посуду (причем по большей части оставленную в мойке ею самой за последние дни), уже порядком подстывшие оладьи и записку на столе.
«Уважаемая Саша! Мне пора – учеба и работа зовут. Надеюсь, что не обидитесь, если уйду по-английски. Разрешил себе у вас позавтракать – оставшиеся оладьи, которые я соорудил из того, что нашел в холодильнике, Ваши. Вы ведь разрешите Вам сегодня позвонить?»
Перечитав послание Федора целых три раза подряд, Саша плюхнулась на табуретку и, ощущая голод, схватила оладушек и принялась его жевать. Вкуснотища необыкновенная!
Только вот как Федор ей позвонит, если он даже ее номера не знает? И вообще, она живет в квартире дедушки, а его номер мало кому известен.
Сердце заныло, и Саше сделалось страшно: а что, если ее спаситель не позвонит? Или будет набирать не тот номер? И они никогда уже не увидятся?
Номера его машины она, конечно же, не запомнила, потому что и не пыталась это сделать, а фамилию свою он ей не назвал.
И вообще, получается, ей теперь нельзя выходить из квартиры, чтобы не пропустить его звонок?
Он не позвонил – ни в тот день, ни на следующий, ни даже два дня спустя. Саша сама не своя, уже уверенная, что Федор обиделся на то, что она, позвав его к себе, просто заснула и продрыхла до самого утра, совсем извелась и ловила себя на том, что все время думает, когда же раздастся звонок.
Он прогремел, и она едва не грохнула и второй аппарат в кабинете дедушки, с такой силой сорвала трубку, однако выяснилось, что звонил лечащий врач академика.
Раньше Саша крайне обрадовалась бы вестям о том, что дедушка идет на поправку, что рвется как можно быстрее домой, но что ему придется провести в больнице еще как минимум неделю, что удалось купировать все симптомы, что…
Единственное, о чем она думала, слушая медицинский монолог: а что, если в этот же момент ей звонит Федор, а у нее занято?
Она едва не пропустила его звонок, потому что телефон ожил, когда она вернулась из гастронома под домом, где на скорую руку закупила съестного. Бросив авоську прямо на пороге, Саша наконец схватила трубку и услышала заветный голос:
– Добрый день, Саша, я не беспокою? Это Федор, вы же меня помните?
О, как она могла его забыть? Сердце у нее запрыгало от радости.
– Извините, что звоню не сразу, но понадобилось время, чтобы разузнать ваш номер. Точнее, номер вашего дедушки, вы ведь в его квартире живете…
– Ничего-ничего… – пролепетала Саша, вдруг понимая, что, к своему ужасу, не знает, что и сказать.
Федор продолжал, но в этот момент раздалось заунывное гудение – это включилась сигнализация, которую Саша, желавшая снять трубку телефона как можно быстрее, конечно же, забыла при возвращении отключить.
Пришлось метнуться в коридор, вводить код, затем успокаивать высыпавших на лестничную клетку, взбудораженных соседей, объясняя, что все в порядке.
Хорошо, что сигнализация была хоть и ужасно громкая, но акустически локального воздействия и с отделением милиции связи не имела – не хватало еще, чтобы к ней прибыл патруль! Дедушка правоохранительным органам не особо доверял, заявляя, что если вора что и отпугнет, то не участковый, а завывание сирены.
Вот она только что, кажется впервые с момента установки, на весь дом и протрубила.
Объяснения и словесные реверансы с соседями заняли кучу времени, и когда Саша наконец-то вернулась в квартиру и подняла сиротливо лежавшую на письменном столе деда трубку, то не сомневалась, что Федор отключился.
А что, если он не перезвонит?
Но Федор, оказывается, терпеливо ждал ее и даже посмеялся над тем, что она только что устроила переполох во всем их элитном доме.
– Знаете, я в коммуналке вырос, так что и не к такому привык, – пояснил он, и Саша закусила губу.
Ну да, не у каждого дедушка – академик, обладатель четырехкомнатной квартиры в «Дворянском гнезде». И не у каждого, как у нее, имеется в безраздельном распоряжении «трешка» на Васильевском острове.
Но и не у каждого родителей накрыла сошедшая на Памире лавина.
– Как у вас со временем? – поинтересовался Федор. – Может, встретимся? Например, завтра?
Саша выпалила:
– А давайте сегодня?
Они действительно встретились вечером того же дня. Гололед к тому времени уже сошел, и морозы сменились оттепелью: все капало, переливалось, пело.
Капало и переливалось и в душе Саши, когда она увидела Федора – на этот раз уже без ушанки, с непокрытой головой, с элегантным красным шарфом. И не в валенках, а в красивых кожаных туфлях.
Встретились они на Невском, и он повел ее в расположенное на одной из смежных улиц какое-то концептуальное заведение со смешным названием «Ваня Гог»: Саша, посещавшая раньше с родителями или школьными подругами ресторан в «Метрополе», «Англетере» или отличную кондитерскую в гостинице «Советской», понятия не имела, что такой существует.
Ну да, после смерти родителей она все равно никуда уже больше не выходила, а новых подруг в Репинке пока что не завела: весть о том, что ее дедушка – академик, быстро распространилась среди сокурсников, и все были уверены, что взяли ее по блату, хотя какой блат мог быть у академика-геоморфолога из ЛГУ в Репинке?
Выходило, что с августа прошлого года изменилась не только жизнь ее семьи, но и история целой страны – а также гастрономическая карта города, о которой Саша и так имела весьма смутное представление.
В «Ване Гоге» было шумно, тесно, просто невероятно вкусно – и так круто. Вокруг говорили не только по-русски, но и на американском английском с жутким калифорнийским прононсом, и на аффектированном парижском французском, и даже на андалусийском испанском.
– Ого, сколько же языков вы знаете? – спросил с явным восхищением Федор и уныло добавил: – У меня в школе был английский, в университете тоже, но я ничего не понимаю из того, что этот тип лопочет.
Он покосился на сидевшего чуть поодаль от них громогласного рыжеволосого американца.
– А давайте на «ты»! – предложила Саша, желая сгладить неловкость.
– Ну, тогда давай! – усмехнулся Федор. – И все же, на скольких языках ты еще говоришь?
Саша вздохнула: ну, понимала она на четырех, кроме русского, могла говорить, причем, кажется, неплохо, и что с того?
Вероятно, для внучки академика ничего, а вот для обитателя коммунальной квартиры…
– Ах, ну так уж получилось…
– Гм, – сказал без тени укора Федор, – жаль, что у меня не получилось.
Саша снова вздохнула и объяснила:
– Ну, так вышло, что дедушка у меня из семьи, в которой до революции водились деньги.
То, что бабка дедушки, та самая, запечатленная Репиным, была отпрыском миллионщика-старовера, сколотившего состояние на торговле дегтем, а ее дочку и единственную наследницу увековечил в начале века в Париже Пикассо, Саша упоминать не стала.
– Так что дедушка вырос с английским, немецким и французским практически как с родными, потому что у него было три няньки…
– Три! Черт побери, неплохо! А картины ему что, тоже от дореволюционных предков достались?
Федор на мгновение накрыл своей ладонью руку Саши, однако быстро убрал ее, а девушку словно током ударило.
Собравшись мыслями, она продолжила:
– Ну, кое-что в самом деле досталось, например портрет его бабки кисти Репина или его мамы еще девочкой…
Нет, если она еще выпалит, что ее прабабку написал Пикассо, то Федор явно сочтет ее или безудержной фантазеркой, или невероятным снобом – и вряд ли захочет снова видеться.
– Вот это круто! Твою прабабушку написал сам Репин? И это у вас тоже имеется?
Саша кивнула и добавила:
– Ну, все свои богатства семья дедушки после революции потеряла, его бабушка, та самая, которую писал Репин, умерла от тифа, его мама была пламенной революционеркой, работала в Наркомате народного просвещения, но после убийства Кирова ее в первую же волну репрессий расстреляли…
Ладонь Федора снова легла поверх ее собственной, и на этот раз он и не думал ее убирать.
– Мне очень жаль. А твой дедушка любит искусство, ведь так?
Саша кивнула. Ну да, и, вероятно, это связано с гибелью в период репрессий его матери: коллекцию начала собирать еще она, но после ее ареста все, конечно же, исчезло. Однако дедушка, тогда молодой человек, приложил усилия, чтобы не только обрести потерянное, но с годами, через связи, друзей и посещения блошиных рынков, приобретать все новые и новые экземпляры для своей коллекции.
Которая, вероятно, была данью памяти его расстрелянной матери – и своего навсегда канувшего в Лету детства.
– Ну да, хотя он геоморфолог, то есть занимается процессами формирования Земли. Но коллекцию он собирает уже больше пятидесяти лет…
Потом они прогуливались: сначала там же, по Невскому, потом вдоль Невы, где долго сидели на парапете.
Саша рассказала Федору то, о чем никому не говорила. О гибели родителей на Памире. О том, что папа ее был талантливым ученым и наверняка обрел бы славу как у отца-академика, если бы не лавина. О своей маме со звучным именем Лаура, которая была дочкой каталонского коммуниста Ксави Монткада, бежавшего после прихода к власти в Испании Франко в СССР.
– Так ты еще и наполовину испанка! – изумился Федор, на что Саша с несколько театральной экспрессивностью произнесла:
– Дедушка по матери родом из Барселоны. А это Каталония, не Испания: Cataluña, no España. Я не испанка, я каталонка!
И добавила:
– Ну, мама в большей степени была русской, нежели каталонкой, хотя именно она научила меня фразам и по-каталонски, и по-испански… А вот немецкому меня дедушка научить так и не сумел.
– Ты совсем на испанку не похожа! – заявил Федор, и девушка рассмеялась:
– Ну, не все испанцы выглядят как гранды на картинах Веласкеса или подобны Кармен. Каталония, повторюсь, не Испания, там много светловолосых и голубоглазых, а мой дедушка по маминой линии, оказавшись в СССР, женился на белоруске…
Федор в восхищении посмотрел на нее:
– Мне бы такую семью! Один дедушка академик, другой – коммунист из Испании, вернее, из Каталонии. Одна бабушка – прима-балерина Кировского театра, другая Любовь Орлову хорошо знала. Дома у тебя висят картины, которых и в Эрмитаже-то не найдешь…
А что бы Федор сказал, если бы она сообщила, что, по уверениям мамы, их каталонское семейство Монткада не просто аристократического, а вообще королевского происхождения, потому что их ветвь – прямые, пусть и внебрачные, потомки кастильского короля Альфонса Одиннадцатого Справедливого от одной из его любовниц.
Занятно, что дедушка, каталонский коммунист, очень гордился своим якобы королевским (да еще кастильским!) происхождением, и это ничуть не мешало ему выступать не только против диктатора Франко, но и уже после кончины оного против нового испанского короля.
Саша вдохнула:
– Ну да, а прабабушку расстреляли как врага народа, одна бабушка в возрасте сорока с небольшим лет умерла от рака, другая хоть и до сих пор жива, но давно, увы, в полном маразме. Родители погибли при сходе лавины на Памире. А картины…
Саша посмотрела на лучи заходящего солнца, искрившиеся в золотом луче Адмиралтейства.
– Все эти картины, конечно, прекрасны, они и привели меня на стезю искусствоведа, как я думаю, но жить в музее, поверь мне, не так уж приятно…
Заметив на себе пристальный взгляд Федора, Саша смутилась и быстро произнесла:
– А что это мы все обо мне да обо мне? Расскажи лучше о себе!
Федор, усмехнувшись, вдруг привлек ее к себе и поцеловал: долго, страстно и так по-настоящему…
Ошалев, Саша не сопротивлялась – да и не хотела она, если честно, противиться.
Оторвавшись от ее губ, молодой человек спросил:
– Так про мою стандартную советскую семью в коммуналке рассказать или лучше еще раз поцеловать?
И, не дожидаясь ответа оторопевшей девушки, снова прильнул к ее губам.
Внучка академика, надо сказать, была вполне себе ничего. Федор ведь намеренно не стал дожидаться тогда ее пробуждения, а, приготовив оладьи и накропав записку, покинул квартиру, тихо щелкнув всеми пятью, или сколько их там, замками бронированной двери.
Внучке академика требовалась передышка, и не следовало сразу же идти в наступление по всем фронтам, это, как показывает история, контрпродуктивно.
В особенности когда хочешь обчистить квартиру дедушки этой самой внучки академика.
Он опять же намеренно объявился только на третий день, хотя номер квартиры Ильи Ильича Каблукова у него был с самого начала: еще бы, ведь одна из шалав его приемного отца позвонила внучке академика, выдав себя за кого-то из НИИ Скорой помощи, и сообщила, что дедушка при смерти и надо с ним срочно прощаться.
Дубликаты ключей были сделаны, профессионалы ознакомились с устройством сигнализации, а проверенный человечек, имевший выходы на зарубежье, получил фотографии коллекции картин. Приемный отец очень хвалил Федора и, пригласив к себе в свой недавно оборудованный на Невском офис, налил даже стопку коньяку.
– Ну, ты же знаешь, батя, мне нельзя, для спорта вредно, – поморщился Федор, а приемный отец велел:
– Одну можешь выпить, я разрешаю!
Пришлось пригубить, хотя алкоголя Федор терпеть не мог, чем крайне выгодно отличался от всей челяди своего приемного отца – и от него самого в том числе.
Тот, махнув за первой стопкой вторую, крякнул, вытер седые усы и заявил:
– Горжусь тобой, сын! На настоящую золотую жилу напал!
Федор усмехнулся и поправил:
– Я бы даже выразился: на кимберлитовую трубку!
Приемный отец, пошевелив усами, добавил:
– Любишь ты уж чересчур понтить, бросаясь словами, которых, кроме тебя, никто не сечет, сын. В нашем деле это не так уж хорошо, поверь мне…
– В нашем деле, батя? – переспросил Федор.
Приемный отец, опрокинув и третью стопку, поднялся и прошелся по кабинету своего офиса.
– Ладно, понимаю я тебя, ты умнее всех нас, вместе взятых, но опасно показывать людям, что ты соображаешь быстрее их.
Федор скромно заметил:
– Разве ты мной недоволен?
Приемный отец рубанул рукой в воздухе.
– Ты что, ты мой самый лучший кадр! Но эту свою трубку, как ты ее назвал…
– Кимберлитовую. Из таких алмазы добывают. А они покруче золота.
– Ну да, ну да, убедил, что ты самый умный, Федяка! Но учти, не всем это нравится.
Федор блеснул белыми зубами:
– Я же не алмаз из кимберлитовой трубки, чтобы всем нравиться, батя!
Тот, хохотнув, заявил:
– Да, за словом в карман не лезешь, такие стране нужны, Федяка. В депутаты тебя надо пристроить. А еще лучше – свою партию организовать! Мы тебя еще в президенты упакуем, Федяка!
Федор, у которого были свои планы на жизнь, ответил:
– Батя, давай, прежде чем мы о моем президентстве поговорим, лучше о коллекции академика Каблукова покалякаем. Правильно ли я понимаю, что там основную часть можно за рубеж сплавить и очень неплохие хрусты получить?
Приемный отец кивнул и заявил:
– Кое-что и на родине пристроим, но тут платят меньше.
Федор добавил:
– Лучше все за рубеж, чтобы ничего в России не осталось. Искать же будут. И кстати, мои ведь двадцать пять процентов?
Батя расхохотался:
– Федяка, не наглей. До двадцати пяти процентов тебе еще расти и расти. Ну да, внучку академика окрутил, доступ к квартире обеспечил… Но мы бы и без тебя это заполучили!
– При помощи твои златозубых гопников? Ну да, устроили бы мокруху, девчонку сгубили, зачем все это? Да еще бы только с пяток картин вынесли, а я вам предлагаю все. И попались бы на третий день!
Приемный отец потрепал его по плечу.
– Ценю инициативу, поэтому получишь не два, а три процента. Семь картин твои.
Три процента! Федор еле сдержался, чтобы не выругаться. Он им устроил такую малину, все расписал, слепки ключей добыл, даже код сигнализации на блюдечке с голубой каемочкой преподнес – и три процента.
И то если все будет по-честному, а в этом на батю, несмотря на всю его отеческую любовь, полагаться было никак нельзя.
– Хорошо, три, – ровным голосом заметил Федор.
Ну да, как ни крути, но не свой он у этих уркаганов и гопников, не свой. И никогда, слава богу, своим не станет. Они его презирают, он же их ненавидит. Его терпят, пока батя всем заправляет. А если батю ишемический инсульт накроет, что, с учетом нездорового образа жизни бати, только дело времени?
Или даже геморрагический?
Или банально пристрелит заказной киллер? Или взорвет? Или одна из его цып по ревности прирежет?
То, что батя рано или поздно навсегда отъедет, Федору было понятно с самого начала. И тогда никто не защитит его от своры жадных, беспринципных, гоповатых псин.
Следовало ковать деньги не отходя от кассы – и, заполучив свой куш, свалить от криминала в цивильное русло.
То есть туда, где можно делать еще большие прибыли, чем в преступном мире. Например, стать банкиром или, как теперь модно выражаться, олигархом.
А гоп-стоп в квартире академика Каблукова и был его шансом, причем звездным.
Но семь картин! И ведь Шагал или Кандинский ему не достанутся, всучат всякую требуху.
– Ну что, затягивать не имеет смысла, – сказал Федор. – Дедушка в НИИ и пробудет там еще некоторое время. На квартире только внучка…
– Девчонка, слышал, самый смак, – осклабился батя, – ты ведь наверняка с ней уже перепихнулся, сынок?
Федор поморщился. Ну да, внучка академика была прелестной юной штучкой, но таких в Питере и окрестностях пруд пруди.
Но только у внучки академика имелась коллекция картин баснословной стоимости – и именно они интересовали Федора в данный момент.
Ну и его семь картин. Нет, вы только подумайте: семь! Должны были дать как минимум двадцать, но батя зажал.
– Не перепихнулся и не думаю, – ответил Федор. – Она же не из твоих цып, батя, которые при первой же встрече дают.
– А внучка академика что, при второй? – гоготнул приемный отец. – Ты ее оприходуй, пока возможность есть. А то после гоп-стопа, может, будет более не в кондиции!
Федор холодно заявил:
– Я не для того всю эту пьесу Ионеско затеял и сценарии разработал, чтобы твои гопники заявились к внучке академика, шандарахнули ее по черепу молотком и, вынеся три наименее ценные картины, были пойманы с поличным. Повторяю – брать надо все, максимизируя нашу прибыль. Твою прибыль, батя.
Деньги батя любил, а это было гарантией осуществления бескровного и элегантного плана.
– Никого мочить не потребуется, на Восьмое марта я пригласил ее в ресторан, и пока мы будем там, вы всем и займетесь. Фургон «Доставка мебели» готов?
Батя кивнул.
– Вот и отлично. Будете вносить и выносить в квартиру академика Каблукова ящики. Соответствующие объявления от имени домоуправления о том, что имеет место доставка мебели, на дверях вывесите, а потом снимете. Внизу постоит обученный человек в спецовке с эмблемой фирмы по перевозке мебели, который станет отвечать на все вопросы соседей, если таковые последуют, и будет на шухере. Сигнализация, естественно, не сработает. О том, что академик в больнице, соседи по большей части даже не в курсе. Для всех происходящее будет выглядеть как доставка новой мебели с вывозом старой. Если работать слаженно, то все можно сделать меньше чем за час. Картины брать с рамами, время на то, чтобы их снять, не тратить. Ящики заполнять аккуратно, не повреждая товар, потому что это наши деньги. Твои деньги, батя.
Тот, погладив усы, хряпнул еще одну стопку, предложив и Федору, но тот благоразумно отказался.
– Нравится мне это, Федяка, очень даже нравится! На глазах у всех этих фраеров вынесем все картины, и никто тревоги не поднимет! Ну а если поднимет…
Он осклабился, а Федор добавил:
– Повторяю, без эксцессов. Ну то есть без ненужной мокрухи. Убивать бабку-поэтессу, которая соизволила поинтересоваться, что в ящиках, не надо. Вежливо объясните, что это сделанные по заказу витрины для геологических экспонатов академика Ильи Ильича. Улыбнитесь, дайте нормальный ответ – и от вас отстанут и позволят вынести все картины.
Опустошив бутылку коньяка, батя заметил:
– Это, как ты любишь выражаться, сынок, войдет в этот, как его, анал ментовской истории! Вынесли все на глазах у всех, и никто ничего не понял!
Федор поправил:
– В анналы истории, батя. То есть в годовые хроники. А то, что войдет, ты прав. Поэтому позаботьтесь об отпечатках и об узнаваемых рожах. Работать только в перчатках, что при доставке мебели ни у кого не вызовет подозрений, и в париках и с фальшивыми усами.
Батя замахал руками:
– Ну, не гони волну, не первый мой гоп-стоп и, дай бог, не последний! Ладно, классом погуще, чем все предыдущие, это верно, но мои люди дело знают. А ты, стало быть, девчонку будешь окучивать, пока мы картины тягать станем?
– Кто-то же должен окучивать, ведь так? У твоих золотозубых гопников как-то не очень вышло. Кроме того, не забывай, я автоматически окажусь под подозрением, когда все вскроется. А вскроется очень и очень быстро, стоит ей только вернуться домой и обнаружить голые стены. Я был у нее в квартире, я знал о коллекции, я – недавнее случайное знакомство, что уже само по себе весьма подозрительно. Поэтому мне нужно железобетонное алиби, а внучка академика мне его и обеспечит, одновременно открывая вам полный доступ к квартире.
Батя крякнул, а Федор усмехнулся и добавил:
– Да, мы проведем с Сашей воистину незабываемое Восьмое марта.
Саша была сама не своя, когда отправлялась на встречу с Федором – нет, не на встречу, а на их свидание.
Их первое официальное свидание, назначенное на Восьмое марта.
День было хмурый, ветреный, хоть и теплый, со свинцового балтийского неба срывались тяжелые капли, но Саше было решительно наплевать, на улице мог бушевать муссон, тайфун и даже самый настоящий Эль-Ниньо – она ведь сегодня снова увидит Федора!
Федю, как она называла молодого человека про себя.
Своего молодого человека: в этом сомнений быть уже не могло.
Восьмого марта они встретились опять около «Вани Гога», и Федор преподнес ей белую розу – одну-единственную. А потом, чувственно поцеловав, сказал:
– Нет, пойдем мы сегодня не сюда, ты ведь не против?
Со своим любимым – а Саша уже знала, что могла называть Федора именно так, – она была готова идти куда угодно.
Их ждал отдельный столик в «Англетере» и праздничное меню. Взволнованная Саша ловила каждое слово Федора, хотя болтали они о сущих пустяках.
Взяв ее руки в свои, молодой человек произнес:
– Знаешь, я хочу сказать, что…
Неужели он признается ей в любви?
– …что крайне благодарен судьбе за то, что она свела нас вместе. Крайне благодарен!
И легонько поцеловал ее пальчики.
Млея, Саша желала одного: чтобы этот день никогда не заканчивался. Потеряв счет времени, она сказать не могла, как долго они провели в итоге в ресторане – час, два или все пять. Кормили их чем-то изысканно-парадным, но и это не сохранилось в памяти девушки: смотрела она не в тарелку, а на Федора.
А как она отреагирует, если он сделает ей сегодня предложение? Хотя кто делает предложение на втором свидании?
Может быть, он?
Федор скучал – внучка академика все время таращилась на него, как будто он был привидением, и он уже не сомневался: она встрескалась в него по уши. Ну что он мог поделать, если в него влюблялись, – такой уж он очаровашка!
Обед в «Англетере» был его задумкой. Конечно же, они бы могли остаться в пролетарском «Ване Гоге» или вообще заглянуть в какую-нибудь пельменную около Московского вокзала: эффект был бы все тот же: внучка академика таращилась бы на него, ловя каждое его слово, то и дело вздыхая и прижимая к груди подаренную им розу.
Цветок он стянул из букета какого-то зазевавшегося кавалера, который ожидал свою любимую.
Не покупать же, в самом деле!
То и дело Федор поглядывал на часы, кляня время за то, что оно тянется как резиновое. Ну да, вообще-то на операцию изъятия было отведено не больше часа, однако это не значило, что, просидев с внучкой академика час в «Англетере», ему следовало, внезапно вскочив, заявить, что «кина не будет».
Надо удерживать ее до вечера, чтобы и подозрений не возбудить, и чтобы она не заявилась домой в самое неурочное время, когда гопнички бати выносят коллекцию ее дедушки.
Пришлось жертвовать целым днем.
После ресторана Федор мягко сказал, что они могли бы сходить в кино, но лучше прогуляются, и взял Сашу под руку. И тут она сама его поцеловала: быстро, робко и в щеку.
Молодой человек, улыбнувшись, что-то сказал, а Саша вспыхнула: никогда бы не подумала, что способна на такое.
А ведь она его любит!
Господи, да внучка академика его, похоже, любит! Этого еще не хватало. Ну да, одно дело, если бы у нее возникли к нему романтические чувства.
Ну или даже сексуальные.
А внучка академика, теперь Федор в этом уже не сомневался, наверняка считает его своим суженым и будущим мужем.
Час от часу не легче!
Ну да, недавно он бы счел за счастье стать мужем внучки академика: ей девятнадцать, ему двадцать один, почему бы, собственно, и нет? Ее дедушка и родители, которых у нее теперь нет, наверняка помогли бы ему при помощи своих связей сделать отличную карьеру и пристроили бы его на теплое местечко.
Но все это было в далеком прошлом: и возможности родителей внучки академика, и могущество самого деда, уже и деканом-то не являвшегося, и то время, когда Федор нуждался в их связях, протекциях и замолвленном словечке.
Как и страна, в которой они все родились и выросли.
Теперь ему требовались не связи академика, а исключительно его картины: на все остальное имеется рынок и незамысловатая, но столь эффективная схема «товар-покупатель-продавец».
Товар находился в элитной хате академика, единственная возможность добраться до него была через внучку академика, и он использовал свой шанс.
И ради этого пришлось шастать вдоль Невы, держаться за руки, вздыхать, млеть, блеять какую-то чушь.
Ну и немного целоваться и аккуратненько лапать внучку академика, что было, в сущности, его бенефитом с этого долгого, нудного и никчемного свидания.
Ну, не единственным бенефитом: не стоит забывать о семи картинах, пусть и второстепенных, которые в этот момент, как Федор искренне надеялся, уже полностью были погружены в фургон с надписью «Доставка мебели» и ехали за город, в неприметный склад около железнодорожных путей.
Федор был нежен и предупредителен, как и в прошлый раз. И несколько раз поцеловал Сашу, что доставляло ей небывалое наслаждение.
Они говорили обо всем на свете: узнали, что оба любят собак, черную смородину и Бродского. Что равнодушны к алкоголю, но сходят с ума от мороженого. Что, сами того не подозревая и, конечно же, не сталкиваясь, присутствовали четыре года назад на концерте группы «Скорпионз» в Ленинграде – и оба посетили его тайком от родителей.
Хотя кто знает, может, и сталкивались.
Федор чувствовал, что у него раскалывается голова. Кто бы мог знать, что это свидание с внучкой академика окажется таким занудным. Хорошо, что девчонка сама поведала, от чего она без ума, и ему приходилось только поддакивать, заявляя, что и ему нравится именно это.
Ну да, она что, в самом деле считала, что он читает этого, как его, Бродского? Кто этот щегол, да, слышал, но читать? Зачем? Вот печатавшиеся в диком количестве в аляповатых обложках российские боевики – это было в его вкусе, а все эти поэты и барды…
А вот на концерте «Скорпионз» он был, тут ничего сочинять не пришлось: правда, ему жутко не понравилось, находился он далеко от сцены и вообще тогда, молодой и глупый, перебрал лишнего и его полконцерта тошнило.
Мартовский закат в прозрачном, подернутом легкой дымкой балтийском небе был потрясающим. Впрочем, даже если бы шел нудный ливень, Саше было бы все равно: ведь рядом с ней находился Федор.
Ее Федор.
Она сама взяла его за руку и чувствовала себя так покойно и счастливо. День завершался, но ведь ей вовсе не обязательно было возвращаться домой: они могли гулять и всю ночь, и весь последующий день.
– Тебе ведь не холодно? – заботливо спросила Саша, и Федор, поцеловав ее, ответил:
– С тобой мне всегда очень и очень тепло, любимая!
Он что, в самом деле назвал ее любимой? Ну да, выходило, назвал. И чего они шляются тут по набережной Невы, все равно ничего нового не обнаружат. А дул пронизывающий ветер, он весь до мошонки промерз. Ну Эрмитаж, ну Троицкий мост, ну Адмиралтейство. Зуб на зуб от мартовского холода не попадал, тем более что он, идиот, оделся легко, выпендриться захотел. Думал, посидит с девчонкой в ресторане, поболтает немного, ну потискает немного на лавочке – на этом все и закончится.
Однако нет, внучка академика не хотела расставаться с ним, это было ясно как божий день, пришлось подыгрывать. Надо было с самого начала выдумать что-то про больную маму, к которой ему надо сгонять, ну или хотя бы про находящуюся при смерти бабушку.
«Вспоминать» про бабушку теперь было бы как-то подозрительно.
То и дело посматривая украдкой на часы, Федор не сомневался: операция по изъятию дедушкиной коллекции давно завершилась и фургон с надписью «Доставка мебели» уже благополучно покинул черту Ленинграда и находился на складе, где товар принимали, оприходовали и сортировали знающие люди.
Так что он, черт побери, делает в компании с девчонкой на продуваемой пронизывающим ветром набережной?
– Тебе точно не холодно? – заботливо спросила Саша и поправила воротник легкого пальто Федора. Только сейчас ей стало ясно, что молодой человек стучит зубами.