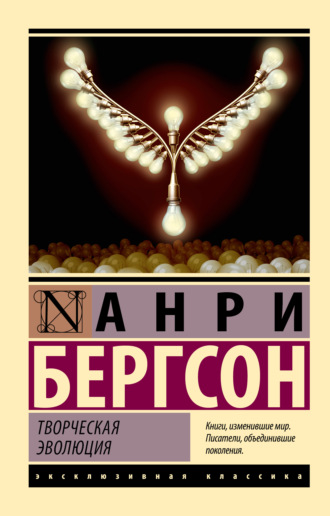
Анри Бергсон
Творческая эволюция
Действительно, если ставить вопрос о функции и органе, как это делала концепция целесообразности и как делает сам механицизм, то его трудно разрешить. Ибо орган и функция – понятия разнородные и настолько обусловливающие друг друга, что невозможно сказать a priori, с какого из них лучше начать при изложении их взаимоотношений: с первого ли, как хочет механицизм, или со второго, как требует теория целесообразности. Но мы полагаем, что спор может принять совсем другой оборот, если сравнить между собою сначала два объекта одной и той же природы, – орган с органом, а не орган с функцией. Так можно было бы постепенно приближаться ко все более и более правдоподобному решению. И тем больше будет шансов дойти до конца, чем смелее мы примем эволюционную гипотезу.
Вот, рядом с глазом позвоночного, глаз такого моллюска, как морской гребешок. В обоих есть одни и те же основные части, состоящие из аналогичных элементов. Глаз морского гребешка, как и наш глаз, имеет сетчатую оболочку, роговую оболочку, хрусталик с ячеистой структурой. В нем можно заметить даже то специфическое смещение элементов сетчатки, которое вообще не встречается у беспозвоночных. Конечно, можно спорить о происхождении моллюсков, но какого бы взгляда ни придерживаться, все же никто не будет оспаривать, что моллюски и позвоночные отделились от их общего ствола задолго до появления столь сложного глаза, как глаз морского гребешка. Откуда же тогда эта аналогия в строении?
Зададим этот вопрос поочередно двум противоположным друг другу системам объяснения, стоящим на эволюционной точке зрения: как решают его гипотеза чисто случайных изменений и гипотеза изменений, определенным образом ориентированных под влиянием внешних условий?
Что касается первой, то известно, что в настоящее время она представлена двумя весьма различными формами. Дарвин говорил об очень незначительных изменениях, которые накапливаются путем естественного отбора. Он знал о фактах внезапных вариаций, но этот «спорт», как он выражался, мог давать, по его мнению, только уродства, неспособные продолжаться; происхождение же видов он объяснял только накоплением незначительных изменений. Такой точки зрения придерживаются еще многие натуралисты. Но она готова уступить место противоположной идее, согласно которой новый вид возникает сразу, в результате одновременного появления многих новых признаков, отличных от прежних. Эта гипотеза, выдвинутая разными авторами, в частности Бэтсоном в его замечательной книге, приобрела глубокий смысл и стала очень влиятельной со времени знаменитых опытов Хуго де Фриза. Этот ботаник, произведя опыты над Oеnothera Lamarckiana, получил через несколько поколений определенное число новых видов. Теория, выведенная им из этих опытов, представляет чрезвычайный интерес. В развитии видов, по де Фризу, чередуются периоды устойчивости и изменчивости. Когда наступает период «изменчивости», виды создают на множестве различных направлений совершенно неожиданные формы. Мы не рискуем принять сторону ни этой теории, ни теории незначительных изменений. Возможно, что обе они содержат в себе долю истины. Мы хотим только показать, что те изменения, о которых идет речь, неважно, велики они или малы, – будучи случайными, не могут объяснить описанного выше сходства в структуре.
Возьмем вначале дарвиновскую теорию незначительных изменений. Допустим, что существуют небольшие различия, которые вызваны случайностью и постоянно накапливаются. Не нужно забывать, что все части организма по необходимости скоординированы друг с другом. Неважно, является ли функция следствием или причиной органа: неоспоримо одно – то, что орган лишь тогда может помочь отбору или вызвать его, когда он функционирует. Если тонкая структура сетчатки развивается и усложняется, то этот прогресс не будет благоприятствовать зрению, а, без сомнения, расстроит его, если в то же время не развиваются и зрительные центры, и различные части самого зрительного органа. Если изменения случайны, то слишком очевидно, что они не могут условиться друг с другом о том, чтобы произойти одновременно во всех частях органа и дать ему возможность и дальше выполнять свою функцию. Дарвин прекрасно это понимал, что и было одним из оснований его гипотезы о незначительных изменениях. Отличие, которое случайно появится в одной точке зрительного аппарата, не помешает функционированию органа; и с той поры это первое случайное изменение может как бы ожидать, что к нему присоединятся дополнительные изменения и поднимут зрение на одну ступень по пути совершенствования. Пусть будет так; но если незначительное изменение не мешает функционированию глаза, оно также и не станет полезным ему до тех пор, пока не произойдут дополнительные изменения: как может оно тогда сохраниться путем отбора? Поневоле рассуждают так, как если бы незначительное изменение было пробным камнем, заложенным организмом и сохраняющимся для дальнейшей постройки. И, кажется, трудно избежать этой гипотезы, столь мало согласующейся с принципами дарвинизма, даже при анализе органа, развившегося на одной великой эволюционной линии, как, например, глаз позвоночного. Когда же замечаешь сходство в строении глаза позвоночного и моллюска, то она приобретает безусловную необходимость. И в самом деле, как можно предположить, чтобы бесчисленное множество незначительных изменений происходило в одном и том же порядке на двух самостоятельных эволюционных линиях, если они были совершенно случайны? И как могли они сохраняться путем отбора и накапливаться с той и другой стороны – одинаковые, в одном и том же порядке, – если каждое из этих изменений по отдельности не несет никакой пользы?
Перейдем теперь к гипотезе внезапных изменений и посмотрим, сможет ли она решить проблему. Конечно, она смягчит затруднение в одном пункте; но зато сильно увеличит его в другом. Если глаз моллюска, как и глаз позвоночных, поднялся до современной формы путем относительно небольшого числа внезапных скачков, то не легче понять сходство обоих органов, чем если бы форма эта сложилась в результате последовательного приобретения бесчисленного количества бесконечно малых сходных изменений; в обоих явлениях действует случай, но во втором от него не требуют чуда, которое ему предстояло бы совершить в первом. Здесь не только сокращено число сходств, которые я должен складывать, но и более понятно, что каждое из них сохраняется с целью присоединения к другим, ибо элементарное изменение на этот раз достаточно значительно, чтобы принести пользу живому существу и подпасть, таким образом, под действие отбора. Но тут возникает другая, не менее опасная, проблема: каким образом все части зрительного аппарата при внезапном их изменении сохраняют столь хорошую координацию, что глаз продолжает функционировать? Ведь изменение одной какой-нибудь части, раз оно уже не является бесконечно малым, сделает зрение вообще невозможным. Нужно поэтому, чтобы все части изменялись одновременно и при этом каждая совещалась с другими. Я согласен, что у менее удачливых индивидов появляется множество некоординированных изменений, что естественный отбор их устраняет и выживает лишь одна жизнеспособная комбинация, то есть такая, которая способна сохранить и улучшить зрение. Но нужно еще, чтобы получилась такая комбинация. И если далее мы допустим, что случай однажды оказал такую милость, то можно ли предположить, чтобы он повторял ее в ходе истории вида, порождая каждый раз одновременно новые усложнения, чудесным образом приспособленные друг к другу и продолжающие собою прежние? Можно ли, в частности, допустить, что эти внезапные изменения, будучи рядом простых «случайностей», окажутся одинаковыми на двух самостоятельных эволюционных линиях, появляясь в одном и том же порядке и представляя каждый раз полное согласие все более многочисленных и сложных элементов?
Ссылаются, правда, на закон корреляции, к которому обращался и сам Дарвин. Указывают на то, что изменение не локализуется в одной точке организма, что в других точках обязательно существует его отражение. Примеры, приведенные Дарвином, остаются классическими: белые кошки с голубыми глазами обычно бывают глухими, собаки, лишенные шерсти, имеют неполное число зубов и т. д. Пусть будет так. Но не будем злоупотреблять словом «корреляция». Одно дело – совокупность взаимосвязанных изменений, а другое – система изменений дополнительных, то есть скоординированных друг с другом таким образом, чтобы поддерживать и даже совершенствовать функционирование органа в более сложных условиях. То, что аномалия волосяного покрова сопровождается аномалией в росте зубов, не требует специального объяснения: шерсть и зубы – однородные образования, и химическое изменение зародыша, препятствующее образованию шерсти, будет, конечно, мешать и формированию зубов. Вероятно, причинам того же рода нужно приписать и глухоту белых кошек с голубыми глазами. В этих различных примерах «коррелятивные» изменения являются только изменениями взаимосвязанными (не говоря уже о том, что это дефекты, – то есть уменьшение или уничтожение чего-либо, а не прибавление, что совсем не одно и то же). Но когда нам говорят о «коррелятивных» изменениях, вдруг появляющихся в различных частях глаза, то это слово берется в совершенно ином смысле: на этот раз речь идет о совокупности изменений не только одновременных, не только связанных общностью происхождения, но и скоординированных между собой таким образом, что орган продолжает выполнять ту же самую простую функцию, и даже с большим успехом. Можно еще согласиться с тем, что изменение зародыша, влияющее на образование сетчатки, действует одновременно на роговую и радужную оболочки, на хрусталик, на зрительные центры и т. д., хотя, конечно, все эти образования совсем по-иному гетерогенны, чем шерсть и зубы. Но чтобы все эти одновременные изменения шли в направлении совершенствования или даже просто поддержания зрения, этого-то я и не могу признать в гипотезе внезапных изменений, если только не прибегнуть к какому-нибудь таинственному началу, заботящемуся о функционировании органа; но это значило бы отказаться от идеи «случайных» изменений. В действительности эти два значения слова «корреляция» часто смешиваются в уме биолога, как и два значения слова «приспособление». Смешение это почти законно в ботанике, где теория образования видов путем внезапных изменений покоится на прочнейшей опытной базе. Действительно, у растений функция далеко не так тесно связана с формой, как у животного. Глубокие морфологические отличия, такие как изменения в форме листьев, не влияют заметным образом на функции органа и не требуют, следовательно, целой системы дополнительных переделок, чтобы растение оставалось жизнеспособным. Совсем не так у животного, особенно если взять такой орган, как глаз, с его чрезвычайно сложной структурой и вместе с тем столь тонкой функциональной деятельностью. Напрасно пытаются в данном случае отождествить изменения, просто взаимосвязанные, с теми, которые являются еще и дополнительными. Нужно четко различать два смысла слова «корреляция»: принимать в предпосылках рассуждения один смысл, а в заключении – другой – означало бы погрешить против логики. И однако именно это и делают, когда при объяснении деталей, желая интерпретировать дополнительные изменения, привлекают принцип корреляции, а затем говорят о корреляции вообще, как будто бы она была лишь некоей совокупностью изменений, вызванных каким-то изменением зародыша. Вначале идею корреляции используют в обычной науке так, как это мог бы сделать защитник целесообразности: говорят себе, что это – просто удобный способ выражения, что его исправят и вернутся к чистому механицизму, когда объяснят природу принципов и перейдут от науки к философии. Действительно, тогда возвращаются к механицизму; но при том условии, что слово «корреляция» берется в новом смысле, уже не пригодном для детальных объяснений.
Итак, если случайные изменения, определяющие эволюцию, являются незначительными, то для того, чтобы их сохранить и накопить, нужно призвать доброго гения – гения будущего вида, – ибо отбор не сможет взять этого на себя. Если, с другой стороны, случайные изменения внезапны, то прежняя функция сможет продолжать действовать или будет заменена новой лишь в том случае, когда все появившиеся сразу изменения дополняют друг друга с целью выполнения одного и того же акта. И вновь придется прибегнуть к доброму гению: на этот раз для того, чтобы добиться совпадения всех одновременных изменений, тогда как в первом случае он должен был обеспечить непрерывность в направлении изменениям последовательным. Ни в том ни в другом случае параллельное развитие тождественных сложных структур на самостоятельных эволюционных линиях не может быть связано с простым накоплением случайных изменений.
Перейдем теперь ко второй из двух главных гипотез, которые мы должны исследовать. Предположим, что изменения обязаны не случайным и внутренним причинам, но прямому влиянию внешних условий. Посмотрим, как можно в этом случае объяснить сходство строения глаза в самостоятельных рядах существ с филогенетической точки зрения.
Хотя моллюски и позвоночные шли по пути эволюции раздельно, те и другие подвергались влиянию света. Свет же есть физическая причина, порождающая определенные следствия. Действуя непрерывно, она могла вызывать постоянное изменение в одном и том же направлении. Конечно, невероятно, чтобы глаз позвоночных и глаз моллюсков сформировались путем ряда изменений, обязанных простой случайности. Если допустить, что свет действует здесь как орудие отбора, обеспечивая существование лишь полезных изменений, то нет никаких шансов на то, чтобы игра случая, даже при таком заботливом присмотре извне, могла привести и там и тут к одному и тому же рядоположению одинаково скоординированных элементов. Другое дело, если предположить, что свет действует непосредственно на организованную материю, изменяя ее структуру и как бы приспосабливая ее к своей собственной форме. Сходство двух следствий объясняется на этот раз просто тождеством причины. Глаз, постепенно усложняющийся, является словно бы все более и более глубоким отпечатком света на материи, которая, будучи организованной, обладает свойством sui generis получать этот отпечаток.
Но можно ли сравнить органическую структуру с отпечатком? Мы уже говорили о двусмысленности термина «приспособление». Одно дело – постепенное усложнение формы, которая все более и более прилаживается ко внешним условиям, и другое – постепенно усложняющееся строение орудия, извлекающего все большую пользу из этих условий. В первом случае материя всего лишь получает некий отпечаток, во втором же она реагирует активно, она разрешает проблему. Когда говорят, что глаз все лучше и лучше приспосабливается к влиянию света, то, очевидно, используют слово во втором смысле. Но более или менее бессознательно переходят от второго к первому, и чисто механистическая биология постарается отождествить пассивное приспособление инертной материи, подвергающейся влиянию среды, и активное приспособление организма, который извлекает из этого влияния соответствующую пользу. Мы, впрочем, признаем, что сама природа словно побуждает наш разум смешивать эти два рода приспособления, ибо там, где со временем она должна создать механизм, реагирующий активно, она начинает обычно с пассивного приспособления. Так, в интересующем нас случае первым зачатком глаза является, бесспорно, пигментное пятно низших организмов; скорее всего, оно возникло под действием физической причины – света; с другой стороны, наблюдается масса посредников между простым пигментным пятном и сложным глазом позвоночного. Но из того, что мы постепенно переходим от одного предмета к другому, не вытекает, что их природа одинакова. Из того, что оратор вначале считается со страстями своей аудитории, чтобы затем подчинить их себе, нельзя заключить, что следовать и управлять – одно и то же. Живая же материя не имеет, по-видимому, иных средств извлекать пользу из обстоятельств, кроме первичного пассивного приспособления к ним. Там, где она должна управлять движением, она начинает с того, что не спорит с ним. Жизнь действует осмотрительно. Сколько бы нам ни указывали посредников между пигментным пятном и глазом, между ними всегда будет то же расстояние, что между фотографией и фотоаппаратом. Конечно, фотография постепенно продвигалась в направлении фотоаппарата. Но мог ли один только свет, физическая сила, совершить этот переход и превратить оставленный им отпечаток в механизм, способный использовать этот свет?
Могут заметить, что мы напрасно вводим утилитарные соображения; что не глаз создан, чтобы видеть, но мы видим потому, что у нас есть глаза; что орган есть то, что он есть, а «полезность» – слово, которым мы обозначаем то, что вытекает из функционирования данной структуры. Но когда я говорю, что глаз «извлекает пользу» из света, я понимаю под этим не только то, что глаз способен видеть; я указываю на весьма точное соответствие между этим органом и системой органов движения. Сетчатая оболочка у позвоночных переходит в зрительный нерв, который, в свою очередь, продолжается через сплетения мозговых центров в органы движения. Наш глаз извлекает пользу из света в том смысле, что он позволяет нам путем соответствующих реакций пользоваться предметами, которые мы считаем полезными, и избегать тех, которые кажутся нам вредными. Мне легко могли бы возразить, что если свет физическим путем произвел пигментное пятно, то он может таким же образом обусловить движение определенных организмов: реснитчатые инфузории, к примеру, реагируют на свет. Тем не менее никто не станет утверждать, что влияние света физическим путем привело к возникновению нервной, мускульной, костной систем, – всего, что связано со зрительным аппаратом у позвоночных. По правде говоря, когда объясняют постепенное образование глаза, а тем более когда связывают глаз с тем, что неотделимо от него, то вводят уже нечто совсем иное, чем прямое действие света. Организованной материи неявно приписывается некая сила sui generis, таинственная способность создавать очень сложные устройства, чтобы извлекать пользу из простого возбуждения, влиянию которого она подвергается.
А между тем этого как раз и стремятся избежать. Хотят, чтобы физика и химия дали нам ключ ко всему. Фундаментальная работа Эймера поучительна в этом отношении. Известно, какие усилия приложил этот биолог, чтобы показать, что преобразование совершается путем непрерывного влияния внешнего на внутреннее во вполне определенном направлении, а не путем случайных изменений, как полагал Дарвин. Теория Эймера основана на чрезвычайно интересных наблюдениях, отправным пунктом которых было изучение передвижений некоторых ящериц в связи с изменением окраски их кожи. С другой стороны, уже давние опыты Дорфмейстера показывают, что из одной и той же куколки, в зависимости от того, подвергается ли она действию холода или тепла, могут выйти сильно различающиеся бабочки, которые долгое время рассматривались как отдельные виды, – Vanessa levana и Vanessa prorsa; средняя температура дает промежуточную форму. Можно было бы отнести сюда и интересные превращения, наблюдаемые у маленького ракообразного – Artemia salina – в соответствии с тем, увеличивают или уменьшают количество соли в воде, где он обитает[7]. Во всех этих опытах внешний фактор выступает как причина превращения. Но в каком смысле нужно понимать здесь слово «причина»? Не предпринимая исчерпывающего анализа идеи причинности, мы только заметим, что обычно смешивают три совершенно различных смысла этого слова. Причина может действовать как толчок, как разряд и как развертывание. Биллиардный шар, который направляют на другой, определяет движение последнего путем толчка. Искра, вызывающая взрыв пороха, действует как разряд. Постепенное ослабление пружины, заставляющее вращаться фонограф, развертывает записанную на цилиндре мелодию: если я приму звучащую мелодию за действие, а ослабление пружины за причину, то я скажу, что причина действует здесь путем развертывания. Эти три случая отличаются друг от друга большей или меньшей связью между причиной и действием. В первом случае количество и качество действия изменяются вместе с количеством и качеством причины. Во втором ни качество, ни количество действия не меняются с качеством и количеством причины: действие остается неизменным. В третьем же количество действия зависит от количества причины, но причина не влияет на качество действия: чем дольше будет вращаться цилиндр под действием пружины, тем длиннее будет часть мелодии, прослушанная мною, но природа самой мелодии или той ее части, которую я слушаю, не зависит от действия пружины. Только в первом случае причина объясняет действие, в двух других действие более или менее дано заранее и предпосылка, о которой идет речь, является – правда, в различной степени скорее поводом, чем причиной. Но берут ли слово «причина» в первом смысле, когда говорят, что причиной видоизменения Artemia является количество соли в воде или что температура определяет цвет и рисунок крыльев у куколки, превращающейся в бабочку? Очевидно, нет. Причинность имеет здесь смысл, промежуточный между развертыванием и разрядом. Так это, впрочем, понимает и сам Эймер, когда он говорит о «калейдоскопическом» характере изменения или о том, что изменение организованной материи происходит в определенном направлении, как и кристаллизация неорганизованной материи. Можно еще, пожалуй, согласиться, что в явлении изменения окраски кожи мы имеем дело с процессом чисто физико-химическим. Но если этот способ объяснения применить, например, к постепенному образованию глаза позвоночных, то придется предположить здесь такую физикохимию организма, которая под влиянием света создает последовательный ряд зрительных аппаратов, чрезвычайно сложных и все же способных видеть, и видеть все лучше и лучше. Что мог бы к этому прибавить самый решительный поборник концепции целесообразности, если бы он захотел дать характеристику этой совершенно специфической физикохимии? И не станет ли еще более затруднительным положение механистической философии, когда будет показано, что яйцо моллюска не может иметь такого же самого химического состава, как яйцо позвоночного, а органическая субстанция, развившаяся в первую из этих двух форм, не могла быть химически тождественна той, которая пошла по другому направлению, – и тем не менее под влиянием света в обоих случаях сформировался один и тот же орган?
Чем больше об этом размышляешь, тем становится яснее, насколько несовместимо с принципами механистической философии это выведение одного и того же следствия из двух по-разному накопленных бесчисленных множеств мелких причин. В нашем исследовании мы сосредоточили все усилия на одном примере, взятом из филогенеза. Но онтогенез мог бы дать нам факты не менее убедительные. Ежеминутно на наших глазах у видов, порой близких, природа получает тождественные результаты посредством совершенно различных эмбриональных процессов. В последние годы возросло число наблюдений над «гетеробластией»[8] (Заленский создал этот термин для тех случаев, когда у животных, родственных между собой, образуются на одних и тех же местах соответствующие органы, эмбриологическое хождение которых, однако, различно), и пришлось отказаться от ставшей почти классической теории специфичности каждого зародыша. Вновь обращаясь к нашему сравнению глаза позвоночных и моллюска, мы должны заметить, что сетчатка позвоночных представляет собой разрастание зачатка мозга у зародыша. Это настоящий нервный центр, передвинувшийся к периферии. У моллюсков, напротив, сетчатка возникает прямо из эктодермы, а не косвенно через посредство головного мозга эмбриона. Таким образом, к развитию одной и той же сетчатки у человека и у морского гребешка приводят различные эволюционные процессы. Но даже не доходя до сравнения столь удаленных друг от друга организмов, можно сделать аналогичный вывод, изучая некоторые очень любопытные явления регенерации у одного и того же организма. Если удалить хрусталик у тритона, то наблюдается регенерация хрусталика из радужной оболочки. А между тем первоначально хрусталик строится за счет эктодермы, радужная же оболочка возникает из мезодермы. Более того: если у Salamandra maculata удалить хрусталик, сохраняя радужную оболочку, то регенерация хрусталика происходит за счет верхней части радужной оболочки; но если удалить и эту часть, то регенерация начинается во внутреннем слое оставшейся области, то есть в слое сетчатки. Таким образом, части, по-разному расположенные, различные по составу, выполняющие обычно разные функции, способны замещать одно и то же и создавать, когда это нужно, одни и те же части механизма. Одно и то же следствие вытекает здесь из различных комбинаций причин.
Чтобы объяснить подобную конвергенцию результатов, волей-неволей придется обратиться к внутреннему направляющему началу. Возможность такой конвергенции не выявляется ни в дарвинистской, а главным образом неодарвинистской, теории незначительных случайных изменений, ни в гипотезе внезапных случайных изменений, ни даже в той концепции, которая видит в определенных направлениях эволюции различных органов результат механической комбинации внешних и внутренних сил. Обратимся поэтому к последней из современных эволюционных теорий, о которой нам остается еще упомянуть, – к неоламаркизму.
Известно, что Ламарк приписывал живому существу способность изменяться вследствие использования или неиспользования его органов, а также передавать приобретенное таким образом изменение потомству. И подобной концепции придерживаются многие современные биологи. Изменение, приводящее в конце концов к новому виду, с их точки зрения, не может быть случайным изменением, присущим самому зародышу. Оно не может управляться детерминизмом sui generis, развивающим определенные черты в определенном направлении, независимо от всякой заботы о пользе. Оно рождается из самого усилия живого существа, нацеленного на приспособление к условиям, в которых оно должно жить. Это усилие может быть просто бессознательным упражнением известных органов, механически вызванным давлением внешних обстоятельств. Но оно может также предполагать сознание и волю, и, по-видимому, именно в этом смысле понимает его американский натуралист Коп, один из самых видных представителей этой концепции. Таким образом, из всех современных форм эволюционизма неоламаркизм является единственной, которая может допустить внутренний и психологический принцип развития, хоть она и не всегда к нему прибегает. И это, на наш взгляд, единственная эволюционная теория, объясняющая образование сложных и тождественных органов на самостоятельно развивающихся линиях. В самом деле, известно, что одно и то же усилие, нацеленное на извлечение пользы из одних и тех же обстоятельств, приводит к одному результату, особенно если проблема, поставленная внешними обстоятельствами, из числа тех, которые допускают лишь одно решение. Остается только выяснить, не следует ли тогда брать слово «усилие» в более глубоком, еще более психологическом смысле, чем это делает неоламаркизм.
Действительно, одно дело – простое изменение величины, и совсем иное – изменение формы. Никто не станет оспаривать, что орган может укрепиться и увеличиться путем упражнения. Но отсюда далеко до прогрессивного развития глаза моллюсков и позвоночных. Когда это развитие приписывают непрерывности пассивно воспринимаемого влияния света, то возвращаются к теории, которую мы только что подвергли критике. Если же, напротив, ссылаются на внутреннюю деятельность, то речь должна идти совсем не о том, что мы обычно называем усилием, ибо усилие ни разу не вызвало на наших глазах ни малейшего усложнения органа, а между тем, чтобы перейти от пигментного пятна инфузории к глазу позвоночного, требовалось огромное число таких усложнений, поразительно скоординированных между собой. Примем, однако, эту концепцию эволюционного процесса для животных: но как распространить ее на мир растений? Здесь изменения формы не всегда, по-видимому, связаны с функциональными изменениями, и если причина изменения – психологического порядка, то трудно назвать ее усилием, не расширяя излишне смысла слова. Значит, нужно пойти дальше самого усилия и поискать более глубокую причину.
Это особенно необходимо, на наш взгляд, если хотят найти причину изменений, регулярно передаваемых по наследству. Мы не будем входить в подробности споров о наследовании приобретенных признаков; еще меньше мы хотели бы определенно высказываться по вопросу, который не относится к нашей компетенции. Но мы не можем, однако, совершенно им не интересоваться. Нигде так ясно не чувствуется невозможность для философов придерживаться сегодня неопределенных обобщений, необходимость следовать за учеными в деталях их опытов и обсуждать с ними результаты. Если бы Спенсер вначале поставил вопрос о наследовании приобретенных признаков, его эволюционизм, без сомнения, принял бы совсем иную форму. Если (что кажется вероятным) усвоенный индивидом навык передается его потомкам лишь в исключительных случаях, то вся психология Спенсера нуждается в переработке и большая часть его философии теряет почву под ногами. Итак, объясним, как, на наш взгляд, ставится эта проблема и в каком направлении нужно было бы искать ее решения.
После того как наследование приобретенных признаков было принято как догма, оно было не менее догматически отвергнуто – по причинам, извлеченным а priori из предположения о природе зародышевых клеток. Известно, что гипотеза непрерывности зародышевой плазмы заставила Вейсмана считать зародышевые клетки – яйцеклетки и сперматозоиды – почти независимыми от соматических клеток. Исходя из этого, утверждали, и часто утверждают и теперь, что наследственная передача какого-нибудь приобретенного признака является чем-то непонятным. Но если бы случайно опыт показал, что приобретенные признаки передаваемы, то он доказал бы тем самым, что зародышевая плазма не столь независима, как полагают, от соматической среды, и наследование приобретенных признаков стало бы ipso facto понятным. Это значит, что в подобных спорах дело не в том, понятно ли известное явление или нет: вопрос решается только лишь опытом. Но здесь-то именно и начинаются трудности. Приобретенные признаки, о которых идет речь, чаще всего бывают навыками или результатами навыка. Но очень редко случается, чтобы в основе усвоенного навыка не было естественной склонности, так что всегда может возникнуть вопрос, передался ли навык, появившийся в соме индивида, или, быть может, это скорее естественная склонность, предшествовавшая усвоенному навыку; эта склонность могла быть присуща зародышу, которого индивид носит в себе, как была она уже присуща индивиду, а следовательно, и зародышу, из которого он развился. Так, ничто не доказывает, что крот стал слепым потому, что привык жить под землей: быть может, крот потому и должен был осудить себя на подземное существование, что глаза его начинали атрофироваться. В последнем случае тенденция к утрате зрения должна была передаваться от одного зародыша к другому, в то время как сома самого крота ничего не приобретала и не теряла. Из того, что сын отличного стрелка гораздо раньше научился прекрасно владеть оружием, чем в свое время его отец, нельзя заключить, что навык родителя передался ребенку, ибо некоторые естественные склонности по мере своего роста могли перейти от зародыша, из которого развился отец, к тому, из которого вырос сын, увеличиться в пути под действием первоначального порыва и обеспечить сыну большую ловкость по сравнению с отцом, совершенно, так сказать, не заботясь о том, чем занимался отец. То же самое относится ко многим примерам постепенного приручения домашних животных: трудно сказать, передается ли здесь усвоенный навык или, скорее, некая естественная склонность, та самая, которая заставила выбирать для приручения именно тот или иной вид или определенных его представителей. По правде говоря, если исключить все сомнительные случаи, все факты, способные вызвать разные толкования, то абсолютно бесспорными примерами приобретенных и переданных особенностей останутся только известные опыты Броун-Секара, повторенные и подтвержденные различными физиологами. Рассекая у морских свинок спинной мозг или седалищный нерв, Броун-Секар вызывал эпилептическое состояние, которое они передавали своему потомству. Повреждения этого же седалищного нерва, веревочного тела (corpus restiforme) и др. вызывали у морских свинок разнообразные расстройства, которые передавались потомству в самых различных формах: в пучеглазии, в недостатке пальцев и т. д. Но не доказано, действительно ли в этих различных случаях наследственной передачи сома животного влияла на его зародышевую плазму. Уже Вейсман замечал, что операция Броун-Секара могла ввести в тело морской свинки некоторые особые микробы, которые находили в нервной ткани свою питательную среду и переносили болезнь, проникая в половую сферу. Это возражение было устранено самим Броун-Секаром. Но можно было бы выдвинуть и другое, более приемлемое. Из опытов Вуазена и Перона вытекает, что припадки эпилепсии сопровождаются выделением ядовитого вещества, которое при впрыскивании его животным вызывает у них приступы конвульсии. Возможно, что расстройства системы питания, сопровождающие производимые Броун-Секаром повреждения нервов, как раз и приводят к образованию яда, вызывающего конвульсии. В таком случае яд передается от морской свинки ее сперматозоиду или яйцеклетке и обусловливает общее расстройство развития зародыша, которое, однако, может внешне проявиться только в том или ином органе уже развившегося организма. Все может происходит здесь так, как в опытах Шаррена, Деламара и Муссю. Беременные морские свинки с поврежденной печенью или почкой передавали это повреждение своему потомству просто потому, что повреждение органа матери порождало специфические «цитотоксины», которые и влияли на соответствующий орган зародыша. Правда, в этих опытах, как, впрочем, и в прежних наблюдениях тех же физиологов, влиянию токсинов подвергался уже сформировавшийся плод. Но другие исследования Шаррена в конце концов показали, что при помощи аналогичного механизма то же самое действие может быть оказано на сперматозоиды и яйцеклетки. Таким образом, наследование приобретенных признаков в опытах Броун-Секара может быть объяснено отравлением зародыша. Повреждение, как бы хорошо оно, по-видимому, ни было локализовано, могло передаться посредством того же процесса, что и, скажем, алкоголизм. Не так ли обстоит дело и со всеми приобретенными признаками, которые становятся наследственными?


