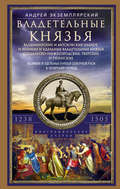Андрей Экземплярский
Великие князья Владимирские и Владимиро-Московские. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г.
Димитрий Михайлович Тверской
Род. в 1299 г. – ум. в 1325 г
Димитрий Михайлович, прозванием Грозные Очи, как мы видели при обозрении княжения Юрия Даниловича, выхлопотал себе ярлык на великое княжение в 1322 г. и был великим князем до убийства его в Орде 15 сентября 1326 г. Полные биографические сведения об этом князе см. во II томе, в разделе о князьях Тверских.
Александр Михайлович Тверской
Род. в 1301 г. – ум. в 1339 г
Хотя хан после своевольного поступка Димитрия Михайловича, как уже было замечено выше, и гневался на тверских князей, называя их крамольниками и бунтовщиками, тем не менее, после убийства Димитрия, великокняжеский стол отдал не московскому князю, брату Юрия, а тверскому, брату Димитрия, Александру Михайловичу.
Впрочем, Александр Михайлович носил великокняжеский титул непродолжительное время: великим князем он объявлен по убиении брата его Димитрия (умер 15 сентября 1325 г.), а лишился великокняжеского достоинства, как и достоинства князя Тверского, после известного избиения в Твери татар, пришедших с Шевкалом, 15 августа 1327 г. Полная биография его помещена во II томе, в разделе о князьях Тверских.
* * *
После Александра Михайловича великокняжеский титул перешел к московскому князю Ивану Даниловичу и навсегда остался за его потомством, если не считать временного, случайного и непродолжительного занятия великокняжеского стола Димитрием Константиновичем Суздальским.
В кратком вступлении в этот раздел мы уже указывали на то, что великих князей, начиная с Ивана Даниловича до Василия Темного, следует называть по преимуществу Владимиро-Московскими и великое княжество – Владимиро-Московским.
Великое княжество Владимиро-Московское
Иван Данилович Калита
Род. в 1304 г. – ум. в 1341 г
После Юрия из Даниловичей в живых оставался только Иван: остальные братья умерли бездетными. Таким образом Иван Данилович один наследовал всю Московскую волость и успел утвердить за своим родом великокняжеский титул182.
Мы видели, что в 1304 г. брат Ивана Даниловича Юрий, отправляясь в Орду тягаться с Михаилом Ярославичем Тверским о великокняжеском титуле, отправил в Кострому своего брата Бориса. Тверские бояре в отсутствие своего князя, блюдя интересы последнего, хотели схватить отправлявшегося тогда в Орду Юрия, что им не удалось; но им удалось захватить и отправить в Тверь Бориса Даниловича. Тверичи даже готовились овладеть Переяславлем; но об этом кто-то тайно дал знать в Москву, и Иван Данилович с московской и переяславской ратями, укрепив своих бояр и переяславцев крестным целованием (значит, была опасность измены), встретил под Переяславлем тверскую рать, во главе которой стоял боярин Акинф, перешедший, по смерти Андрея Александровича, из Городца в Тверь. У Переяславля произошел крепкий бой, в котором пал и Акинф, а остатки рати с его детьми бежали в Тверь183. Между тем в 1305 г. Юрий возвратился в Москву, не получив на великокняжеский стол ярлыка, который достался Михаилу Тверскому. Теперь тверской князь, конечно желая окончательно смирить своего врага, подошел к Москве, но взять ее не смог и ушел, примирившись с Даниловичами184. Затем до 1320 г. летописи только мимоходом упоминают об Иване Даниловиче: в 1317 г., по некоторым известиям185, Юрий, готовясь выступить, вместе с Кавгадыем против Твери, послал Ивана в Новгород – звать новгородцев в поход; затем в 1320 г. Иван Данилович участвует в походе своего брата Юрия на рязанского князя Ивана Ярославича, с которым, впрочем, заключен был мир186. В том же 1320 г. Иван Данилович отправился в Орду, где пробыл более года. Эта поездка была, вероятно, как-то связана с предшествующими событиями; по крайней мере, после того как в 1321 г. Юрий, по миру, взял с Димитрия Тверского 2000 серебра выходу и ушел в Новгород, чем воспользовался тверской князь и отправился в Орду хлопотать о ярлыке на великокняжеский стол, Иван Данилович был еще там, в Орде. Как видно, Иван Данилович не мог противодействовать Димитрию, который выхлопотал себе великокняжеский ярлык, а Иван вернулся в 1322 г. с послом Ахмылом, который «много сотвори пакости по Низовской земли», много перебил христиан, взял Ярославль и пошел обратно в Орду с большим полоном187.
Оплакав кончину брата, удовлетворив религиозные требования митрополита Петра тем, что заложил на место деревянного каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (4 августа 1326 г.) и в том же году похоронив этого святителя, Иван Данилович должен был отправиться в Орду, хотя видимой причины к тому и не было. По всей вероятности, он готовил себе известную будущность и значение. Если это так, то кроме его личных хлопот ему помогли в стремлении к первенству между князьями ошибки и бестактность тверского князя, его единственного соперника. В 1327 г. в Твери разыгралась известная история с Шевкалом (Щелкан летописный, Щелкан Дудентьевич русской былины), приведшая хана в ярость. По этому-то случаю Калита и отправился в Орду (по одним известиям – по собственному почину, по другим – по требованию самого хана). Из Орды Иван Данилович вышел с большой татарской ратью и пятью темниками и, как приказал хан, пошел (зимой) в Тверскую землю для наказания ее за избиение Шевкала и его отряда. С Калитой был еще суздальский князь, Александр Васильевич… Села и города Тверской земли были преданы огню и мечу; взяты Тверь и Кашин; вообще, Иван Данилович и рать хана «грады и волости пусты сотвориша». Татары захватили при этом и часть Новгородской земли: «Новоторжскую волость пусту сотвориша». Но новгородцы умилостивили татар тем, что послали им множество даров и 2000 серебра. С большим полоном татары пошли обратно, давая знать о себе везде, где ступала их нога, – «точию соблюде и заступи Господь Бог князя Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину»… Александру Тверскому, конечно, и думать не приходилось о том, чтобы с успехом вести борьбу с таким несоразмерно сильным врагом, а потому он еще до прихода татар бежал в Новгород, где его, впрочем, не приняли, а потом направился в Псков188. В то же время Иван Данилович отправился в Орду, послав в Новгород своих наместников. Вместе с ним отправился и воротившийся к тому времени из бегства Константин Михайлович Тверской, остававшийся теперь старшим среди тверских князей. Тогда же к хану прибыл посол и от Новгорода Великого189. В Орде Константин получил (в 1323 г.) Тверь, а Калита – великое княжение. В то же время хан приказал князьям искать Александра Михайловича повсюду и представить его в Орду. По прибытии из Орды на Русь Иван Данилович отправил своих послов, а новгородцы от себя владыку Моисея и тысяцкого Абрама в Псков к Александру – передать ему требование хана. Посольство это было безуспешно. В следующем, 1329 г. 26 марта Иван сам прибыл в Новгород – сесть на Новгородском столе; с ним были тверские князья, Константин и Василий Михайловичи, Александр Суздальский и многие другие; отсюда князья пошли к Пскову, но медленно, вероятно ожидая, что псковичи одумаются и не доведут своим упорством до кровопролития. Князья дошли до Опок и остановились. Калите, как видно, и самому не хотелось доводить до кровопролития, и вот он придумал средство заставить псковичей исполнить волю хана: он уговорил митрополита Феогноста наложить проклятие и отлучение от церкви на князя Александра и на весь Псков. Эта мера подействовала: Александр, не желая из-за себя подвергать псковичей проклятию, удалился в Литву, оставив на попечение полюбившим его псковским гражданам жену. Псковичи послали в Опоки к великому князю гонца с известием, что Александр ушел из Пскова, и тогда Калита заключил с псковичами мир «по старине, по отчине и по дедине», а митрополит снял проклятие и отлучение от церкви190.
Итак, Иван Данилович, после столь многих трудов, занял великокняжеский стол, «и бысть всей земли тишина на многа лета», – замечают летописи191.
В 1331 г. Иван Данилович, а с ним вместе и Константин Михайлович Тверской, ездили в Орду. К сожалению, летописи ничего не говорят о причине этой поездки. Возвратившись из Орды, Калита, по выражению летописи, «взверже гнев» на Новгород: он просил (вероятно, потому, что много потратился в Орде) у новгородцев закамского серебра, т. е. привозимого из-за Камы, конечно, от торговых оборотов. Но новгородцы, как видно, не дали ему ничего, и Калита в 1332 г. взял за то («и в том взя») Торжок и Бежецкий Верх «чрез крестное целование». Новгородцы ничего не предпринимали против этого насилия192. В начале января 1333 г. со всеми суздальскими (Суздальской земли) и рязанскими князьями Иван Данилович опять пришел в Торжок; отсюда он послал в Новгород – свести оттуда наместников – и начал воевать Новгородскую землю, в которой давно уже сильно чувствовался недостаток хлеба от бывшей летом засухи. Новгородцы отправили к великому князю послов: архимандрита Лаврентия, Федора Твердиславича и Луку Варфоломеева, чрез которых просили Калиту в Новгород на стол; но великий князь челобитья их не принял и, не дав миру, уехал на Низ. Тогда новгородцы отправили к нему новое посольство с владыкой Василием во главе; послы нашли его в Переяславле, предлагали ему 500 рублей с тем, чтобы он возвратил взятые им против крестного целования села в Новгородской земле («свободы бы ся отступил по крестному целоваию»); но Иван Данилович, несмотря на просьбы архиепископа, предложений не принял и уехал в Орду193. По возвращении же от хана он принял новгородских послов, прекратил неприязнь и сам поехал в Новгород. Может быть, успеху последнего посольства содействовал митрополит Феогност, к которому во время поездки Калиты в Орду за чем-то приезжал во Владимир архиепископ Новгородский Василий194, может быть, именно с просьбой ходатайствовать пред великим князем о примирении его с Новгородом. Калита прибыл в Новгород 16 февраля 1334 г. В следующем, 1335 г. в бытность его там архиепископ Василий заложил каменный острог. Затем одна летопись передает несколько темное известие, что великий князь вместе с новгородцами и со всей низовской землей намеревался идти на Псков, но «бысть ему речь по любви с новгородци и со всею Низовскою землею, и отложиша себе путь, а плесковичем миру не даша»195. Нам кажется, что причиной предполагавшегося похода на Псков было пребывание там Александра Тверского, явившегося туда из Литвы, и начатые им в 1335 г. хлопоты перед ханом о возвращении тверского княжения.
Иван Данилович возвращался из Новгорода чрез Торжок; в это время Литва «на миру» воевала Новоторжскую волость: великий князь послал на Литовскую землю свои рати, которые сожгли литовские города: Осечен, Рясну и др. Прибыв в Москву, он пригласил к себе новгородского владыку Василия, посадника, тысяцкого и новгородских бояр «на честь», по выражению летописи, т. е. на угощение с целью, так сказать, отплатить за хороший прием, оказанный великому князю в Новгороде196.
Но доброе согласие между великим князем и Новгородом вскоре было нарушено первым: в 1336 г. Калита отправился в Орду и, возвратившись оттуда, в 1337 г. послал рать, против крестного целования, на Двину за Волок, в Новгородскую область; целью похода было, конечно, обогащение, потому что казна Калиты должна была истощаться от частых поездок в Орду. Но поход был неудачен: московские ратные люди «посрамлени быша и ранени»197.
Вскоре заботы и внимание великого князя должны были направиться в другую сторону, в сторону Твери. Александр Михайлович, обезоружив хана полной покорностью его воле, вышел из Орды в 1338 г., пожалованный его отчиной, Тверью. Он вызвал из Пскова жену и детей и вообще вступил в Твери в полные права хозяина, которые скромный и, как видно, миролюбивый Константин и не думал отстаивать, тем более что он был младший брат198. Теперь Калита хорошо видел, что ему не ужиться в мире с тверским князем. Еще в прошлом, 1337 г., когда Александр посылал к хану сына своего Федора, тверской и московский князья – как замечено в летописи – «не докончаша и мира не взяша»199. В то же время начинаются отъезды тверских бояр в Москву, как думают наши историки, из-за местничества200. Притом среди удельных князей росло недовольство, и они, вероятно, склонялись на сторону тверского князя: Калита слишком бесцеремонно хозяйничал в уделах Суздальской земли, чтобы не возбудить в их владыках негодования против себя. Так, в Ростове распоряжался боярин Ивана Калиты Василий Кочева, вмешивался во внутренние дела Ростова, обирал жителей и т. и.201 Князья других уделов были, вероятно, так же притесняемы: мы увидим, что даже зять Ивана, Василий Давидович Ярославский, был против великого князя и, кажется, на стороне Александра Тверского.
Вероятно, все вышеизложенные обстоятельства заставили Ивана Даниловича позаботиться о том, чтобы оградить себя и свое потомство от совместных неприязненных действий остальных князей, которые могли повредить его династическим интересам. По крайней мере, последующие действия Калиты указывают на это. В 1339 г. со старшими сыновьями, Семеном и Иваном, он отправился в Орду, послав в Новгород младшего сына Андрея. Летописи замечают, что Иван Данилович и дети его были в Орде в чести: конечно, Калита не жалел казны, чтобы расположить хана к себе и своим детям. Недаром по приезде из Орды он хочет пополнить казну, как увидим, за счет новгородцев. А что Калита хотел смирить своих недругов, на это указывает то обстоятельство, что Узбек тогда же позвал в Орду всех князей и сделал это «по его думе», т. е. по думе Калиты. В Орду позваны были: Александр Тверской, который поехал не сразу, а послал сначала сына Федора, который узнал там, что Узбек гневается на его отца, затем – Василий Давыдович Ярославский, внук Федора Ростиславича Черного, зять Калиты. Странным кажется, что Калита, думой которого позваны князья в Орду, посылал 500 человек перехватить в пути Василия, что ему не удалось, и Василий благополучно достиг Орды.
Впрочем, интересы князей так мелко и запутанно переплетались, а летописные сведения так скудны и скупы на объяснения причин и поводов к княжеским столкновениям, что мы не вправе делать умозаключения о противоречивых действиях и скорее должны предположить, что он, т. е. Иван Данилович, имел какие-нибудь серьезные причины задержать зятя до прибытия в Орду, хотя он и был позван туда его же думой: эти причины могли возникнуть уже по возвращении Калиты из Орды202.
По прибытии Ивана Даниловича из Орды новгородцы прислали к нему выход с послами; но Калита чрез тех же послов потребовал от новгородцев еще «запроса царева, чего у него царь запрошал». Новгородцы на это отвечали, что «того не бывало от начала миру»203.
Между тем Калита следил за тем, что делается в Орде. Вероятно опасаясь, как бы с прибытием туда Александра Тверского и других князей ханский гнев не сменился на милость, он осенью 1339 г. отправил туда сыновей: Семена, Ивана и Андрея. Но 22 октября того же года Александр и Федор были убиты в Орде. В Твери оставались Константин и Василий. Константин и прежде, когда был великим князем Тверским, ходил, так сказать, на поводу у Калиты; тем более теперь, после успешной поездки великого князя в Орду, где по его проискам убит был брат Константина, последний не мог противиться московскому князю, о княжении которого летописец замечает: «наста насилование много, сиречь княжение великое Московское досталось князю великому Ивану Даниловичу». По смерти Александра и Тверь испытала насилие со стороны Калиты: он приказал снять колокол с главного тверского храма Святого Спаса и отправить его в Москву. Это могло иметь символическое значение верховенства московского князя над тверским204.
После трагической кончины Александра дети Ивана Даниловича отпущены были из Орды «с любовию». Успокоенный с этой стороны, великий князь начал энергичнее действовать по отношению к Новгороду, откуда вывел своих наместников. К счастью новгородцев, Калита вскоре опять был отвлечен в сторону Орды: в 1340 г. неизвестно, по собственному ли почину или по требованию хана, он отправился в Орду. В это время хан посылал рать с Товлубием на князя Смоленского. В походе участвовали: князь Константин Васильевич Суздальский, Иван Коротопол и другие князья; по приказу хана и Калита также должен был отправить на Смоленск свою рать205.
В следующем, 1341 г. 31 марта Иван Данилович скончался, приняв иночество и схиму, и погребен в основанной им же (в 1333 г.) церкви Святого Архангела Михаила206.
Иван Данилович был женат дважды: а) на Елене, дочери неизвестного отца, и от брака с ней имел детей: Семена, Даниила, Ивана, Андрея (боровского) и дочерей – Феотинию, Марию, Евдокию и Феодосию; б) на Ульяне, также дочери неизвестного отца; от этого брака, уже по смерти Калиты, родилась дочь207.
Семен Иванович Гордый
Род. в 1316 г. – ум. в 1353 г
После Ивана Даниловича из его сыновей в живых осталось трое: Семен, Иван и Андрей, отец известного впоследствии сподвижника Донского, Владимира Храброго; второй сын Калиты, Даниил, упомянутый только в летописной родословной208, умер, вероятно, в младенчестве.
Иван Данилович еще задолго до смерти сделал духовное завещание. В этом завещании он распределяет свое движимое и недвижимое имущество между наличными сыновьями и супругой; но так как потом он приобрел несколько волостей посредством купли, явилась необходимость составить новое завещание, в которое вошли бы и новые приобретения. В обеих грамотах одинаково замечено, что они составлены перед отъездом его в Орду. «Се язь грешный худый раб Божий Иван, – говорится в грамотах, – пишу душевную грамоту, ида в Орду, никим не нужен, целым своим умом, в своем здоровья» (так непрочны были не только положение, но и жизнь какого бы то ни было князя!); обе грамоты писаны в одном и том же 1328 г.209 По этому завещанию Калита дает старшему сыну Семену 26 городов и селений, в том числе Можайск и Коломну – приобретение его брата, Юрия Даниловича; Ивану – 23 города и селения, в том числе – главные – Звенигород и Рузу; младшему, Андрею, – 21 город и селение, и в числе их самый важный Серпухов; жене своей с остальными детьми – 26 селений, из которых впоследствии сделался известным Радонеж. На первый взгляд может показаться странным, что старшему сыну, Семену, как предполагаемому великому князю в будущем, дано сравнительно мало городов и сел. Но следует иметь в виду, что, во-первых, Семену даны города более значительные, как Можайск, бывший особым княжеством, и Коломна; а во-вторых, хотя претендентами на великокняжеский стол в случае смерти Ивана Даниловича и могли явиться князья Тверской и Суздальский, – но Калита, как видно, надеялся, что великокняжеский титул за ним упрочен, что он перейдет к его старшему сыну, а вместе с тем к нему перейдут Владимир и Переяславль. Что касается Москвы, то она, по завещанию, отдается не кому-то одному из сыновей, а всем троим: «Приказываю сыном отчину свою Москву», – только и сказано об этой последней в завещании. Что же это значит? Какую цель преследовал Калита, завещая Москву всем детям, а не кому-то одному из них? Нам кажется, что у Ивана Калиты была определенная цель и мысль об упрочении за своим потомством великокняжеского титула и за Москвой – значения первопрестольного города: первого он мог достичь, только когда его дети – при известных личных качествах – будут в состоянии удовлетворять алчным требованиям Орды, т. е. когда будут располагать богатой казной; второго же он достигал при выполнении его детьми первой части программы. Значит, Калите нужно было оставить материальную базу наследникам, и вот он делит свое достояние почти поровну, ибо мог сомневаться в том, что тому, а не другому сыну достанется великокняжеский стол. В то же время он отдает детям Москву в общее владение и таким образом еще вернее достигает второй цели: кто ни будет из детей великим князем, все-таки он будет Московским, потому что привязан к Москве той частью наследства, которая предоставлена ему по завещанию210. Так или иначе думал Калита, но великая идея централизации и собрания Руси воедино жила в его потомстве, и этим потомством осуществлена.
По смерти Калиты все русские князья, как то: Василий Давидович Ярославский, Константин Михайлович Тверской, Константин Васильевич Суздальский и др., поспешили в Орду; отправился туда и Семен Иванович с братьями. Хан объявил последнего великим князем, а все остальные русские князья «под руце его даны»211.
Возвратившись из Орды, Семен Иванович торжественно сел 1 октября на великокняжеский стол во Владимире. В том же году (1341) братья «целовали крест у отчя гроба». По этому крестному целованию они обязываются быть заодно, младшие старшего – чтить вместо отца, иметь общих друзей и врагов; старшему без младших, а последним без старшего ни с кем не доканчивать дела; младшие братья, между прочим, выговаривали следующее обязательство от старшего: «А кто иметь нас сваживати… неправа ны учинити, а нелюбья не держати, а виноватого казнити по исправе»; младшие братья уступают Семену на старейший путь полтамги, конюший путь, ловчий путь и пр., между тем как сами берут полтамги на двоих; уступают также на тот же путь несколько сел; обязывают старшего брата заботиться об их женах и детях в случае их смерти; великий князь оставляет за собой волости, которыми его благословила тетка, княгиня Анна; боярам и слугам договаривающихся предоставляется свобода перехода от одного князя к другому; младшие братья, наконец, принимают обязательство не принимать к себе боярина Алексея Петровича (тысяцкого), который «вшол в кромолу к великому князю»; мы увидим, что этот Алексей Петрович при преемнике Семена Ивановича неизвестно кем был убит.
Мы видели, что Иван Данилович в 1340 г. рассорился с Новгородом и не успел смирить его из-за поездки в Орду. В то время как Семен Иванович после смерти отца был также в Орде, новгородские «молодци», как выражется летопись, ходили на Устюжну и пожгли ее, а потом повоевали Белозерскую область – приобретение Ивана Калиты. По возвращении из Орды Семен послал в Торжок собирать дань. Бояре, по выражению летописи, «начата силно деяти», почему новоторжцы просили новгородцев заступиться за них. Новгородцы пришли, перехватали московских наместников с семьями и посадили в заключение. Из Новгорода, еще прежде последнего события в Торжке, послан был в Москву Кузьма Твердиславич сказать великому князю: «еще, господине, на столе в Новегороде не сел еси у нас, а уже бояре твои силно деют» (насильственно). Новгородские бояре, находившиеся в Торжке, конечно, ожидали мести со стороны великого князя и потому послали в Новгород за помощью; но там не захотела удовлетворить эту просьбу чернь. Новоторжская чернь, не видя из Новгорода помощи, восстала на бояр, кричала, зачем они призвали новгородцев, зачем перехватали княжеских наместников. «Нам в том погибнуть», – заключила она. Вооружившись чем попало, черные люди бросились на боярские дворы, освободили московских наместников, а новгородцев выпроводили из города. Новоторжские бояре бежали в Новгород «только душею кто успел» (без пожитков); дворы их были разграблены, села опустошены, а одного, Семена Внучка, даже убили на вече. Семен Иванович собрал подручных князей: двух Константинов, Суздальского и Ростовского, Василия Ярославского и др., и зимой пошел к Торжку. С князьями был и митрополит Феогност, может быть, на случай необходимости пустить в дело меч духовный, если железный оказался бы не действенным. Как видно, великий князь твердо решил держаться известной политики и достигать намеченных целей во что бы то ни стало: по летописям не заметно даже, чтобы князья, участвовавшие в походе на Торжок, выказали хоть малейшее нежелание исполнить его требование; есть даже известие (у Татищева), что, готовясь в поход и призвав для этого помянутых князей, Семен Иванович держал к ним речь, в которой в особенности упирал на то, что благоденствие Руси всегда стояло в зависимости от послушания князей старшему князю. Объединенные князья пришли в Торжок, откуда намеревались идти к Новгороду. Новгородцы хотя и приготовились к обороне, но сначала попробовали уладить дело миром: они отправили послов к великому князю и митрополиту. Мир состоялся: договорились по старым грамотам; кроме того, новгородцы дали великому князю черный бор со всей Новгородской земли и 1000 рублей с Торжка. После этого великий князь послал в Новгород наместников212.
Между тем в том же году умер Узбек, и ханский престол занял его сын, Чанибек, проложив себе дорогу к трону убийством двоих братьев. Русские князья – Тверской, Суздальский и др. – пошли к новому хану; отправился к нему и Семен Иванович, а также и митрополит Феогност, как выражается летопись, «за причет церковный». Великий князь принят был ханом и отпущен с честью, а Феогност был задержан: хан требовал с него ежегодной постоянной церковной дани, но митрополит ссылался на прежние льготные грамоты, по которым духовенство освобождалось от дани; если верить летописям, Феогноста даже мучили по этому делу; наконец, митрополит предложил хану единовременно 600 рублей «посулу», и тот этим удовольствовался213. По приезде из Орды великий князь был свидетелем страшного пожара, случившегося в Москве 31 мая 1343 г. О размерах этого пожара можно судить по количеству одних только церквей, истребленных огнем: их сгорело 28. Летописцы отмечают, что за 15 лет это – четвертый такой большой пожар214. В следующем, 1344 г. Семен Иванович вместе с братьями, Иваном и Андреем, отправился в Орду, где были и другие князья, но неизвестно, по какой причине. Из Орды великий князь выехал 26 октября215, «пожалован Богом и царем», и, похоронив жену Анастасию Гедиминовну, умершую 11 марта 1345 г., женился во второй раз на дочери князя Федора Святославича Смоленского Евпраксии, с которой, впрочем, года через два разошелся, что должно было, конечно, оскорбить смоленского князя, и все-таки Федор Святославич не смел заявить никакого протеста против такого поступка сильного московского князя. В один год с Семеном Ивановичем поженились и оба его брата216.
Между тем будущая соперница Москвы, Литва, начинает при таких же почти, как и Москва, обстоятельствах и такими же средствами усиливаться в одной ветви рода литовских князей. В середине XIV в. в Вильне княжил сын Гедимина, Явнут. Против него объединились братья, Кейстут и Ольгерд, которые неожиданно напали на Вильну, так что Явнут вынужден был спасаться бегством: перескочив чрез городскую стену, он бежал сначала в Смоленск; потом перешел к великому князю в Москву, где принял крещение и получил имя Иоанн. Брат же его, Наримонт, которому также угрожала опасность, бежал из Пинска в Орду217.
Мы уже говорили, что после похода к Торжку Семен Иванович послал в Новгород своих наместников. Сам же он еще не бывал в Новгороде ни разу. Но вот в 1346 г. в Москву приезжает новгородский владыка Василий с приглашением великого князя на Новгородский стол. В это-то самое время, разведясь с супругой своей Евпраксией, которую он отослал к отцу с советом выдать замуж, Семен Иванович зимой, на Федоровой неделе, отправился в Новгород и, пробыв там три недели, возвратился на «Низ». Он вернулся в Москву в самом начале 1347 г. и женился в третий раз на Марье Александровне, княжне Тверской. Между тем шведский король Магнус собирается посредством прений о вере или посредством меча обратить новгородцев в католичество. Последние послали к великому князю с просьбой «обороните своея отчины». Великий князь отвечал: «рад аз ехати, но зашли ми дела царевы». Он послал в Новгород своего брата Ивана, а сам с братом Андреем действительно поехал к хану, от которого вернулся уже в следующем, 1348 г.218
До сих пор политические отношения Москвы и Литвы были только косвенные, по делам новгородским или псковским, и до крайностей, вообще говоря, не доходили. Но с 1349 г. эти отношения начинают принимать серьезно враждебный характер: в упомянутом году – к сожалению, летописи ничего не говорят о причинах, – литовский князь Ольгерд отправил послов, во главе которых стоял его брат Кориад, к хану просить у него помощи в предполагаемом походе против Семена Ивановича. Последний, со своей стороны, также послал в Орду своих киличеев (послов), которые доложили хану, что литовцы опустошают его, царев, улус, отчину великого князя Семена. Такое представление, конечно, должно было затронуть как самолюбие хана, так и его материальные интересы: великий князь, его улусник, часто бывает в Орде, и, конечно, не с пустыми руками; а потому разоряющий его улусника разоряет самого хана. И вот хан не только не дал помощи литовскому князю, но и выдал литовских послов московским, которые вместе с ханским послом Тотуем взяли этих пленников в Москву. Ольгерд смирился и в следующем, 1350 г. прислал к московскому князю послов, «прося мира и живота братии своей, князем литовским: Кориаду и Михаилу и всей дружине их». И в том, и в другом просьбы послов были удовлетворены. Как видно, Семен Иванович умел дать почувствовать не только русским (Северо-Восточной Руси), но и русско-литовским князьям свою силу и энергию умного человека. Мы не видим во все время его княжения, чтобы со стороны удельных князей были попытки к каким бы то ни было противодействиям. Хан всегда относится к нему более чем с доверием, вследствие чего и свои, и литовско-русские князья в некоторых случаях спрашивают его соизволения. Так, литовский князь, задумав жениться на дочери Александра Михайловича Тверского Ульяне, просит разрешения на брак у Семена Ивановича, который, посоветовавшись с митрополитом Феогностом, удовлетворяет просьбу Ольгерда. И не только ближайший и сильнейший литовский князь, но и более отдаленный князь Волыни Любарт Гедиминович в том же 1350 г. обращается к князю Московскому: он просит руки «сестричны» его, дочери Константина Васильевича Ростовского219.
В 1351 г. Семен Иванович вместе с братьями, Иваном и Андреем, предпринял поход на Смоленск. Причин этого летописи не упоминают. Когда великий князь был на р. Протве около Вышегорода, к нему явились литовские послы «с многими дары, прося мира», возможно, подтверждения, подкрепления или формального мирного договора по поводу освобождения Кориада и других литовских послов. Отпустив послов с миром, Семен Иванович продолжал движение на Смоленск и подошел к р. Угре. Сюда явились к нему смоленские послы и заключили с ним мир. Великий князь пошел обратно в Москву220.
Весной того же 1351 г. вместе с теми же братьями, Иваном и Андреем, Семен Иванович ходил в Орду. Года через два после этой поездки для великого князя наступила несчастная пора: в 1353 г. 11 марта умер митрополит Феогност; в ту же неделю умерли его дети-младенцы: Иван, родившийся в 1351 г., и Семен, родившийся в 1352 г. В следующем месяце того же 1353 г., именно 27 апреля, умер и сам Семен Иванович с монашеским именем Созонт, за ним вскоре последовал и брат его, Андрей. Летописи наши говорят, что еще в 1352 г. на Руси начало свирепствовать моровое поветрие, известное тогда под именем черной смерти. На Русь она перекинулась, вероятно, из Западной Европы, где этот бич свирепствовал уже с 1350 г. По всей вероятности, от этой заразы умерли и митрополит, и великий князь с другими членами великокняжеской семьи221.