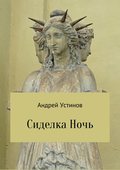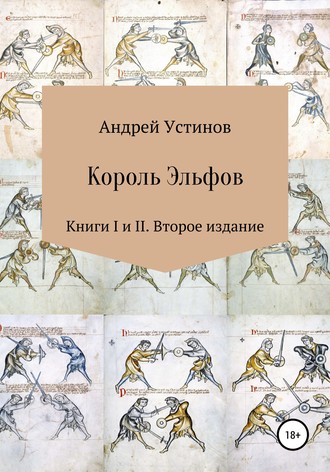
Андрей Устинов
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Аааааа! Хохотливое эхо так и забилось гусью-лебедью под низкими сводами харчевальни. Да точно Момос, веселый божок, самолично посетил нажорников: один топотал по гулящей половой доске до несносного резонанса, другой, слезясь в ручьи, кувасил по столу латной варегой, так что дрожали сбившиеся в испуганную отару оловянные кружки, третий… От седних неприбранных столов и другие служивые потянулись, роняя утварь, узнать анекдот… корчась от гоготливого удушья, отваливались обессиленно, истово шлепая друг друга по плечам чуть не до преставления. Мне, ради Глаха, странно было их наивное веселье: никто ли не ведал буквы настолько, чтобы усомниться в бытности срамной описки? Но, как бы ни там, подпав под сей клацающий хохочущий рой, да особо после пряной запивки с общего кувшина, и мое настроение тажно вспенилось… вообще, от еды развезлось по всему телу теплое умиление, хотя что-то нет да и бурчало в толобасе живота.
Идти к коменданту пришлось сквозь улицу – из черной двери в углу дома мы вывалились в денное солнце и говорливую толпу; в нос били запахи редиса и тимьянного меда из расставленных прям-вдоль стены лозовых корзин и перетянутых ремнями кадок; в проулке мокрое линялое белье трепеталось сквозь мористый ветерок и вяхиревое сражение в пыли за какую-то корку. Затем – во двор с белесыми колоннами и выше-выше по щербатой лестнице; настроение мое тажно вышилось с каждой потертой ступенькой, будто по мажорным нотам: как же не признают во мне дворянина? да определят может к энтому герцогу! или вселят в трактир, пока отпишут домой! и поручат временно кошель энтих… как… левов! и уж буду-то осторожней с элем, и девку возьму одну для качества… аль двух ли?!
Солдат (другой уже, белобрысый веснушарик) завистно придержал меня, зажав в горсть клок моей куртки и отянув назад. В светлой, крашеной охрой комнате без двери – за входной аркою, сквозь солнечные клинки наискосок, виделся боком давешний добротный бородач: нынче-то в зеленом плотном мундире, впрочем, расстегнутом на часть крючков, знамо, от усердия! Будто пыжащийся за тяжким дубовым столом над кожистым пергаментом с угнетенными краями – знамо, неподдельная герцогова хартия, коли даже папье-прессы в виде диковинных змеев! Комендант простыл над нею со стилусом во взнесенной руке, вотще водя по воздуху какие-то знаки зодиака, в школярских муках плутая по завиткам букв; в завитой бороде его тяжелились потные капли…
Аха-ха! Тогда, на ночном посту, даже просквозь дрему, я шибко прихлопнул в ладоши от столь славного сна. Как забавно, спустя годы, смотреть на себя со стороны! Казалось мне, ей-ей вот ухвачу птицу-удачу за злащеную гузку, но от хлопка моего, от вздражения стенки под спиной, хилый факелец пал обратно на земляной пол: пламя пышнулось обидчиво кривыми хлопьями, да тут же выродилось в тлен и скверный чад. И подручный сон, люди и слова-птицы, даже сам фантастический образ мой, яркий абы любо-молодец, начали киснуть как под порчей, обличаясь школярскими карикатурами…
Вот так было:
– А-ха! – я вальяжно было хохотнул, все еще в добродушном настроении, предчувствуя яркое возвышение своей позиции грамотея-астро́нома при дворе, но ах! Веснушарик так прицельно, як-же муху, шлепком осадил меня по губам, что я самотельно съежился, попомнив тычки наставителей в ликейоне, покрылся затем пунцовыми пятнами и забулькавшими в груди выдохами… уфф!.. тожвременно кипятясь воображением гнева и стыдностью детской знобы в костях. Уфф!
– Мессир комендант! – тревожно доложился стражник, так и жесточа меня за куртку. И едва бородач, отираясь от бисеристого пота до гневных круговертных брызг, тяжело подъял голову (стриженную весьма кратко, по дворянской моде, но оттого ще боле бычевидную) – стражонок (да сам-то животом слаб!) тонко заквачил, задрожав рукой и сбиваясь с устава: – Квамо той блаженный. Квелено, вкормлен до ушей!
– Також! – развесисто проронил черноглав, абы приложив змиеву печать к тяжким раздумьям. И столь прожег меня палаческим взглядом, будто я-гость был досадной кляксой на том пергаменте. Пожевал еще губами, как бы пробуя шаткий зуб и предчуя неприятность выдерга, но пока срыгнул растяжисто: – Ну, давай покумуем. – Солдатик при сих словах сердечно дал мне-пленнику крайнего растычка и был с глаз долой. Мне же, промыкавшему весь свой музыкальный настрой, осталось лишь непредставленно проковылять, неловко шаркая, под очи командующего:
– Я… п-позвольте… Ваше п-превосходительство… Гаэль Франк к вашим услугам… могу быть полезен… – тут я и вовсе потерялся на солнечном свету, бьющем в лицо, и во всех самовольных шумах и запахах из расство́ренного окна, и опять странно окоченел грудью, потерянно переступая поднемевшими ногами. Еще и чуял внутренним ухом гнусный поскреж кованой набойки по камню (где же вторая? отлетела?), можился закаменеть, да все зазря… А сквозь солнечный морок и натекающий со лба пот так и жгли меня угли-очи коменданта, медленно качнувшегося на стуле и тож попавшего под солнце… кои затем зазеленели и заплясали во взрыве хохота:
– Ну, право, облаженный… – голос открылся густым и с акцентною притяжкой на гласных, богатой потаенными обертонами: – Что-то мнешься, как на костре, а-а? Еще пока не тащим, а? Ох, облаженный, ни монеты, а прикид на клирика. Испит, изодран… Как же ты к нам закаверзился, за-ассанец?
Я столь опешил от сей тирады, самой долгословно-благозвучной, слышанной на сих берегах, но зело стращающей тайным нижним тоном, что и проболтался как на духу:
– По окончании ликейона Коголанского, ваше превосходительство, был с вояжем совершеннолетия в сии края, в сопровождении родича, каковый Тимон подвергся давеча злочестному нападению, почему остался я, Гаэль Франк, к вашим услугам, без полагающихся к положению средств, о чем прошу вашей милости в восстановлении и связи, и направлении…
– Стой, стой!.. – бородач опять то ль от зуба морщился, утирая болезную слезу, то ли употел в казенном наряде, то ль… может ли быть? смел смеяться над моей злой досадой? Ах, варвары!
Но затем он замрачнел резко, буде изжога накатила и изгрызла всю радость жизни, ибо поднагнулся вбок, доставая емкость… выхлебнул быстро, морщеваясь (кисло, ать!), винца со скупого кувшина, и взотрыжил, утирая с губ красные капли, словно репетируя депешу и дискутируя правильность мер:
– Також… Коголан!.. Как в Коголане оном, ведомо нам, примножились варвары безголохие… чему доказательно есмь улики… сего нищеброда волею герцога милосердно накормить с челядью… и направить в каторги, в солевые пасеки… також, да… с искуплением содержания и затрат. Стража!!! – и тяжко так взгрел кулачьем по столешнице, что кувшин досадливо припрыгнул и будто бы сплюнул каплею на драгоценный документ.
Ах, кувшин! Пошто же я им остоль заинтересился? Остоль, что мысль осеклась… Ах, да. Мелкий, неглазурный, походу просто домашний кумганчик со скупою крышкой, абы не выплеснуть неряшным замахом, – обыденно пользуют для опохмела (гой-еси, яблоневая заливочка на меду!); также аптекаря держат там досадные жидкие порции от свербления и закупорейства (хех!); тоже в домах изысканных (гостевали у стольных родичей) тако подают черный горький чай, именуемый кофьем… И лишь егда солнечный свет перебился вдруг и опала теплая воздушная тяга у щек, и уже чесночнодухая пара стражей глумливо хватанула подмышки, той-то я-каторжник всполошился, визжа как свин на заклании (ах, стыдно вспоминать!):
– А-а! Но как же безголохий?! В ликейоне на авгура третировали… вояжем совершеннолетия к… к-к-купели Метаровой… Вот же а-амулет наследный! А-а! Голохом… А-а!!! – меня уж выволочили почти со скрежетом (то набойки опять), вывернули лицом в пол, голова уже таращилась за аркою в сырую каторжную темь, взор уткнулся в секоножных пауков каких-то, разбегшихся от моих колошматящихся сапог, яко от полундры, или как-там… valonder? Да-да-да! Так во шторме кричал тот шкипер, егда також колотило и болтало, и матросы ворочили меня (Гаэль Франк, к вашим у-у-у) в трюм от лишнего героизма…
Уф! Кактож, покачиваясь с носок на пятки, опять я остолбился перед комендантовым столбищем, мутным взором разглядывая знатные буквы на пергаменте – но почто вверх ногами? Таки колебракрушение?.. Корлебла… Глаше мой.
– Единоверец? – переспросил бородач раздумчиво, вертая в руке мой амулет на тонкозвенной цепке, в ликейоне заслуженный, – искуснейший серебряный молот, коим Голох размозжил мирового змея. И нащурил еще черны очи, экий грамотей, разбирая зацарапанную дату посвящения. – Не варвар, сталоть. На слуге-то не сыскано… – Еще раз почтительно потер молот толстыми распальцами с оломанными-огрыженными ногтями (ах, варвар, черный стриженый варвар!) и знаком велел веснушарику вернуть мне оберег. Иже ведал, злодей, бо страшнее несть вины перед Голохом, чем именный апотропей перенять!
– Також, слушай, – заговорил комендант с мучительным облегчением, аже зарыжев будто бородой; отложил указный стилус и поглядел на меня с некоторым блеском радости. Продолжил звучно: – Напугался, а-а? Ох, облаженный… Что ты? У герцога нашего с варварами разговор сух, коли вескими левами не сблещен, а? Но доброму отроку в беде – велено поможать по рассудку. Но зерцай на себя – вылитый же ты зассанец; дядька пропадом пропал… деньги все, коголанские ваши златы динары… – Тут я слабо мотнул ухом, ибо то ль почудилось от головокружия, то ль и впрямь комендантий чем-то при том зычнул в кармане. – Ну дал бы тебе, а? Но завтрема будешь тут же, облаженный, а-а то и… – Бородай выразительно щелкнул ногтем по грамоте! Я вжался было головой чуть не подмышки, чуть не в чеснотных стражников обратно кутнулся, но да окстился-задышал, воспомнив, что сие лишь актерский жест – видали такие истории! А дальше губы бородача долго еще оживленно трепенились, будто встрявший оконный ветр, надутый Голохом, влаживал в них некие спасительные словеса… кроху от щедрот!..
Уф… Опять, как тогдавеча в стражнице, сон побежал распеленываться, теряя краски и звук, оставляя… что? Бесполезные знания, вызванные из небытия поминанием ликейона, взвились в голове сумятным вихрем, самоскладываясь в книгу-толковище:
Ах, если сон, как ведали анатомики, есть цветастый шар электрики, закутанный в серую шаль Голоховой дремы, то разум цепко еще держался за паутину сей дремы, перебирая ейные нити-поминания, натканные… но которой суженицей? Это было важно! Смешливицей ли Лахесой, и все могло еще разменяться на взмах век – прибудет искать меня из Коголана старший брат, например… – либо кручиницей Клото, знамо, замыслившей из моих злоключений дидактейский узор? Ах…
Я все еще перебирал витки того дня:
Небось – опять терял сознание? А сейчас-то – зело помнились и отческие уговоры коменданта, как-де славно юноше подтянуться в верной службе, и, чуть-лишь я принужденно чавкнул губами (денежки-то тю-тю-тю), дивно расцветшая веселость бородача, лично прокатившего меня до воинского лагеря на казенном дрянном шарабане и кивавшего по дороге на всяк-броскую кочку, будто тараторящего длинный заговор. Три образа отпечатались крепко: замок неведомого герцога Раваха на скале над бухтой – черные башни, скупые на бойницы, под зелено-золотыми штандартами Метары; потом – среди скелетов, что грелись на трикосых распяльниках за воротами, свежерваный труп рыжебородого лайфера – утренняя стражничья добыча (и комендантус опять хвастал, как дятел!); а сколь прибыли – сальная рожа сержа, кому комендантус (трижды сдохни, ворюга!) долго оживленно втирал про звонкую добычу, и про опробованную с утреца складщавую молодку, что самодушно продалась за долги (ух! а могла б моею быть!!), и коему спихнул меня, нареча заморейным родичем на седьмом киселе и велевши (скот! все равно черный скот!!) важить и свойную сержову судьбу не пытать. Не пытать было разотрыжено со знатным ударением – и на том спасибо.
Как позже развиделось – то была тщательная стратегия неведомого герцога Раваха: безкошельный пришелец в Метаре имел-таки нескудный выбор – солевая пасека, аль военный сезонный лагерь. В гарнизоне, укрытом в трех милях от гавани, на смыке полей и глухого перестоя, светилось потому шибкое число отъявленных рож, дивом слинявших с виселицы и управлявшихся только остреным бодцом и кнутом. Сержова ж (вжик-вжик!) политика была проста: важить того иль нежить этого, – а шибко спорых назавтра же без рогожки скатывали под овраг. Так вот еднажды томились мы со Щербой, чудны́м бродяжкой, на самозаднем глухом посту и не заспел еще я выспросить судьбу паренька, как налетели дюжие гопники… три орла, три горла́… взалкали было наклонить нас обоих, хохотали криворожно: ужо, блондинчик! Но я… уж таким визгливым крысенышом в угол забился, право, как оборотился… верещал Голох-весть-что об родича коменданта и сержа-охранителя, выпростав дрожащую ржавленую пику, что сии вожжевые, перешептавшись, словесато покрыли замореныша, да и плюнули-недоплюнули. А в целом – по обрывкам сержевых баек-нравоучений на гимназиуме выходило, что раз-другой за сезон кодлу ихнюю кидали угнетать коих-либо герцоговых воспыливших данников. Нешутейные Раваховы войска притом перли чохом сзади и ретирады не спущали. А ежели кто чудом не перемалывался на болотный торф – беспочетно возвращевался в тот же ад на новый срок! Вожжевым! Ужели – то и была моя судьба, окороченная радельницей Атропой? Ахх…
Но чу:
– Гэль? Гэль? – запелся робкий оклик из глуби домика и стенца за плечами застукнулась неровно. Ах, Щербачок!
– Да тут, тут! – я ответил негоромко, раскачнулся на неровном топчанке, встремнул резво, ощупью хватаясь за бревна – ноги-то занемели и колен вще не чуял, смешно! А Щербик, как вечно, забубнил что-то на славном своенном наречии:
– Човта задремался, а? Човта не щелкнул? – забубнилось сперва из домика, затем и сам Щербачок затокался из двери. Немного уже занималась утреница – был еще серый час, но тень Щербы уже виднелась густыми подви́гами, а слышилась и паче: зевая скважно, разминал плечи. Вот чудик, как птах живет, каждый час у него как заново жизнь идет. Через серость хоть, а и так я чуял Щербову улыбку до ушей, и сам смеялся:
– Да ладно, Щербик… я так, и не спал тут… не спалось, знаешь. Воображал картины разные, как будто сержа в борова оборотил, знаешь, и он там ходит-ходит, урчит, трюфеля ищет, что мы вчера-то с тобой заварили…
Оба мы прыснули тут же, Щерба так совсем заливисто разошелся – соловей зорешный!
– Афавфав… – И еще так пригнулся, повел руками по туману, что точно в серости стал выхож на тень охудалого одинца с висящими боками, роющего скраденные ловкачами гладыши.
– Афавфав… – передразнил я, и тоже повел руками, отрываясь от стены. Ноги ще кололо от долгой рассидки, потому вовсе смешнее пошла животная недоумевная раскачка. Оба мы еще прыснули, да и обнялись облегченно. Когда завтра-назавтра отправят на гибель – право, кажный день радостить будешь!
– Как ты, Щерба? – спросил я заботно, еще да хлопая дружка по спине, но отстраняясь чуть и вглядываясь сквозь серость в верную улыбку.
– Дачо, Гэлька. Незлой ще быв, не вживай. Не вживай… – но то ли всхлипнул у меня на плече, то ли просто туман утрешний заблестел в очах. Так-то – кажному быв ясенно, по-Щербовски гуторя, что проще серж-один, чем вдряд все в очередь. Серж затем мальчика со мной и постовал от недних пор; ишь, ирод занежил Щербу по-своему. По-своенному…
И все же – как мог Щербак, сквозь это-это, кажный день наново свежо улыбаться жизни? Может, истинно, что недолго нам жити осталось?
– Ну вот, нимаю… что будить тебя… Я и не спал… – я сам почти заслезился, но Щерба уже перебил меня:
– Агась, картоны вбражал… афав… – и залился свежим соловьем, да и я за ним.
– Ох, Голох… Ах! Отварчик, Щерба, будешь зубья полощить? – хохоча еще, вспомнил я о болящей десне друга и потянул ще теплящуюся крынку. – Глянь-ка, нагреть ли? Да не нарвалось ли?
– Да човта ни, теплынь. Ольсовый да взварчик… – захлебал, с шумными перерывами, экую горечь. Знамо, в их сырых краях привыкли… – Не скворчила, ни. Поможает веренно…
– Ах, ну смех ты Щерба. Где вы так глаголить учитесь… Глаговолить, ха! Да, знаю, что ты машешься, Щербак! Не задавись! Ха! Знаю, сказывал уж, да я забыл что-то. Где-то с северов ли?
Щербачок откурлыкал наконец, отрыгнул полоскание в боярышник, и опять бурно-весело зажестил руками:
– Кажный динь главолю, човты! Ах, Гэльчик, так как-то бредши быв и тут, Глах знает пути, я ни. Но тако разумно мелешь, по дним-та пора белесить уже, а тута фрутеля ще свежи.
– Трюфели, Щербик? Ты про грибья поддубн… ольсовые, как ты гришь? Али про фрукты, тамо как наливчики?
– Да то и то, Гэльчик, то и то… словца-то не слажны, слажно, човты ладишь! – и расхохотался весело, шлепнув меня за плечо.
Ну как балясить с чудаком?! Човты-мовты! Я только и смешился сам, пытаясь уговориться следом:
– Ах, човты блажирь, Щербик! Глах знает пути! Да как бы скажет? Намо сами мы, аво выйдемся, пути-то сыскать? А? Грядем ли тако?
– Блажирь, Гэлька, само ты, – Щербачок уколол опять густо голубыми, почуявшими зарю и росу очами… ликом чист, как сейчас Голохом и сотворен. – Бредши быв много, граци и блаты, мова разна, благоти ни. Втое благоть, Гэлька, источит ни, дремочет влажно. Любо те быти, любо знати тя. Кличи ме, ща немый прибежу. Друже…
– Друже, да… – Таки и сам я заблестел глазами на рассвет сквозьлесный, смутился. Объял еще крепше… и о чем говорить с другом, который друг? В смехе ли, молчанье ли… – Лады-лады, Щербик… ну ты карауль, кличи коль що. Пойду я спальничать, лась?
Ах, откуда и сам гуторить стал? Лась? И что это? И тихо повел ладонью по локтю друга, и пальцы сплел с ним в завсегдашней клятве… и запотыкался в домик-темень, где охапка соломы шелестела, другом обогретая.
Я повозился малек, гнездуясь, шибче подгребая под щеку… и ничего бы, но зацарапило ухо, пришлось тамо кулаком примять позольше – ну, дружье дело! И когда тепло растопилось по членам, когда соломный прянцовый запах пробрал до чиха – ох! не мнил, что тако вздрог! – ясенно воспомнил о Катинке, самым телом взомлел! Катинка, Катинка, Катинка…
Катинка! Время высокопарных слов!
Я скажу вам так, собратья во Глахе: мы все живем увлекаясь. Но иногда (даже если по пути в бордель) оступишься на кривом булыжнике и упадешь башкой в перекрещенный лунный луч, и назавтра – верная примета! – встретишь звезду. Так и эльфы говорят, ибо так и есть. Ибо вспыхивает дева ярче полуденного светила в дюжину огней, собственной Гелией твоей, и в душе первая весна от сотворения мира. И те из вас, кто морщится и насмешничают сейчас на задних скамейках (я ли не сиживал там!) – о, знайте, что вы просто несчастны! Несчастны, ибо не ведали даже краешка рая, не вдохнули даже горсти Элизейского воздуха и не знаете цели своей! И даже не считайте себя людьми – о, вы не человеки еще, но сущие лоховесы, непогребенные зомби, ходячие костяные болванки, рыночные марионетки, расходный материал для королей и церковников. Но ждите и молитесь Глаху с Метарой, безусые бражники, чтобы боги подарили вам вечность! Но в том утешение, ученик, что каким бы тощим переулком ни плелся ты в ежевечерний кабак – Всегда Сбыточно Чудо.
История была та, что в тупомечных тяжбищах на гимназиуме я чинно-славно себя показал и вошел в доверие! А! Все те начаточные кустодии, выказанные сержем для новинантов, и даже боле (особо я любил верхний лангорт) – столь вдолбили мне еще в ликейонском гимназиуме, что сия попрыжня с баклерами только смешила. Я-то верно знал от первого брата, побывшего в дольночинной сваре с соседом (за кого вышлось отдать сестренку), что на подлинной брани и щиты-то потяжче, и мечи-то, кто хитровей, подбирали с наострием, дабы чуждую кольчужею проколоть аки бычью кожу… Ну – а паче история та, что самых ловкосердных серж, по праздным дням, возглавлял из лагеря в походах на разомление. Более того – ибо платы, кроме хилой крыши и кормежки с гнильцой, мы и стотинки ижей не имали, то известный кабак “Топор и Дева” (во времена изуверские там рубили власы согрешившим – ну, говорят!) был уделён родичем-комендантусом (ах, глахомольный вор!) уболаживать наши потребные нужды: девки были весьма ушатаны, но под пинту темного любая оченно шла за потерявшую доход белошвейку! И я бы не огнушался так пожить – пожалуй, нет! – ибо заводчик, словив словцо о могущем псевдородиче моем, чуть не всех кобылок меченых готов был самолично отмыть и подстелить! Ох, и разжился бы я (марионетка убогая!) этакою жизнью! Три пряхи, однако, знают свои труды…
Вот так было:
– Аааах! – визгнула рыжая девчонка-прислужница, разливавшая имбирный сбитень по-на-мимо сдвинутых кружек, едва сержева широлапища взлетела ей под булки. Козой вспрыжнула на стол, ей-глаху! Да еще завизжала, вся ярая, как волос ейный, да и сбитень весь, запрокинув кувшин, заплеснула сержу на разусье! И поскакала по столу, повизгивая, перескочивая накиданные кости и пупырыши (курей жрали) и лапкие руки, потянувшиеся к голым розовым пяткам. А серж, красный от сбитня, приподнялся над скамьей, урча огло и распялив руколапы будто в жмурках… моча глаза ручною водой из плошки, шлепнул с размаху себе ж в физию, устроив полную мистерию. Ну, как омытие грехов…
– Агахагаха! – загрохотали пропойцы, давясь от смака и тут же, натужно вращая глазами и пуча щеки, сблевывая излишки под лавку – ну коза! ну нечестивец! – Виина! Хозяииин! Эээля! Сбииитня! – так и орали, хохоча и дрыжа всеми конечностями зараз.
– Новотерка-х! – завистно хихикнула, криво ерзая на мне, доблая кареглазка, впрочем, на один глаз прыщавая, да и с усиками, похоже, проступающими с-под толстого слоя бабьей кой-то мазни над губами, – короче, местная принцесса. – Ниче-х, оботрут скоро-х!
Я уже маленько хлебнул золотого метарского, а то и не маленько, и был довольно добродушен. А по глаху, что эль тот был не золотой, а скорее мочевой! Пфф! От шутки сей стало только смешнее и соседи, с кем поделился яркостью, охохочась, тут же прыснули тем элем на соседей дальше – метарский мочевой! Пфф!!
Впрочем, на такой сердечный накат девиц я не рассчитывал, хотя… дни-то зарубал, столько уж без утехи! Даже в ликейоне, чтоб его, ик! – даже в ли-ик-ейоне чаще бегали в утешный дом за ды-ыкрой… дыркой в ограде, но тама… ох, Глах! Как по-детски шутили там: шныркать в дырку за дыркой! ох, мама! метарский мочевой! – тама хоть были раздельные комнатенции, а здешняя манера девок садиться на мужа прямо при всех!.. хотя, поразуметь, то и шибче для забавы! Благо, мой конец был не малый, чуткий похвальбам сих почитательниц, всякий раз заботно полоскавших его достоинство вином! Сия уж третья! Долго токмо возится…
Конечно, прислужница – то другое, то девчонка почище обычной. Честная, то бишь, строит из себя расфофаночку златонитную, а саму-то для заманки токмо и держат… а то ли и дают за цену-то?.. да хрен знает, спятишь тут от жары и этих угарниц. Но охоче б огневушке той засадить, чем этим клячам пареным… кому-то и полощет, ась… уф. Что-то муторно стало и сильно тошно…
– За Мета-а-ару! – завопил вдруг серж с противного ряда, покачливо вздымаясь над столом и махая, что боевым орлом, огромной двуручной круженцией. – Зааа Меее-тааа-руу… – завыли-застучали прощелыги кто чем мог, да и я воспользовался удачей – смахнул по уху бесполезную девку, воскочил… да и срыжнул, за Метару-то, все, что мог, прямо в стол…
Потом провал (хотя и буянил, грят, сквозь ночку), а к утру:
Что там гнездовилось в голове, какой красочный морок, лихие боги и кудрявые наложницы – все выветрил сразу, едва сотоварищи ливанули за шиворот колодезной склизью. Ажно со льдинками! И вторую шайку уже наготовили, да на себя же и пролили ржачно, когда полез с кулаками… уроды!
– Уроды! – повторил, хохоча с ними же, раздаривая и принимая разшлепоны по загривку, так уж принято на сей службе! Окстилось, так и продрых рожей в стол, а уж день и солнце… Что же! Отлил, опохмелился, да и вывалился в улицу за всей гурьбой, где те уж гопотились на ярмарку – обещались какие-то наезжие скоморошники. И пошли, благочинно горланя метарский гимн, сочиненный недавно каким-то местечковым бардом, – что же еще, коли у герцога с горлопанами строго, да за гимн-то расчудесный как накажет? Все ж за него, родимого! Так и орали, дурачась:
– Пусть даст приказ Равах, врагга развеееем впрааах, Попотчует ворье, Метааарово к-копьеёёё! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метааарских острых стре-йе-йе-ел! Звенит военный гонг, шагает в шаг плутонг, Прикроет ваш шабаш, Метарский герцог наш! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метааарских острых стре-йе-йе-йе-йе-ел! – ах и весело было, с гудящею еще головой, дрожащими еще в икрах ногами, топотать по парадному булыжнику, что украшал центровую улицу. И кричать, что было мочи:
– Да здрааавствует Метааара! Да здраавствуует Равааах!
И как ни хмурились кожистые комендантовы закрутчики (родичи, Глах его!), как ни почесывали прилюдно руки, да серж строго выучил – максимум можно пришлепнуть подвернувшихся простушек за что дотянешься, то же во славу герцога, что визжишь? Аха-ха, как хорошо! Большинству-то и нравится, раз под руку мнутся! Ах, то же ярмарка, Глахов день! Но разок и самим нам пришлось, точно простолюдам, прижаться ко стенкам: когда (помяни беса!) пронесся вихрем герцогский отряд, и даже будто (против солнца же!) черный профиль герцога развидел, так и отпечатался в глазу. Ух, страхота! Ажно ко смеху стражников ногой в цветочную кадку какую-то вляпался…
И вышли на площадь, увидав которую, всю в расцветных палатках торговцев, всю в аромате осенних радостей живота, я и не признал сперва. Лишь когда пробились прям к скоморошной арене, зазывально бросились в глаза разноростые буквы, разодетые в робы и хламиды, кафтаны и камзолы, да и сами Эл-да-Пирси в каурых сюртуках почтительно вливали что-то в оба уха развалившемуся в центровом кресле комендантусу, лениво покручивавшему бороду кривым мизинцем. Народец, конечно, напирал и прикрикивал, но все же продавились-проражились ближе к лицедейству. Шло наново представление Аристофена, смутно мне помнившееся по Коголану… когда также мялся-толокся на площади в компании лицеистов, сквернословящих от избытка пива, и любовался издали на королевскую трибуну – на юную графиню Эльзу, кривящую розовые губки на эти шутки… и воспоминания те… изнутрешной какой-то тоской брызнули из глаз, расколдовали будто весь окрестный морок, все его похмельное веселье, обнажив за пестрыми шторками палаток ту же варварическую нечистотность. И мерзкая пьеска, которую теперь, обжатый гыкающей толпой мастеровых, я вынужден был терпеть, срамила мне – ах! – самого себя!
Ах, друзья лицеисты, тогда я только чувствовал, но не понимал. И только теперь, вспоминая ту ярмарку, могу сказать, что узнал до конца горький гений Аристофена: взять бездельника из толпы и окунуть в деготь, и измазать курячьим пометом – и саму ту толпу заставить над собою же глумливо хохотать. Надо признать, и театр Эла-Пирси был затеян изрядно, с разными механическими выкрутасами, добавляющими абсурда картине:
Светловолосый незнакомец пойман на задках дворца – дворца! – справляющим большую нужду. Эпически прикован, приклеен своим испражнением к земле, не может освободиться – запор! о-ха-ха-ха-ха! Когда же взбешенный князь готовится убить его – вертится как на колу и от страха срет все больше, на этой говняшке поднимается вверх – к Годоте-Гадесу. Который, в свойную очередь…
Уф! Даже показалось, что вся возбужденная толпа округ ажно обделалась разом, так вдруг ударили в нос чьи-то газы… насилу выбрыкался через-сквозь палатки на главную улицу… Да и тут какие-то перечества: загородная веревка между столбами и кожистые стражники, жестко костыляющие всем, кто гнался под нею перескочить сторону… крики и дав, еще нестерпнее, чем у сцены, ибо толпа куда-то влеклась, отжимая ноги… топот и многоголосое хрюканье… хрюканье? Толпа? Да не схрюндил ли я и сам от избытка эля и не оборотился ли сам? Ах! Вспомнил! То был (Щерба ли упреждал?) праздничный местный обычай – выгон свиней на жор, короче на очистку дорожек от всей съестноватой дряни. Варварское рассвинство! Стражники прогоняли по улицам свой особый свинячий плутонг, а народ безжалостно отпихивали в любые щели… пихнули и меня, совершенно нечинно, но я уже не рыпался, наученный былым… эх!.. Пихнули еще разок, и кто-то опешенно запищал за спиной:
– Ах, сударь! Вы меня убили! Ей-глаху убили!
То была румяница-прислужница из той, из первой таверны! Ясенно, наодежена была по-праздному, в белой робе с красной рунной вышивкой, а то ли и не рунной, а просто отороченной пестрявым орнаментом. Из-под подола же – вот прелесть! – выглядывали ее ножки, которые я, медведь-шатун, чуть не отдавил: заради праздника и самотной, как говорится, бабьей погоды, что выпадает рано в осень, была в одивных белых sykhos… Кажется, так? Ах, забыл слово, хоть и слышал когда-то – как бы краткие гольфы и с разделением для большого пальца. Ну это нарочно, чтобы – вот как сия чудная дева! – надеть потом в улицу легкие лыковые подошинки на тонких оборах. Ах, чудо!
На русой же головушке ея (так по радостно-ярмарочному и хотелось говорить!) косы были укрыты в тугой узелец, опоясанный листяным венком на ивовых прутках. Ах, уж нанизала она и дубовые листы с вкрапленными гландисами, и ясенные с крылатками, и яворовые пурпурные пласти… И голубые глаза ея, чище у края и с синею обороткою вкруг зрака, глядели на меня, блестя от смеха, из-под взмахов поющих ресниц. Ах, сколь часто потом перецеловывал я очи те, темнеющие в накате страсти, и горячие щеки, пылающие нежностью сквозь горничный полумрак, и тонкие ноздри, раскрывающиеся судоржно от нехватки эфира, когда любил ее бесконечно!
О Глаше, Глаше, Глаше!.. Ах, как тот я заметался по соломе, ловя мнящуюся рядом девчонку! Забубнил что-то, заслюнявился счастно сквозь разноцветный сон! Ах, а сон был – что листопад: то побежалостью метнет в лицо, то кармином простежит-поманит дорожку впереди, да и зашелестнется в клубок… Все частички моей души, крупицы бесполезных знаний, всех литературных штудий в ликейоне, в коих не последний был!.. частиц, давно на дне души осевших, взвесились тогда по эфиру бисеристой дрожью, заголосили и раскрасились в этом сне. Как бы – вот, спал я (тот мальчишка-Гаэль) в тусклосерой каморке, разбросавшись руками-ногами по клочьям соломы, тусклый такой паренек, – а выше-то, над кособоким домишком, в разъяснившемся небе полошилось сияние жар-птицы, сияние моей души, и столь дивных глубинных оттенков, нежданных каждый-охотник-желает-знать перемен, будто торжество невыразимых истин над горечью листопадных утрат… Грядущих утрат? Ах, будущее! Только и ведомое в бреду! И каждый раз, когда еще и еще вспоминал и вспоминаю ее, – я уже не знаю, тогда в прошлом вспоминал или в нынешнем сейчас. И если слова мои звучат слишком мастеровито для безусого мальчишки, то помните, что все настоящее вечно и говорю я – из будущего языком эльфов. И в мальчишечью мою любовь – в любом возрасте могу я войти, как в живую картину, и жить ею заново, и чувствовать новые краски, и говорить прошедшей любви новые нежности.