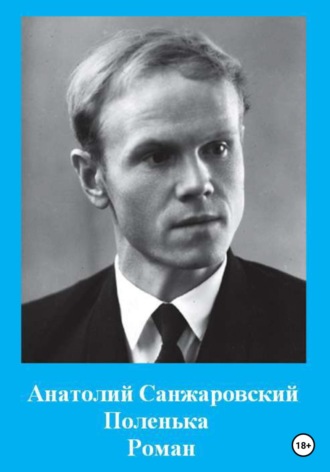
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
– А какие ишшо за́игры? Я серьёзнушко.
– Но и я не шучу. Ты чего подкусуешь дорогую Софью Власьевну?[39] Чем об комсомоле кукарекать, ты б лучше в свой колхоз забежал. Он у вас хорошо называется. «Безбожник»!
– Нетутка! Мы с колхозом вразнобежку! Что я в том «Безбожнике» забыл?
– Свою долю. Между прочим, счастливую.
– Счастьюшка там вышей ноздрёв! Захлебнёшься!.. Сведи туда всю свою живь, свези всё из амбара и – складывай гробно ручки на пупке? Колхозную ж счастью не то что люди – скотинка не сдюжит. Вон, – пошёл глазом к Поле, – ейный батечка на той неделе наезжал, так говорил… Отдал он под колхоз «Стальной конь» свою коровушку. Из череды она не к «Стальному» – домой бежит ревучи. Дома и живёт, покудушки снова не заберё. Раз сам председатель Сапрыкин, преподобный Иван Алексев, забирал и сказал: «Похлестал ты, Владимир Арсеньич, чуток молочка и хватит!» Председатель тащит её, а она ревёт, ревёт. Это надо!.. Сдал сваток «Стальному дураку» и своих овечушек. Так вечером они с луга тоже бегуть не на обчественный баз – к свату бегут к калитке рыдаючи!
– Так то овца… Глупь…
– Другой овцу Бог не сделал… И меня другим забыл сделать. Костьми паду, а к колхозу ни на волос!
– Уй-ё-ёй! Ты, дед, уважаемой Софье Власьевне не грубиянствуй! Кончай этот грубёж. Наша власть культурная, не любит грубости. Она ещё чуток на тебя посмотрит-посмотрит да и молча свернёт тебя окончательно в бараний, извини, витой рожок. Что-то ты слишком быстро всё подзабыл… Ты сколько лет сидел?
– Не сидел… Отдыхал…
– Видать, мало отдыхал на сибирском лесоповале. Мало ему три года! Нашенская власть добруха. Ещё подсыпит!
– За что?
– А чтоб ты ещё где за Полярным кружочком культурно поотдыхал и дозрел до колхоза. Упёрся быком…Не пойду, не пойду. А ты не упирайся. Не бычок же ты деревянный… Наша власть не любит непочтительности. В твоём положении…
– Я не баба, я в положение не заскакиваю! – вкрикнул дед.
– В твоём положении побеждает тот, кто полностью проигрывает! Ты уступи, ты сдай на хранение свою дурь колхозу и смирно преклони себя перед колхозным обчеством.
– Знаем мы это ваше ёбчество…
– Пристынь… Приглохни… И ты на коне!
– Я и сейчас на коне!
– Тебе кажется.
– Что я забыл в колхозном ёбчестве? Работников никовда ни одного не держал. Всё сам, сам… Своими руками, своим горбом, своим задом упираюсь… Всёшко сам!
– Всё сам, сам и заехал в куркули! А кулак на деревне враг номер один!
– Вот мы и сошлися номерами… Первый секретарь… Первый кулак…
– Твой номерок, дед, уже гопачка не пляшет! Доволе… Сколько вы, кулачьё, покуражились? Сколько положили советского люду? Лично меня только то и спасло, что отлежался под койкой! В окно палили!.. С-с-суки!..
– Иль личностно я палил?
– Ты… не ты… А такой же, как ты!
– Да кто б и палил, не трогай вы нас? Ответ… Он и есть ответ…
– Ну, ладно. Мы добрые. Прощаем! Иди, дед, в колхоз, и все твои беды примрут… Твою молодь, – Горбылёв качнулся верхом к Поле с Никитой, – тогда я в обязательности приму в комсомол. Не отпихиваю и тебя от комсомола. Так и быть, примем в свои ряды почётным комсомольцем…
– За почётец спасибствую… Но я от своей линии не отступаюсь.
– Тогда не ропщи. Софья Власьевна памятливая, не забывает своих кровных друзей. Ты, единоличная контра, пока разлагаешь колхозный народ. Ты это понимаешь? Ну, кто потерпит такое разложение? Ты, дед, допрыгаешься, что снова отбудешь в скором времени на заслуженный отдых на сталинской даче.
– Я уже и так хо́роше отдохнул.
– Не-ет! Отдыха тебе добавят. Крутого! И теперь может статься, что на отдых мандыхнут из-за тебя всё семейство, близкую родню. Да ещё могут так… Тебя, дедо, катнут в одну сторону, бабку в другую, сына в третью, невестку в четвёртую. Ты этого очень хочешь?
– Да ты что, товарищ Горбылёв!?
– А вот то, товарищ Долгов. И может случиться это и через месяц, и через неделю какую…
– Ты-то откуль знаешь?
– А вот оттуль! – вскинул Горбылёв руку. – Вызывали сегодня меня туда, всё распытывали про Полю… Мол, что я знаю про свою бывшую соседку. Я ж в Собацком жил с нею по соседству… так что думайте. Лучшее – всем долговским гамузом заступить в колхоз. И все вы спокойны до гроба. Или, если уж глупость так вас разбила, отпускайте молодых на все четыре. Зачем им из-за вас крючить жизнь? Пускай поскорей пропадают с калачеевских глаз. Если хотите им добра, гоните их дрыном из своего криушанского гнезда. Сегодня же! Размазывать сопли некогда! Помните: cвоих кровных друзей Софья Власьевна любовью не обходит!
Этот сон понравился Сергею. Наконец-то что он хотел, то и сказал Поле, свёкру. Только как всё это ещё выложить им вживе?
Уж как-то и скажет. Главное, он решился сказать, а потому и прискакал сегодня в Новую Криушу.
Он не представлял, как именно будет выглядеть эта встреча. Но только не так. Поняв, что Поля разыгрывает вид, что не знает его, он тоже пустился бить той же картой. Не знай, не слышал, впервые вижу! Хорошо бы и ему повернуть да съехать. Эффектно. Но что подумают артельцы? Надо хоть видимость дела выдержать. Надо с народом поговорить и благопристойно отбыть.
Ораторствовал он про что попало. Что легло под случай, про то и барабанил. И про укосы, и про обязательства, и про виды на урожай, и про погоду, и про то, что она полями правит, и про… Ну чего с пуста не брякнешь?
Он понимал, надо ехать, хватит маять ребят болтушкой – и не ехал.
Его вдруг осенило.
– А думаете, – вскрикнул бесшабашно, – я только и могу, что про гектары да про надои? Иль я не деревенского выпуска?
Сергей смахнул с себя всё до пояса. Теперь и он был, как все косцы, наполовину открыт. Никиша увидел, что долгая тоскливая фигура была в стройности лишь под чесучовой одежиной, а так в нём ни вида, ни стати. Худей кощея, живот арбузом, будто был вождюк на десятом месяце. Дряблые длинные руки нелепо висели кнутиками, белы, как брынза, и все тело белёсо, в пупырышках, словно кто для смеха осыпал его крупитчатым мелом.
Никита не удержался. Бухнул:
– А в каком это погребе вы загорали, господин товаришок секретарь?
– В калачеевском. – Сергей осклабился, в бережи поднял Полину косу. – Пока сердце горячее – рискну.
Косил он занятно. Литовка то куняла носом в черняк, в чернозем, то на всех ветрах облетала его, Горбылёва, на уровне пояса, облетала так сильно, что он круто заворачивался всем корпусом, точно она заносила, вертела его, и он ничегошеньки не мог поделать с сердитой, с норовистой косой.
«Мда-а, паря, ты не косец, а хренодел», – уныло подумал о себе Сергей. Он с завистью взглядывал вмельк на уже косившего впереди Никиту, завидовал бронзе его ног (штаны закатаны под колени), завидовал, как коса у того проворной змеёй сквозила под травинами и белой плёткой-молнией в мгновение выскакивала на прокос.
Следком за косой ещё какой-то миг травы стояли на срезанных ногах. Это как человек, сражённый пулей, падает не сразу. Какой-то кусочек секунды он ещё бежит в атаке вперёд, бежит уже со смертью в груди, бежит за своей победой. Разве он думает о смерти? Но смерть-то уже навечно поселилась в нём.
Так споро, так легко всё шло у Никиты, будто, казалось, он и не был причастен к волшебству своей работы, просто намахивал сказочной палочкой-косой, и уже вслед за ней травы со вздохом, покорливо ложились рядышком в валки.
Открыто смеяться над горьким залётным расхлебайкой не отваживались. Начальство-с! А потому, прикрывая рты кулаками, разошлись по своим местам. Мол, пляши как знаешь, а нам не в час рвать над тобой, танцорик, животики!
Вождешок шёл в последышах.
Его никто не видел кроме Поли.
Поля покормила сына и пошла к Сергею взять косу. Он был к ней спиной.
Искоса она видела, как он замахнулся её косой, как потешно дёрнулся, обегая себя с косой в вытянутых руках.
«Цирк приехал бесплатный ставить, что ли?» – подумала она и, наблизившись, опустила голову.
И тут…
С разворота, уже теряя силу, коса клюнула своим носом Полю ниже щиколотки. Алая струйка нервно прочертила дорожку к ступне, зализалась под неё и копила уже там сбегавшую кровь.
Вывалил Сергей глаза. Откуда здесь взялась Поля? Откуда эта кровь?
Раскрыла Поля рот, но не крикнула. Зажала боль. Хватило воли смолчать. Иначе что б сталось с Сергеем?
– Дул бы ты отсюда до горы, чёртов помогайло, покуда никто не заметил. А то до худа недолго достать, – морщась, проворчала она, зажимая рану пальцем.
– Я тебе помогу? – расшибленно промямлил он.
– Напомогал, дундуля, выще глаз! Уходь! Уходь, пока, – глянула на весело работавших и не обращавших на них внимания косцов, – пока хлопцы не порвали тебе бока.
Она выдернула у него свою косу и, ладясь идти поровнее, покулюкала назад за кусточки к сыну. Там она заложила рану тряпицей, подержала, покуда не задавилась кровь, и стала косить одна чуть в сторонке.
А Горбылёв торопливо распростился и не поехал, а почему-то понуро побрёл в сторону Калача. Конь шёл за ним, скорбно покачивал головой и тоскливо по временам фыркал.
Дома Поля сказала, что и не знает, где это она подпортила ногу, что всё это пустяк и наутро снова засобиралась на покос.
– Вот это уже глупостя! – накатился свёкор. – Сиди дома. А то пойдёшь за уткой – потеряешь лодку. Всё одно дом не оставишь без глазу. Будешь нянькой за меня. Я сбегаю скошу твоё. Побуду хоть день комсомолёнком.
Поля уступила, осталась дома.
С самого утра жарко разгорелось солнце. Она сидела на завалинке и пряла. Перед ней в колыбельке, что подвязали к суку груши, лежал Митя. Её шатнуло спеть ему. Но что? Колыбельных песен она не знала.
Она задумалась.
Из какого-то дроглого марева зыбко повыдвинулись картинки её свадьбы. Временами что-то виделось впроблеск чётко. Тут помню, тут не помню… На удивление самой себе вспомнился кусочек одной свадебной песни, и Поля запела, слабо поталкивая люльку плечом.
– А на гори дощик з росою,
Говорила дивчина с косою:
«Ой, коса ж моя кохана,
Щосуботоньки чесана,
Щонидилиньки квитчана,[40]
За один вичорок потиряна».
Пела она скорей себе, а не сыну. Сын уже спал в колыбельке, в обычной плетёной ивовой корзинке. После самого дома она была самая старшая, вторая в доме по старшинству. Её не раз поправляли, подплетали новыми прутьями, и это не вредило её особому почёту, потому что в ней начинали расти все, кто жил и живёт ныне в доме. Случалось, старик вгорячах выкидывал её, дряхлую, за клуню. Проходил какой час, он летел за ту же клуню, проклинал своё легкомыслие. «Да в ней же весь наш род вырос и не нужна? Помешала?» Снова поднимал её на чердак, в тёплышко, откуда её ещё раза три выбрасывали и скоро возвращали. И вот дождалась старенькая колыбелька нового жильца. Митенька сладко спал в ней. Подрагивали розовенькие ноздри, шевелились губки. Они пахли черносливом.
Услышала пенье свекруха, подсела к настежь раскинутому окну, створки которого едва не касались Полиной головы.
– А ну тебя, Полька, к коням со своими жалобами. Сыграла б чего распотешного! Да и посматривала б, прядёшь чё. Прядёшь же нитки, как куриные лытки. Больно натолсто.
Поля оглядела пряжу на веретёшке.
– Разве это толсто?.. А истонко прясти – долго ждать, мамо. Ничё, сойдёт. На зимние носки пустю, большь тепла будут собирать.
– Ну разве что на зимние… И что, ни одной охохошки не знаешь?
– Почему не знать?.. – Поля зарделась. – Знаю. Тилько як его петь Вам?
– Да как можешь.
Разговор разбудил мальчика. Он неподвижно уставился на мать и не выказывал никаких чувств. Как бабка ни трясла ему рукой, как ни строила рожицу, упрямо не поворачивал к ней голову. Старуху это задело. Она дразняще выставила язык, высунулась до пояса и едва не выпала из окна. Это геройство, казалось, мальчик заметил, оценил любовь к себе бабки. Улыбнулся в награду.
– Так бы и давно-о надо, Никитыч! – поощрила бабка улыбку и позвала его к себе высохшими, тонкими пальчиками. – Ну пойдёшь к бабушке на ручки? За это я скажу тебе сказку про козу-лупоглазку, скажу другую про козу голубую…
За обещанием сказка не последовала. Мальчик же, похоже, лежал и ждал именно обещанной сказки. Бабка все уже свои сказки забыла, и Поля не знала. С благодарной теплотой старуха заглянула мальчику в синие глаза с отливом, неожиданно ударила припевку:
– Мне сказали про милова —
Он черненький, маленький.
А я вышла посмотрела —
Как цветочек аленький.
Мальчик счастливо дёрнул пухлой ручонкой, обрадовался бабкиной выходке и разом потянул кверху обе ручонки. Подымите!
Поля поставила его на ножки, поддерживает широкой ладонью за спину. Он колыхался в кошелке, готовый упасть. Но ещё больше, наверное, зуделось ему выстоять и услышать, как мать отвечает:
– Пойду плясать,
Доски гнутся.
Сарафан короток,
Ребята смеются.
Бабка как-то лихостно скакнула в окне с ноги на ногу, в приплясе ткнула в сосредоточенно сопевшего внука рукой с платком.
– Поиграть хотца,
Сплясать хотца.
Сбоку душка стоит,
Поплясать не велит.
И тут же дальше:
– Эх, что стоишь
Посвистываешь?
Картуз потерял,
Не разыскиваешь.
Поля повязала мальчику серую ленточку на левую руку. Разгладила эти часики.
– Мой мил при часах,
А я при калошах.
Не любила я плохих,
Любила хороших.
Хвастливой оказалась и бабка:
– У маво у милова
Четыре рубашки,
Еще пояс да ремень.
Пирменяя кажный день.
Поля посадила мальчика на ладонь, гордовито подала в окно бабке. Полюбуйся, свекровушка!
Старуха наклонилась принять кроху – Поля отступила на шаг. Держала сына на вытянутых кверху руках, покачивалась, светло выхвалялась:
– У нашего у нашки
На щеках-то ямки.
Много денег у него,
Выди замуж за него.
Старуха приняла в окно мальчика, поцеловала в коленку и, прижав к груди, загудела протяжно, просительно:
– Проводи-и меня, Митрю-у-ушка-а,
Ночь темна-а, одной мне жутко.
Уставилась в глазики, затормошила:
– Никитч, ну доложь как на духу, что ты думаешь про нас? Вот, скажешь, две здоровые долбёжки в детство упали и выкачуриваются. И спробуй уведай, кто здеся взрослый, а кто писун. Не-е… Что малое, что старое. Слава одна, бзыки одни. Не так? Докладай…
Мальчик без доклада захныкал. Запросился к матери.
– Уходи, уходи. Не восплачу! Мне и так мои косарики покажут все двадцать четыре света в одном окошке. Солнце на обеде уже. А я, старая кошёлка, ещё не варила, не пекла. Всё с тобой чичкаюсь. Вот-вот набегут мои подобедать. Что кусать-то станут? Ою, напрядуть на кривую веретену!
В панике бабка сунула в окно мальчика.
– На-кась, Полька, Митрофания Никитча назад. Всё! Побёгла на поклон к чумазым чугункам. А ты… Скоро жнива… Подмети в клуне… Осторожней там. Намедни видала, как черти поблизу носили какого-то запорожца.[41]
– А-а!.. Поносили да и бросили. Унесли куда…
Подмести в клуне тоже дело.
И Поля мела, посадив мальчика у двери на серый платок, раскинутый в теньке у двери. Вдруг то ли ей чудится, что слышит, то ли в самом деле слышит: зовёт её кто-то. Вслушалась. Голос из знакомых. Выскочила из любопытства за клуню. Серёга скок со вчерашних дрожек, подаёт поверх плетня узелок.
Опешила она, пристыла на месте. Подойти? Иль убраться к свекровке, подальше от трезвона? У нас же всякая травинка видит, всякая пылинка говорит. На полземли слыхать.
Поля рывком повернулась уйти.
– Варакушка, – догнал её повинный, горький голос, – пожди…
Как резко пошла, так резко и остановилась. Повернула лишь голову. Кинула с плеча:
– Ну, стою. А дале шо?.. Чего ты по чужим по задворьям слонов слоняешь?
– Будто я и себе отвечу на такое… Спроси попроще что…
– Ищешь летошний снег? Ну!? Пустыня у тебя в голове! Зачем ты сюда?
– Вот зачем. – Сергей тряхнул узелком. – Бери.
– А что там за отрава?
Боясь, как бы и впрямь не навязал ей эту узлину через силу, она унесла руки за спину.
– Вчера… после… примчался в Калач. В аптеке взял, что нужно к такому случаю, и назад. Свечерело уже, череда отпылила с пастьбы… Крутился вокруг вашей хаты до ночи. Думал, Боженька вышлет тебя, так отдам. Не выслал… Ни с чем и уплёлся…
– А-а! Так это ты баклуши сбивал? Свекруху мою смутил… Пока конишка на бегу, летел бы с глаз. Он у тебя ученый, за тобой пеше ходит. Вчера видала…
– Учёный…
– Да… По городам не только люди ученые. Там и кони все прохвессора…
Сергей уловил насмешку в её словах, насупленно буркнул:
– Как нога?
– А шо нога?.. Приложила свежего пирога коровьего… Видишь же! Мало подёргивает, да это нанедолго. День какой, два. А там и засохнет, як на собаке. А там и пляши польку, Полька…
– Возьми узелок. В нём всё такое от ранения…
– Чего удумал… У нас свои травки, баня… А этими лекарствиями сам свои городские правь болячки. Во всем роду в нашем никто и разу не забегал в больницу… Уж лучше сознайся, внарошке, в отместку чесанул по ноге иль всё ж по нечайке?
– Ничего себе нарочно! Да я в смерть напужался. Вот уж где ваньзя! Всю жизнь жил в деревне, а косу даже не умею держать!
– Посказал! На кой тебе коса? Ручку удержишь с пёрушком? Удержишь. Ручка и прокормит. Что тебе, грамотнику? Не нашего ты поля ягодка теперь. Городского. Калачеевского.
Сергей воткнул нос в землю.
«Это ни в какую гору не складёшь… Р-раз и пересадила меня в городской огород кверху корнями. Живо-два отсадила от своего сердца… Из-за проклятой школы невзлюбил меня твой батяня. И всё равно сунься я раньше сватать, отдал бы. Ну куда б он делся? А тут… Только на девятнадцатый годок взлез, ан слышу донесению: Польку выдали в Криушу в Новую… Умылся Серёжик… Не оставляй, горюша, свою любинку ни на день, если хочешь, чтоб она от тебя не ушла. Нестойкий элементишко женщина. Кто поманил быстрей, жалостливей, туда и побежала козлица капустку грызть?»
Его молчание подпекало Полю.
– Чего молчишь? – спросила она. – Иль у тебя язык ниточкой перевязали? Подхвались, об чём твои думки?
– Да думка одна… Куда ни кинь, всё клин, а рукав не выходит… Взяла б узелок.
– Зачем? Принеси в дом, як запоють? Где? Шо? У кого? Догадки пойдуть. Клубок такой свертится, шо и окаянцу тошно станет, сорвёт.
– Я вёз тебе, неприступа… Ты не берёшь… Так я его здесь и похороню. – Сергей набутусил губы, швырнул узел невдальке от тропинки, где стоял, в крапиву, и уже оттуда, из крапивы, узелок смотрел сиротливо, заброшенно.
Сергей почему-то сравнил себя с пропавшим узелком в крапиве, подумал о себе: отваленный, никому не нужный ломоть. Ему стало жалко себя, обидно за себя. Годы бегут, бегут скрозь пальцы, как вода, а в горсти жизни ничего не зацепилось, пустота.
Маятно и вместе с тем восхищённо-завистливо покосился на мальчика, – на четвереньках ползал по краю платка и не решался перескочить через толстенькие прядки бахромы.
– Как назвала бало́вушку?
– Митя.
– Воинственный… Дмитрий Донской… Богатая ты, счастливая. У тебя уже сын, продолжение твоё.
Откровенная его радость как-то разом обожгла Полину колкость, умягчила.
– Один сын, – зарделась она, – не сын. Это мне так говорила свекруха. Два сына – полсына. Кабы их три сына – полное хозяйство. А уж коли шесть сынов – три царя, три батьки!.. Не помирай мои соколики, небо б подперли…
– У тебя ещё были дети?
– Были… Да Господь посетил, шестерых прибрал сыночков. Длинней месяца ни один не жил…
Слёзы без спросу покатились у неё по щекам. Они собирались на подбородке. Поля тихо качала головой, слезинки бегали по его ободку, вытягивались и белыми копьешками сыпались в траву.
– Шо я про себя да про себя. Ты-то як там, в городе? Як склалась жизня?
– А никак, Полюшка… С кем складывать-то?
– Парубок ты на лицо гарный, стати высокой… На такой работе да не найти кого под пару?
– Работа… Ну, на людях всё время. Правильно. Ну и что? Без тебя ненастье на сердце, так и в вёдро дожди бьют… Вроде и хорошие встречались… А гляну раз, гляну два – нет, не могу и не хочу. Не лежит душа, хоть убейся… Коварная дама жизнь. Не даёт сполна радости. В одном, кажись, уступила, лишку даже, может, плеснула. Так на другом так тебя ахнет, едва не всё выплеснет из тебя. Судьба не любит своего терять. Вот я. Ворчал на меня прилюдно твой отец. А так, в глубине, привечал. И присватайся я раньше Никиты, взял бы в зятья. Не вскозырился б, не упёрся бы против твоего желания. Было б, как ты хотела.
Поля грустно кивнула.
– А вкружило в комсомолий… Я ж в хуторе у нас не первый ли комсомолишка… до озверения активный… Двум радостям в одной душе не ужиться. Потерял тебя. На том и сел.
– Подай волю, я б ждала тебя, як обещалась. Но батько напрямо сказали: не пойдéшь за Никития сама, отдам за столб, а в девках рассиживаться не дозволю. С-под батько-вой воли иль выскочишь?
– Ты довольна сейчас? В радости живёшь?
– А ежли б щэ знатьё, шо оно такое радость… Есть-пить вдохват, домяка царский… Всего до воли кругом. Наши все на коготочках передо мной. Так бы в грудной кармашек вместо цветка посадили да носили… Мне всё это в мýку. Я, правда, не показую, да от самой себя разь укроешь?.. И на золотую подушку слезе не заказано падать… Стороной слышу-послышу, как промеж собой молодайки говорят. Радуются не нарадуются со своими мужиками. А у меня по-ихнему ничего и близко не ложится. Всё ровно, всё прохладно, с какой лаской ни разбегайся ко мне мой. А чего я к нему такая, кто бы мне и отолковал? Он добрый, больной на работу… Дорогой любви сто́ит! Понимаю я то разумом, да сердцем того дать не могу. Не сердце, ком ледяной… Сердце у меня в мачехах… Твердили, стерпится – слюбится, стерпится – слюбится… Что же не стерпелось?.. Устала я. И чёрт так в ступке не утолкает… Устала от своей нелюбви, устала от брехни и себе и ему. Тольке молчу… Молчу, молчу, а там и вымою подушку слезьми. А там и поплыла моя подушенька с-под лица на моих на горьких…
– Эх, варакушка, затерялись мы с тобой две бездольные былинки в пустом тёмном поле. Какому ветру не лень всяк нас долу гнёт в дугу. А стань мы рядом, стань союзом, не ровнее бы стояли? Ровнее, крепче! Вдвоем мы крепче! Вот влети мы в тот хмельной апрель, на ту лесную стёжку, снова ускреблись бы домой разными дорогами? Разными?..
Медленно, твёрдо Поля повела лицом из стороны в сторону.
– Не знаю…
– Зато я расхорошо знаю, родинка… Одной дорогой ужгли б мы тогда на край света! – вывалил он с горькой страстью и подивился себе: «Я ли молочу? Наконец-то рассмелел карасик…»
Она согласно, кротко мотнула головой, будто стряхнула тяжёлые, смутные мысли, отнёсшие её куда-то далеко отсюда. Прикипела к Сергею тревожным долгим взглядом.
– К-край света?.. Где он? Мой край Манино… Там мама родилась, до замужья жила… Ну, Скрыпниково ещё…
– А другому откуда взяться? Ты ж дальше этих деревнюшек не забегала.
– Не забегала, – торопливо подтвердила Поля. – И мы б в самом деле поехали? Яа-ак?
– Это просто. – Голос у него дрогнул. – Я бы, как писали в старых книжках, подал бы тебе карету…
Широким жестом показал на дрожки со здоровым жеребцом.
Поля подхватила Митю, спал калачиком на платке, неуверенно похромала через заднюю калитку к дрожкам. Любопытство подстегивало её, и она уже боялась, что он скажет, что все это игра. Но он благодарно молчал. Она набавила сбивчивого шагу.
– Посадил бы тебя… – Сергей помог ей подняться. – Сел бы с тобой рядышком… – Он сел рядом. – Вот так… Вот так бы шмальнул своего конёнка… – Сильный удар. Коня, которого никогда не били, кнут поднял на дыбки. Как бы падая с той выси, конь набрал злую скорость, с места рванул молнией.
По глянцевито накатанному просёлку дрожки несли бешено, ныряли на редких пологих неровностях. Проснулся Митя, недоуменно уставился на мать. Казалось, он спрашивал: «Что же это вытворяется на белом свете? Куда это Вы, мамынька? С кем?»
Впервые не выдержала Поля сыновьего взгляда. Больней прижала мальчика лицом к груди.
Взыгравший ветер заставил её посмотреть на себя. Только тут она увидела, что была босонога, простоволоса, в одном облинялом ситцевом платьишке с короткими рукавами. Под ветром платье так живописно выказывало сладкие радости молодого упругого тела, что Полю кольнула неловкость перед Сергеем.
«Я совсем ни в чём», – пожаловалась она ему одними глазами.
– Эта беда до первого магазина!.. Поспеем в Калач к вечернему поезду!
Он вытянул жеребца по боку. Тот взял ещё звероватей, ещё шутоломней, будто тысячу лошадиных сил вбили в копыта. Конь летел, откинув гриву, и она, длинная, мифическая, вытянутая на ровно стонущем вихре, казалось, окаменела чёрным гребнем. Весь экипаж разлился в одну стремительную полоску, мчащуюся Бог весть куда, и спроси об этом ездоков, они б наверняка удивились вопросу и не смогли бы ответить. Однако они спешили. Куда? К чему? Что они делали? Всего этого у них и в мыслях не было ещё несколько минут назад.
– В обрат! – Поля в ужасе ткнула раскрытой пятернёй в мелкий, жалкий кустарник, который огибал проселок и из-за которого навстречу гуськом вытягивались к обеду косцы. – Давай в обрат!
Как же раньше не заметил их Сергей? Поворачивать поздно, увидали. Да и не уйти уже. До них метров каких десять. Проскочить! Он с особой силой, свирепо хлестанул жеребца, и тот, всё ещё не привыкнув к жестоким ударам, дрогнул, наддал. Косарики со скошенными лицами метнулись с проселка врассып.
– Никишка! Твоя баба с малым на руках!
– О Господи!.. Господи!..
– А Господи чем жа не Бог?
– Куда лукавый её несёт?
– К-куда?!
– Не кудахтай, а то снесéшься!
– Чтой-то делать надо!
Дрожки уже пролетали последних косцов, как Никиша, шедший в хвосте, дикой кошкой кинулся к жеребцу на полном скаку. Мог он не рассчитать, мог обмахнуться, угодить под ноги. Ан нет. Каким-то хватким, мёртвым движением, каким-то магнитом – то ли то была случайность, то ли то была просто судьба ещё рано погибать, то ли то была распрекрасная сноровка, нажитая во многие годы общения с лошадьми, – поймал Никита, замыкавший вереницу, буланого под уздцы, обвил ногами верх передних конских ног. А дальше? С раскачки выкружить на оглоблю, оттуда, держась одной рукой за дугу, другой за гриву, выдернуться на самый верх? Сесть верхи и перехватить вожжи?
А не проще ли болтаться у жеребца на горячей груди и, помалу опускаясь, сжимать ему ноги своими? В конце концов сам не станет, так спутаю – свалится. Правда, на меня. И он на меня, и они на меня, и весь драндулетина.
Никита поплотней уцепился одной рукой за концы удил, другую перебросил на дугу. Судорожно прижался щекой к щеке коня. Фиолетово, устрашающе косил-горел над ним большой глаз.
«Родимушка… Ты не человек, ты всё понимаешь без слов. Не сироти меня, разуважь… Стань… Зачем ты её увозишь? Я без неё и дня не выживу…»
Когда Никита повис на узде, Поля в испуге уткнулась Сергею в плечо. Обмякнув, он выронил кнут и, обняв Полю, вжался губами в её губы. Она не отталкивала его, а только плакала и в полуобмороке подставляла поцелую губы.
«Коник, золотце, что за гидру ты к нам привёз? Я ж этого твоего водырька уработаю!.. Согну в дугу и концы на крест сведу. Я венчался с нею, а он целует… Это я из него соком выжму. За таковское мало всего выпотрошить да соломою чучело набить. Тебе не видно… Я вижу… Це…-целует… Перед смертью разбежался надышаться…»
Гася бег, конь заржал, изогнул шею, будто и впрямь хотел увидеть целующихся.
Напоследках дрожки остановились.
Сзади набегали косцы. Уже долетал вязкий стукоток босых ног по глянцу просёлка, слышались сопенье, выкрики:
– Во-от так гоп со смыком!
– Ну и молодайка! Вся в грехах, как в репьях!
– Да оно как и судить… В молодости и курица озорует.
– Ай да комсомолий-пособничек! Вчера приплясывал перед бабьей косой, а нонь саму всю бабу угрёб!
– Игде коммуняка лисой пройдёть, там куры три года не несутся!
– Зато мокрощёлки брюхатеют! С какой холеры кидаются они в разноску?[42]
– Выкрал ястреб курочку! Разогнался целовать до последнего пёрушка!
– Ничо-о… Зараз толкач муку покажа!..
– Он ишшо рылом покопает у нас хренок! О-осподи, благослови! Эв-ва-а!..
Тычок косовиной в затылок был изрядный. Сергей резко выпрямился, судорожно хватнул воздуха и посунулся с сиденья. Ткнувшись ничком в конский зад, вальнулся мешком вбок.
Поля явственно слышала, как голова глухо стукнулась о железо колёсного обруча. Вся она угнулась ниже к Мите, раскрылилась орлицей над ним. Ждала удара, защищая в последний миг сына.
– Петруха! – гаркнул Никита на медвежеватого молодого увальня. – Ты что, блиноцап, мозгой тряхнулся? Ты зачем его огрел?
Подрастерялся как-то Петруха.
– Да не грел я ишшо… Нужон он мне, как жопе зуб. Я тольке так… пристрельнул… Починишко положил… Он и рад, сразу с копыток. Хиловатый на расправушку…
– Тебя никто не просил… Он-то при чём? Сучёнка не запросит, у кобеля не вскочит. Не трогать!
– Свято-оха! Он тебя в позор втолок по ноздри, а ты… Бабу твою он не тронувши? Может, игде в леске невинность ей вставил? А? Громче! – Пётр всей пятернёй надставил ухо. – Не слышу.
– Тебе не вставил? И заспокойся. Своей беде я как-нибудь сам вложу ума.







