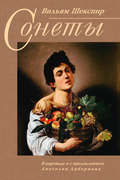Анатолий Либерман
Отец и сын, или Мир без границ
Я думаю, что Жене было недели три, когда мой приятель рассказал мне о семье, в которой бабушка-финка говорит с двухлетним внуком на своем родном языке (жили три поколения, как водится, вместе) и ребенок без малейшего труда отвечает ей также по-фински, а с остальными изъясняется по-русски. Я был потрясен и решил, что немедленно перейду с Женей на английский. Так я и сделал, но тут требуется серьезное пояснение.
Учили меня английскому по-всякому: в школе с третьего класса (потеря времени; впоследствии начало иностранного языка передвинули в пятый класс с тем же результатом) и частные учителя, ленивые и бездумные. Лишь в шестнадцать лет я попал в хорошие руки. Не принятый на русское отделение в университет, я оказался на английском факультете педагогического института, где преподавала именно та женщина, с которой я с девятого класса занимался дома. Это была величайшая удача моей жизни, но тогда, как многие молодые люди, я не понимал своей пользы.
Английский стал моей специальностью. Мало кто в наши дни может себе представить, что это был за английский. Где-то существовала Англия, судя по всему, придуманная с единственной целью дать нагрузку учителям английского языка, страна более мифическая, чем Атлантида, и значительно более далекая, чем Древний Рим. Где-то доживали свой век молчаливые американки, жены и дочери погибших на каторге и расстрелянных энтузиастов, приехавших в СССР строить то, что им не удалось достроить дома, но об английском языке в Америке бытовало плохое мнение: жаргон какой-то, хотя на бумаге Марк Твен, Джек Лондон и немыслимо растиражированные Драйзер и Говард Фаст (кто о нем и даже о Драйзере сейчас помнит? Впрочем, не помнят никого) всех устраивали, и им прощали дикие слова, рядом с которыми в словарях стояла пометка амер. Однако заучивались и эти слова, и они соседствовали в речах и сочинениях студентов со сленгом из Диккенса и древностями из восемнадцатого века.
Если вообразить нашего современника, свободно, но не всегда правильно изъясняющегося по-русски на языке эпохи Толстого с многочисленными вставками из Радищева и Венечки Ерофеева, можно восстановить аналог русского диалекта английского языка послевоенной советской эпохи. (Когда в Америке я говорю: «Это было до войны», – меня неизменно спрашивают: «До какой войны?» Нет, не до корейской и не до вьетнамской. Моя война началась в 1941 году и кончилась в 1945-м.) Лишь в Америке, поработав с редакторами, я исправил десятки заученных ошибок, узнал о бесчисленных ловушках («Вообще-то да, но как раз в этом случае артикля не надо») и почувствовал себя уверенным настолько, насколько это возможно в неродном языке.
И тем не менее этот по-музейному богатый английский заслуживал всяческого уважения, и я подумал, что, если родители моих учеников так охотно оплачивают мои знания, есть прямой смысл вручить Жене этот диалект (недостатки которого я осознавал не вполне) бесплатно. Большой семейный совет, собравшийся в глубокой тайне, меня осудил. Представителем послали моего двоюродного брата. За ним последовала тетушка, та самая, которая впоследствии заметила перепонки, знала, что любовь даже к малому количеству апельсинов чревата осложнениями и что если слишком рано зарастает родничок, то некуда расти мозгу. Женя, объяснил мне кузен, родился слабеньким (причины для такого утверждения были). Не исключено, что с ним и вообще не все в порядке, а я намерен внедрить в него два языка. Кончится тем, что он не заговорит ни на одном.
Я цепенел от многочисленных предсказаний, но защищался. Мог ведь я быть англичанином, плохо говорящим по-русски? Мог бы, но ты не англичанин и по-русски говоришь не только хорошо, но порой даже лишнее. А если бы бабушка с дедушкой говорили на идиш? Или по-казахски? Или если бы мы жили в Швейцарии? Это все гипотетические ситуации, и вообще, где мы, а где Швейцария? И ты забыл, что у такого-то две дочери? Со старшей он с первого дня говорил по-французски. Сейчас ей десять лет, и она знает меньше, чем ученица второго класса французской школы (имелась в виду московская школа, в которой часть предметов преподавали на иностранном языке). С младшей девочкой (ей сейчас три года) он тоже было начал, но та при звуке французской речи затыкала уши. Сейчас все в доме говорят по-русски. Я отвечал, что природа отдыхает на детях гениев, а гениальность такого-то признана всем миром и им самим.
Самое страшное – другое: ребенку все равно, хорошо ты говоришь или плохо (пусть даже очень хорошо); согласись, что английский язык для тебя не родной и ты лишен неведомых, но могучих флюидов. Я не буду издавать каких-то звуков, и между мной и сыном не установится тех связей (тонких и неуловимых), которые одни только и существенны. А знаешь ты, как будет по-английски «подгузник», «козявка в носу», «а-а» (на горшочке), «ням-ням», «палочка-застукалочка» и «ладушки»? Я не знал. А где же ты возьмешь английские книжки для такого раннего возраста? Или обойдешься без курочки Рябы и репки? Какое же это детство? Ах, другие займутся той развесистой, как ты ее называешь, репкой! Вот других он и полюбит.
Подавленный и далеко не уверенный в своей правоте, я продолжал говорить с Женей по-английски без козявок, ням-ням и, самое пугающее, без флюидов. Даже тесть, любивший и обычно поддерживавший меня, однажды сказал тоскливо: «Ты не говори с ним так быстро. Это же все-таки не русский». Только Ника не возражала против моих потуг (без ее согласия я бы, разумеется, и слова не сказал по-английски).
Незадолго до того дня, когда Жене исполнился год и я уже мог сделать кое-какие выводы сам, по случайному совпадению двое – Ника и наш близкий родственник – говорили с невропатологами. Оба сошлись на том, что двуязычие ничем не грозит ребенку. Если бы они сошлись на противоположном, я бы их все равно не послушал, так как успех моих усилий был к тому времени очевиден. Я даже пояснял всем, кто хотел меня слушать, как замечательно будет иметь рядом человека, для которого английский язык родной: не знаешь чего-нибудь, всегда есть кого спросить. Кое-кто воспринимал мою аргументацию всерьез.
С уже намеченной эмиграцией мое начинание связи не имело: нас могли бы годами продержать в отказе. Не узнай я о том финском мальчике, подобное безумие не пришло бы мне в голову. Хотя лингвистика – область моих профессиональных интересов, тогда я еще не подозревал о существовании громадной литературы о детском двуязычии, а если бы те работы прочел, то сумел бы парировать возражения, которые в июне 1972 года вгоняли меня в холодный пот.
Мне не пришлось услышать Жениного первого крика, но впоследствии я был вознагражден за эту потерю с лихвой, и даже в самые первые месяцы, когда я увещевал его: «Не плачь, мой родной. Тебя все любят, а боль пройдет», – он ненадолго успокаивался. Речь действовала на него. Однажды я довольно поздно пришел с работы. Ему было недели три. Я взял его на руки и спросил: «Как дела, Женечка?» И он горестно заплакал. «Послушай, он тебе жалуется: какая уж там жизнь, когда все время болит живот?» – сказала Ника. Я стал заговаривать ему десны, как я это называл, то есть повел привычную речь: «Не грусти, вот подрастешь немного и не вспомнишь об этих днях». Он замолчал и даже вроде бы улыбнулся. «Как хорошо ты понимаешь детскую душу!» – воскликнула Ника. «Брось ты!» – засмеялся я, но эта фраза вошла у нас в пословицу.
Газы прошли, появился в высшей степени здоровый аппетит. И Женя рано стал реагировать на интонацию, а после с ней связался смысл. «Пора есть!» – сообщал я (разумеется, по-английски, как и все остальное). Что тут начиналось! Пляска, хохот – поэма экстаза. «Пора купаться!» – тоже хорошо, но не так. Однажды, нарушив запрет на несмешение языков (я никогда не обращался к нему по-русски; он, конечно, слышал мои разговоры с окружающими, но они его не касались), Ника объявила: «Пора купаться», – по-английски. Женя рассмеялся в голос. Неужели он заметил неестественность английской фразы в ее устах?
Непременная часть разговора с малышом начинается со слов: «А где у нас…?» Умница Аллочка с верхнего этажа на вопрос, где у нее ушки-лопоушки, показывала то, что надо. Женю анатомия, как, впрочем, и многие предметы обихода, не привлекали. То ли дело жестяная кружечка! Если ее сверху бросить на пол, раздается громкий звон. Женя зажмуривается. Кто-нибудь поднимает кружку и вручает ему. Страшная сказка продолжается: то же действие, тот же эффект. Вот и название предмета запомнилось мгновенно. На вопрос, где лампа, он звонко смеялся, но и только; почему-то его забавляло слово «лампа». Зато он прекрасно знал вещи, которые произвели на него впечатление (вроде той кружки).
«Где книги?» – спрашиваю я, и Женя устремляется к незапирающемуся шкафу. На нижней полке стояли тома в суперобложках, которые, несмотря на все меры предосторожности, он успел частично изодрать. А где Шекспир? Имелся в виду небольшой черно-красный портрет Шекспира. И тут все ясно: голова поворачивалась в нужном направлении. Но любимый вопрос, которого он ждал, предвкушая радость: «Где музыка?» Мы ему давали слушать не детские песенки, а классику: Вивальди, Баха, Бетховена. Он слушал не отрываясь: стоя, иногда подтанцовывая, а сидя, удивленно глазел на проигрыватель, если не пытался его облизать и сбросить. Так где же музыка? Вот она!
Позже он так же ждал просьбы принести конверт от пластинки. Мне казалось, что в этом возрасте нет нужды идти от простеньких ритмов и мелодий к сложным. Ведь говорили же мы с ним – одни по-русски, а я по-английски, – не выбирая форм: сначала именительный падеж и настоящее время, потом родительный и прошедшее время, и так до конца учебника. Вскоре у Жени появились явные предпочтения к Вивальди и быстрой мажорной части из Седьмой симфонии Бетховена, но особенно к рондо из Первого концерта, и мы ставили эти пластинки особенно часто. Я надеялся, что из океана прекрасных звуков всплывет ранняя любовь к музыке и пробудит способности, если они есть.
Так прошли не вивальдовские, а настоящие четыре времени года. Двенадцать месяцев. Долго они тянулись, но в положенный день Жене исполнился год. Самое интересное было впереди.
Солнце за тучами
Стужа замучила,
Все замело.
С детками малыми
Под одеялами
В мире тепло.
Спи, мой единственный!
Сумрак таинственный
Землю гнетет.
Бабочкам в клевере,
Мишкам на Севере
Видится мед.
В стужу заметнее:
Сны эти летние
Солнца полны.
Детство медовое,
Детство бедовое —
Сладкие сны.
Спи, мой единственный!
Хвойный и лиственный
Лес зашумит.
Но под сугробами
Видели оба мы:
Он тоже спит.
Глава вторая. Второе лето
Урожай наш, урожай, урожай высокий. Дедушка на крыше. Месяцы в деревне. Выдающиеся троечники. Bello bambino, «красивый ребенок» (ит.). Фея Карабос и птичечка. Иерархия любви. Рожденный ходить ползать не может. Война и мир. Песни без слов. Триумф без колесницы

В те годы среди неноменклатурного народа два слова определяли высшую степень зажиточности: «машина» и «дача» (номенклатура рождалась с этими благами). Машину (жуткий драндулет) не как символ роскоши, а как основное средство передвижения мы купили вскоре по приезде в Америку, а вот дача на Карельском перешейке у Никиных родителей была: домик без водопровода и канализации, но с небольшим участком, где теща героически выращивала клубнику и смородину и росло несколько неплодоносных яблонь. В то, «второе», лето я со свирепым упорством взялся за производство фруктов: перетаскал сотни ведер воды из дальнего артезианского колодца (ближний пересыхал в жару) и регулярно удобрял почву золой. В августе на дереве, выбранном для специального режима, среди густой листвы красовалось одно большое яблоко. В нем даже не завелся червь.
– Видите, – сказал я тестю, в отличие от всех нас редкому умельцу и человеку хозяйственному, – значит, можно.
– Ну, – засмеялся он, – три месяца поливать, окучивать и удобрять, чтобы выросло одно яблоко…
Я потом часто повторял эту фразу, наблюдая за дорогостоящими и трудоемкими, но бессмысленными предприятиями, которыми в равной мере полна жизнь в любой стране современного мира.
Когда родился Женя, было решено достроить второй этаж и прибавить заднее крыльцо. Денег, конечно, не хватало. Даже на жизнь и частных врачей приходилось добирать у стариков, тоже не Крёзов. Я ненавидел эти поборы, но Ника, проведшая с Женей весь год – разрешенный после родов отпуск за свой счет (что, хотя и было для него и всех нас величайшим благом, лишило семью ее заработка), совершенно серьезно называла такое состояние «жить общим котлом». Вопреки нашим планам почему-то предполагалось, что на этой даче Женя и взрослые будут проводить лето до конца своих дней, но ровно через год мы навсегда уехали из страны. Никины родители и моя мать довольно скоро присоединились к нам, осевшим на американском Среднем Западе. Там и умерли. Дачу перед отъездом продали за бесценок.
Озеро с заплеванным пляжем (жестянки, пустые коробки, апельсиновые корки, газеты, а по краям фекалии) и залив (в другой стороне) были далеко. Основной, весьма небогатый, продуктовый магазин тоже был километров за пять, и раз в несколько дней я ездил туда на велосипеде «отовариваться». Продукты (крепленые вина и консервы, то ли настоящие, то ли бутафория) в ближайший ларек завозили по плохо предсказуемому графику. Об их доставке молва разносилась мгновенно, и надо было выстоять многочасовую очередь в надежде, что вожделенного творога хватит на всех. В пятницу вечером те, кто возвращался из города, тащили пудовые сумки, а пути от станции было не меньше получаса.
Но лес начинался неподалеку; черника и особенно малина росли повсюду. В отличие от меня, довоенного, Женю не приходилось уговаривать съесть вторую ягоду. Он, конечно, не знал, что в возрасте одного месяца мы, игнорируя советы врачей, вывезли его на эту самую дачу и находились там до октября, чередуя отпуска. Как я рассказывал, его непрекращающийся крик превратил те месяцы в муку (полегчало лишь к концу), но прошел год, желудок и сон пришли в норму, и наступило второе лето.
Я с величайшим недоверием отношусь к легенде, бытующей чуть ли не в каждой семье, о восторгах по поводу их детей. Дело в том, что я видел бабушку, по словам которой все восхищались «точеной фигуркой» ее двухлетней внучки (ей-то и клали гору сливок в манную кашу), слышал захлебывающиеся отзывы о школьных успехах троечников и о блистательных перспективах десятилетнего актера (его возили в Голливуд, агенты одобряли и обещали звонить). Но кое-чем могу похвастаться и я. В детстве Женя был очень красивым ребенком. Мы часто слышали вроде бы искренний комплимент: «Какой хорошенький!» Одна женщина показала его своей дочке: «Посмотри, какой прелестный ребенок». Две девчушки перестали играть и долго им восхищались. Мать соседского малыша даже сказала: «Вот едет Женя, король детей». Дедушка назвал его любимцем проезда. К сожалению, все предлагали конфетку. Я брал и обещал Жене дать ее дома. Иногда он о подарке помнил, но тогда выяснялось, что конфетку я потерял по дороге.
Ожидая американские въездные визы, мы, как было тогда положено, провели десять дней в Вене и три месяца под Римом. Нет на свете детей красивее итальянских, но даже там женщины оборачивались на нас и одобрительно говорили: «Bello bаmbino». «Вырастет у нас, – думал я, – сердцеед, Дон Жуан. Что будем делать?» Мои опасения оказались напрасными. Где бы он ни появлялся впоследствии, сверстники замечали только его слегка оттопыренные уши. Девочки в старших и даже в средних классах Жениной школы увлекались только футболистами. От них и беременели. Женя тоже числился в команде, но, насколько я помню, вся его карьера прошла на скамье запасных.
Как большинство его сверстников, Женя хорошо спал в дороге. Переезда на дачу он не заметил и удивился, обнаружив вокруг себя траву и деревья. Привезли и няню по имени Гликерия Кузьминична, чтобы помогать мне (я проводил там отпуск) и тестю, потому что Ника вышла на работу, а ее мама никогда с работы и не уходила. Г. К. была суровой дамой. Она с гордостью рассказывала нам, что в детстве наплевала в глаза своей сестренке, чтобы та испугалась, закрыла свои заплеванные очи и заснула (кажется, помогло). «Ему надо показать ремня и перевести на нормальный стол. Чем плоха консервированная свинина?» – говорила она. По ее мнению, ребенка мы избаловали и все делали неверно. Женя понемногу привык к «няне», но ни за что не хотел оставаться с ней наедине – обстоятельство, которое заметно усложняло нашу жизнь. Если рядом был кто-нибудь еще, он улыбался ей, смешно морщил нос, часто сопел (что бы это ни значило) и подчас смотрел на нее преданным взглядом, но не успевал я, например, подняться со стула, начиналась истерика.
Даже пустую комнату он предпочитал ее обществу: боялся громкого голоса и грубых манер. Она, конечно, могла без грима играть Горгону Медузу, фею Карабос и Бабу-ягу, но Женю любила, и я заметил, что в обстановке всеобщего медоточивого воркованья, утопившего ее рык, она понемногу перерождалась в Арину Родионовну, как ее изображали сладкоголосые пушкинисты; ужас, который она внушала Жене, огорчал ее. Все домогаются детской любви, но ребенка не подучишь: что он чувствует, то и выражает.
Долгое время я был у Жени на последнем месте. Если никого не было рядом, нас связывала нежная дружба. Когда Женя научился крепко стоять на ногах, его любимой игрой было открывать и закрывать дверь. Я при этом неизменно «командовал»: «Открой дверь, закрой дверь». Иногда я притворялся, что спрятался за дверью. Он знал, что я никуда не делся, и ждал. Ждал он спокойно, даже когда я говорил: «Я сейчас приду. Подожди». Еще он любил прятаться у меня за спиной, а я его искал и никак не мог найти. Внезапно он возникал передо мной, и моей радости не было конца: «Вот он где». И Женя радовался: нашелся. Это увлекательное занятие могло продолжаться как угодно долго и никогда не надоедало нам. Но стоило появиться в комнате Нике, бабушке или дедушке, как я оказывался в опале.
Я уже отмечал, что в присутствии маленьких детей взрослые непредставимо глупеют. Женю постоянно донимали просьбой показать, как он любит маму. Он клал головку ей на плечо. Той же чести удостаивались бабушка с дедушкой. Однажды его попросили показать, как он любит папу. Женя дернул меня за волосы. Больше его этим вопросом не мучили. Свою любовь ко мне он выражал тем, что постоянно пытался сдернуть с меня очки. Однажды ему это удалось. Очки упали и разбились. Это последнее место в иерархии смущало меня, а потом я махнул рукой: не вечно же, решил я, будет ему один год.
В бабушке было что-то уютное, чего не было во мне, и голос у нее звучал нежнее. От дедушки, видимо, тоже исходили флюиды, отсутствовавшие у меня. Не вняв моим просьбам, он все, что мог, уменьшал: не творог, а творожок, не каша, а кашка, не печенье, а печеньице. Ручки, ножки, апельсинчики, помидорчики разумелись сами собой. В соответствии с этим словообразованием Жене бывало не холодно, а прохладненько. Нашему Гулливеру явно нравилось пребывание в стране лилипутов. Были еще и птичечки. Когда грозную Гликерию Кузьминичну сменила крошечная мгновенно завоевавшая Женино расположение Анна Петровна, я подумал, что слово «птичечка» гораздо больше подходило к ней, чем к воробьям (они же воробушки).
Дедушка постоянно брал Женю на руки, а я без нужды не брал. Зато при мне он мог довольно долго играть сам, а от остальных требовал постоянного внимания. В середине лета нашему героическому Гулливеру, измученному уходом за внуком и строительством, удалось раздобыть путевку на два срока в близлежащий дом отдыха. Мы с Никой навестили его там: старый человек неузнаваемо помолодел. За двадцать четыре дня Женя почти забыл его. Что поделаешь: и за любовь, и за отпуск надо платить.
Давно известно, как сильны детские привязанности, сколько нешуточной страсти вложено в любовь малышей. Женя по-разному, но хорошо относился ко всем нам. Однако истинная любовь его просыпавшейся души была отдана Нике. «Что ты хочешь? Источник питания», – сказала мне одна знакомая. Может быть, и так. Когда кончился отпуск, бывало, что Ника возвращалась в город не в воскресенье вечером, а ранним поездом в понедельник. Проснувшись и увидев пустую кровать, Женя гладил ее простыню и прикладывал щеку к подушке. Другие аналогичные эпизоды связаны с попытками ходить; о них я и расскажу.
В определенном возрасте ползать привычно и удобно, но инстинкт подражания заставляет ребенка сменить звериный способ передвижения на человеческий, да и взрослые поощряют его к тому же. Ничего нового мы не изобрели. Когда подошло время, я на несколько секунд ставил Женю на ковер, отнимал руки и говорил: «Стой сам!» Потом он начал ходить за ручку, а еще позже – толкая перед собой коляску. Иногда я отходил от него, и он пробегал несколько шагов, скатываясь ко мне в объятия. Интереснее всего было наблюдать не прославленные сентиментальной живописью и скульптурой первые шаги (в них, кажется, мало индивидуального), а переход от ползанья к ходьбе. Одно время я наблюдал за развитием ребенка, который никак не мог освоить нужного движения и вместо того, чтобы ползти вперед (куда он рвался), пятился, как рак, назад. Я знал детей, которые совсем не ползали: лежали, сидели, вышли на простор и пошли.
Женя ползал образцово, по дороге облизывая пол и мой перевалявшийся на всех вокзалах портфель, а иногда катая перед собой покрытое грязью обмусоленное яблоко. (Из-за этого, кстати, мы дольше, чем надо, терли ему китайские яблоки, раздобытые впрок и в товарных количествах моей мамой: редкая удача в эпоху временных затруднений и вечного дефицита.) Как-то одна из моих теток, инфекционист, увидев, что невестка пробует еду в кастрюльке, а потом сует ту же ложку в рот маленькой дочери, посоветовала ей этого не делать.
– Подумаешь, – огрызнулась невестка, – посмотрите, чего она только не облизывает, когда ползет по квартире!
– К тем бактериям у нее уже выработался иммунитет, – пояснила тетка, – а от культуры, которая у тебя во рту, она не защищена.
Кормление детей ложкой, побывавшей во рту матери, я видел во многих домах, и от этой процедуры у меня неизменно пропадал аппетит. Встречал я и человека, залезавшего своей ложкой в общую сахарницу; его понемногу перестали приглашать в гости.
Все это я рассказываю к тому, что Женя бойко и традиционно ползал. Но в какой-то момент его начала притягивать идея прямостояния. Правда, когда я говорил ему «стой сам», он не возражал, а услышав: «А теперь подойди ко мне», – не спешил отправляться в поход и иногда даже садился на пол с таким видом, что мысль переменить позу осенила его независимо от моей просьбы: просто есть дело, которым можно заняться только сидя. Но что-то сдвинулось в его мозгу. Вот он стоит у стола и с вожделением смотрит на книжный шкаф. Ничто не мешает ему проползти это крошечное расстояние (вся-то комната – спичечный коробок), но он скулит и ждет руки, чтобы пройти это опасное место, где не за что ухватиться: пешком все-таки страшно. Я не спешу протянуть руку; он много раз пружинит на ножках, держась за стол, в конце концов становится на четвереньки и неуклюже ползет.
А через три недели после этого эпизода мы приехали на любимую полянку; я вынул его из коляски, поставил на землю, дошел до листьев (они-то нам и нужны) и сказал: «Ну, иди сюда». Когда я пригласил его прогуляться, у него на лице появилось выражение, как будто я снял освященный веками запрет или попросил сделать что-то неприличное. Эта смесь замешательства и смущения читалась совершенно ясно: «А разве можно?» Он дошел до меня, мы нарвали листьев и так же чинно вернулись обратно: я немного впереди, а он рядом. Конечно, лопухи стоили того, чтобы добраться до них, преодолевая неровность почвы и спотыкаясь о самый маленький камень, через который не переступишь и который не обойдешь (это ведь только нам, огромным людям, он кажется маленьким). Вылезти из коляски можно было еще ради машины (они там проезжали редко, и появление каждой из них на нашем пути было событием) и ради собак, если они держались от коляски на почтительном расстоянии.
Совсем близко от нас их было четыре: благонравный черный пудель женского пола по имени Вальма, простуженный пес с тоскливым выражением на морде, дворняга Мулька и некто Рекс. Хотя всех их мы отлично знали, мне ни разу не удалось уговорить Женю погладить хотя бы одного из этих зверей. Полюбоваться издали, держась за меня, пожалуйста, но на предложение последовать моему примеру (он видит, как я глажу пуделя) раздавался такой крик, что собаки начинали серьезно волноваться. Увидев нас, все они неизменно поднимали ножку, что я рассматривал как сознательное издевательство, потому что попытки внушить Жене преимущества горшка к тому времени успехом не увенчались. Нас пугали, что у таких безвольных родителей мальчики могут быть ненадежными долгие годы, а я утешал себя тем, что все знакомые мне взрослые мужчины просятся, по крайней мере, днем. Операция «Чистые штаны» была впереди.
Однако листья, машины, собаки – это все пустяки. Я знал, в котором часу приедет Ника. Наш дом стоял на так называемом проезде, а проезд соединялся с длинной улицей. На нее-то Ника и выходила из леса. Мы караулили ее поодаль. Жене было сообщено, кого мы ждем. И вот появляется Ника. Я хватаю Женю, и мы (за ручку) пробегаем метров сто пятьдесят, не замечая ни ухабов, ни рытвин, подбадриваемые криком: «К маме, к маме!» Ника застыла на повороте с раскинутыми руками, и наконец дитя у нее. Восторг, ликование. Больше ему ничего на свете не нужно. Такая любовь.
В понедельник начинались будни. Мы с Женей спали наверху, а приготовленный дедушкой завтрак ждал Женю внизу. Женя спускался по лестнице, во все глаза рассматривая, что происходит на столе и что положено в три мисочки, прикрытые бумажными салфетками. Я сажал Женю на стул, повязывал ему нагрудник и с интонацией фокусника объявлял: «Раз, два, три!» На слове «три» салфетки сдергивались. Смех, прыжки, дрожат руки, глотается слюна. Через несколько минут только голодный плач напоминает о былом пиршестве. Уже вышла из употребления фраза: «Пора есть», – так как Женя давно и прочно усвоил все слова, связанные с едой, а еще раньше принимался скакать, услышав из кухни: «Все готово». На обеденный стол ставили мисочки с овощной закуской, с супом и с тертым яблоком. Он прекрасно усвоил, куда что положено, но, съев ложку супа, не желал брать вторую оттуда же и наклонялся к помидору: почему-то ему нужно было разнообразие, о чем нас извещал громкий крик. За ужином разыгрывался новый сценарий: там, кроме тертого яблока, полагался творог, которого Женя терпеть не мог. Подряд две миски яблока он съедал с удовольствием, а подряд две миски творога – никогда. В конечном итоге поглощалось все по принципу «не пропадать же добру». За последней ложкой следовал совсем иной по тембру голодный крик, но добавки не полагалось. Иногда он ухитрялся схватить из хлебницы кусок хлеба и запихнуть его в рот. Приходилось держать ухо востро.
За едой я услаждал его разговором о совершенстве поглощаемых им продуктов. Моя назидательная беседа была ему совершенно не нужна (а я вел ее «ради языка»), но он не возражал и, как я точно знал, внимательно слушал. Днем полагался так называемый полдник: заранее выжатый апельсиновый сок (он ждал нас в холодильнике) с сухариком. Сцена: гуляем. Женя в коляске, и я вижу, что пора возвращаться, и начинаю вкрадчивую речь: не о том, что он хороший мальчик, что Андрюша через дорогу – тоже хороший мальчик и что чуть дальше живет целый выводок хороших мальчиков (предмет, известный ему в мельчайших подробностях из дедушкиных рассказов). Я закручиваю искусную интригу: «Какой прекрасный сегодня день: солнце светит, птицы поют», – и так далее на несколько минут: Женя прекрасно знал, что не зря мы повернули к дому, и действительно: в конце речи я как бы между делом сообщаю: «В такой день особенно приятно выпить стакан апельсинового сока». Женя только что не опрокидывает от восторга коляску. У нас в гостях побывала одна моя знакомая и присутствовала при этой сцене. «Поразительно, – сказала она, – такой маленький, а все понимает». Что же тут удивительного? В борьбе за выживание язык не последнее оружие.
Поев, мы обычно выезжали на прогулку. У самого дома росли большие листья и лежали всякие камешки. Женя отправлялся в путь с камешком в одной руке и листом в другой. Быстро проскочив проезд, мы поворачивали направо. Там, довольно далеко от дома, лежал заветный камень, средней величины булыжник. Однажды, когда я по рассеянности поехал налево, раздался такой ор, что, опомнившись, я молниеносно изменил маршрут. Последовало много счастливых прыжков в коляске.
Камень мы встречаем радостным криком (это крик то ли вернувшегося в родные края изгнанника, то ли хозяина: вот лежит вещь – я ее видел, все про нее знаю и не боюсь) и вылезаем. Булыжник было совершенно необходимо перевернуть, но тут возникало непредвиденное тактическое осложнение: нужны руки. А они заняты, так как в одной лист, а в другой камень. Захватив же что-нибудь, Женя никогда с этим предметом по доброй воле не расставался. Сейчас он намеревался справиться с камнем, не разжимая кулачков. Чтобы избавить его от буридановых страданий, я отнимал и прятал себе за спину лист. Начинался рев. Женя лез ко мне, пытаясь вернуть отнятую собственность. К счастью, в эту минуту могла проехать машина. Мы провожали ее взглядом и о чем-то думали. Машина уезжала, и Женя возвращался к поискам лопуха (не забыл!).
Впрочем, острый момент миновал: пора взяться за булыжник (ради него и приехали), но, чтобы его перевернуть, надо сесть на корточки, толкнуть камень и подняться. Сделать это, не держась за опору, сложно. Когда накануне я учил его этому движению, он все выполнил с трудом, а назавтра садился и вставал почти без напряжения под мое подбадривающее: «Сам, сам!» Вот что значит стимул! Ради камня не жалко и постараться.
То же происходило с ходьбой. Если просто падал, то ревел в три горла (от испуга, а не от боли), а когда мы бежали к Нике, он, даже если несколько раз сваливался, вскакивал, не заметив: скорей, скорей! Камень – мой друг. Как только Женя его переворачивал, я его оттаскивал метра на два. Женя шел вслед за камнем и снова переворачивал. Я повторял свой трюк, и так чуть ли не целый час. Незаметно мы проходили метров двести, если не больше. Коляска оставалась все дальше и дальше; к ней еще предстояло вернуться, и это возвращение – целое дело.