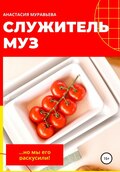Анастасия Муравьева
Леший
Хромоножка еле ковыляла, опустив голову и прижав к груди битый горшок. Поравнявшись с домом, она подошла к калитке и подняла лицо, шевеля губами, будто молясь или читая по писаному. Выбежала на крыльцо жена, завыла, обхватив балясину, сползла на ступени.
Старшие сестры подхватили под руки мать, а сестрицу завели в дом. В дверях она уперлась, озираясь затравленно, втянула голову в плечи. Попробовали горшок отобрать, но не смогли разнять пальцы. Села не к столу, а на пол, подобрав босые ноги, сгорбилась ощерясь.
Он смотрел на торчащий сквозь грязный сарафан хребет, рубашку всю в прорехах, платок измочаленный, будто стадо по нему прошло, волосы в колтунах. Мать опустилась рядом, гладила ее по голове и рыдала, а она сидела недвижно и что-то бормотала. Слов не разобрать. Он подошел ближе, наклонился к самому лицу.
– Где ты была, дочка? – спросил.
– У лешего, – одними губами прошелестела она, крепче прижимая к животу горшок.
Мать поставила перед ней тарелку, налила щей, положила любимую ложку с зазубриной. Дочка поднесла ложку к глазам, словно не понимая, что это, и отложила, а миску схватила обеими руками и принялась жадно есть, запрокинув голову, щи потекли за ворот, а она все глотала судорожно, пока не поперхнулась закашлявшись.
Мать со слезами положила ей на пол картошку, краюху хлеба, стол и лавку она не признавала. Он смотрел, как она скребет ногтями картошку и нечищеную кладет в рот, зубов уж половины нет, губы растрескались, глаза в гнойных струпьях. Ворот рубахи сполз, выпростав плечо, он заметил сломанную ключицу, плечо криво срослось и казалось одно выше другого.
Новость о том, что первая красавица деревни провела почти год в полоне у лешего, разнеслась по деревне. Бабы шушукались, любопытные караулили под окнами. Только от дочери толку не добиться, все твердила как заведенная: «Леший, леший», закрывая лицо руками. Ночью не спала, а сидела в углу под образами, качаясь и прижав к животу битый горшок.
Он, лежа на полатях, свешивался вниз и смотрел, как она глядит невидящими глазами перед собой, и задремывает лишь под утро, закрываясь от зари рукавом. Рубашки дочка не давала менять и носила одну, не снимая, неделями. От нее несло прелым кислым запахом, она ходила босиком, ступая не глядя в грязь и навоз, а колтуны на голове не позволяла никому ни остричь, ни расчесать.
Сестры зажимали нос, и ее перевели жить в хлев, где она сидела в яслях с коровой, прижимая к себе битый горшок, с которым не расставалась. Мать, плача, каждое утро оставляла ей кринку молока, сдобренного хлебом, молча поставив у ног, как скотине. Взглянув затравленно, дочка спешно принималась есть, заталкивая в рот куски.
Он приходил к ней, но редко. Тяжело опускался рядом на примятое сено, дочка больше не пахла душицей и луговой свежестью. Вдыхал кислый запах коровы, мерно жующей сено. Приносил ей гостинцы, пряники или конфеты, она молча принимала из его рук и жевала безучастно. Однажды он ссыпал ей в подол леденцы, заставив поднять горшок, и увидел, что она на сносях.
«Беда, мать, беда», – рассказал он жене, та ойкнула, закрыла руками лицо. «Кто обидчик, кто же, господи», – запричитала. Он тяжело отвернулся, глядя в окно, залитое дождем. Жена тихо всхлипывала. «Кто обидчик, кто обидчик, вот заладила, дура», – рявкнул он на жену. – «Известно кто, леший».
Скоро ее торчащий живот стал заметен всем. Но она словно не смыслила ничего, быстро съедала все, что ей оставляли, иногда ластилась, подползала, прижималась к его ноге, как собачонка, он дергал ногой, уходил, потом долго стоял за воротами, курил самокрутку. Мальчишки свистели и швыряли камни через забор: «Эй, лешего невеста, в кухарках, поди, у него жила? Всего-то и приданого дали за тобой битый горшок! Зато в кузове принесла!».