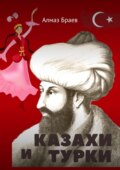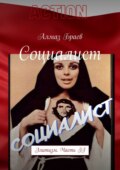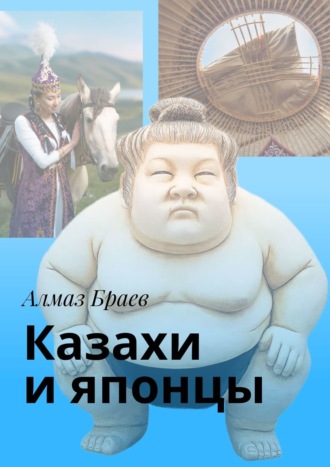
Алмаз Браев
Казахи и японцы
Глава 5
Голос крови
До Японии из Казахстана очень далеко. Несмотря на такое расстояние со времен
Союза казахи был прекрасно осведомлены о японцах. В первую очередь по знаменитым автомобилям марки Тойота, Ниссан, Митсубиси – это автомобили стали массово поступать в Казахстан с начала 90-х, когда СССР развалился. А до это все знали Японию по знаменитой на весь мир электронике. В конце 70-х и на начало 80 -х ничего лучше вещей Сони и Тошиба не выпускалось в мире. Так думали и казахи.
Для массы зрителей Япония была известна по кинокартинам, тактим как «Гибель Японии», «Легенда о динозавре», «Легенда о Нараяме». Если фильм «Легенда о Нараяме» – был прекрасной иллюстрацией феодальной Японии, то фильмы с участием Такеси Китано – это картины характера японцев всех времен.
В 2003 году в прокат вышел фильм конокомпании Warner Bros «Последний самурай» с участием Кена Ватанабе и Тома Круза. Последний самурай Морицугу Кацумото интересуется подвигами индейцев против американцев у капитана Нейтана Олгрена.
Несмотря на весь пафос фильма японцы могли повторить участь индейцев. Но самураи проиграли в войне Босин силам императора. Можно ли сказать, что современная Япония – это благо, чем фольклорная действительность? Все современные казахи в один голос скажут, что современная Япония – это круто, лучше нельзя придумать. Что же произошло в Японии, что не хватает казахам? Есть такие казах патриоты, которые мечтали бы о японской судьбе для казахов. Такие казахи готовы обвинить Россию и СССР, что они не стали такими как японцы.
Но так ли это на самом деле?
Могли ли казахи пойти по пути японского Мейдзи и сотворить «казахское чудо» задолго до знаменитого на весь мир экономического чуда в Сингапуре, Тайване, Южной Корее и Гонконге или хотя бы повторить путь" юго- восточных тигров»?
Почему народы чистой крови проиграли народу чистого разума? Принцип чистой крови подходит в борьбе с чистой кровью, когда племя противостоит другому племени. Если у народа крови не находится провидец, чтобы преодолеть голос родства, голос крови. Для этого у народа должен быть монарх. Единоначалие. Если у народа крови много вождей, этот народ никогда не вырвется из первобытности. У японцев в 1867 году был император. Вокруг императора собрались чиновники провидцы. Японцы поехали в Европу и США, вернулись в Японию, японцы стали дико копировать все европейское, все творения чистого разума. У японцев не меньше, чем у казахов есть личное тщеславие. Но личную анархию каждого японца ограничила власть императора. Не для того, чтобы каждый из японцев мог хвастаться дорогим платьем или катаной от знаменитого мастера. Японцы превратились в одного самурая. Японцы превратились в нацию в одно поколение. Этот невероятный прыжок из дикости стоил японцам многих жертв, но японцы превратили в тех японцев, которых сегодня знает мир. У японцев нет проблем с языком. Ни одному японцу не придет в голову потребовать у гостей говорите по -японски. Японцы знают, когда применять голос крови, а когда голос разума. Этот баланс знаком также и казахам. Но существующая казахская инерция – не заслуга казахов, мы как будто продолжаем кочевать даже живя сегодня в городах. Более того, появляется течение националистов, которые хотят поставить голос крови впереди голоса разума. В 21 веке это означает только одно, – путь индейцев. Это означает контроль внешним разумом казахских инстинктов голоса крови.
Глава 6
Адекватность и оперативность японской элиты
8 июля 1853 года американская эскадра коммодора Мэтью Пэрри встала на якорь в бухте Урага близ Эдо. Чиновники Японии уже знали о приближении угрозы, но подготовится не успели. Бюрократический аппарат сегуната Токугава погряз в формализме и неоперативности чиновников. Старый сегун доверил вести дела своему министру.
Почему к берегам Японии причалила грозная военная эскадра?
Япония продолжала режим самоизоляции. Закрытие Японии – режим Сакоку – случилось из-за агрессивного, слишком наглого поведения – по мнению сегуна португальских иезуитов в XVII веке. С тех пор чужие корабли не могли входить в порты, пополнять запасы еды и воды, китобойные судна терпели кораблекрушения, выживших моряков японцы арестовывали. Теперь коммондор Мэтью Пэрри имел указания президента Милларда Филлмора – принудить японцев к торговле силой.
Удивленные японцы впервые видели корабли, выпускающие черный дым. Чтобы японцы все поняли, американцы для внушения сделали холостой зал из орудий. Конечно, после такого шоу японцы приняли делегацию Перри – по все канонам японской дипломатии, хотя сначала поиграли в игру «а кто ты такой?», когда с Перри пообщались мелкие чиновники. Перри это понял, потому приказал расчехлить пушки Пейсана.
Что же делать? Японцы постарались сохранить лицо – сослались на болезнь сёгуна. Перри согласился, – подождать один год.
Но естественная смерть престарелого сёгуна ускорило события. Перри снова приплыл в бухту Урага ровно через шесть месяцев. Что делать снова?
Глава бакуфу Абэ Масахиро не посмел взять на себя ответственную роль и созвал Всеяпонское собрание. Абэ Масахиро трезво оценивал ситуацию – сопротивление бессмысленно. Представители императора, бакуфу, региональная знать – даймё наоборот, были настроены консервативно. Договор с американцами, затем с русскими был конечно подписан. С помощью голландцев Абэ Масахиро тут же приступил к модернизации флота, стал отливать новые пушки и даже основал разведывательное управление с целью изучения новых технологий и информации из-за рубежа. Но Абэ Масахиро не хватило времени. Его компромисс с американцами, русскими и англичанами стал сигналом для других представителей оппозиционной знати. «Он подписал унизительный договор!» Англичане обстреляли еще из пушек Кагосиму в 1863. Потому что англичанам обычно мало одного торгового договора. Им нужен был кабальный, по одному типу с китайским договор, который они подписали с покоренным Китаем в 1860 году.
Если власть самураев не смогла защитить родину, значит сёгун и его люди утратили божественную милость.
Вот так залп эскадры Меттью Перри стали сигналом для новой эры в истории Японии. Те самураи и дайме, что почувствовали унижение, не согласились менять старого курс самоизоляции. Все уже знали, что случилось с Китаем, что Китай утратил независимость. Нужно было что-то делать. Захватчики скоро придут и в Японию.
Кто же спасет? Конечно император.
Император – сын солнца, значит надежды, таким образом в сокральности своего императора нашелся новый выход для новой Японии. Вокруг императора сформировалась группировка против сёгуна и бакуфу. Понадобилось еще тринадцать лет, чтобы сёгун провозгласил передачу власти императору. Итак, император-сакральная фигура. Японцы конечно же нашли сначала духовные резервы для новой власти. Это отличительная черта одухотворенных японцев. Ведь когда нужно, они всегда находят выход. Также японцы никогда не закрывали двери перед талантливыми людьми. Власть конечно важна для всех. Но не для японцев. Сама власть не являлась для японцев самоцелью – благодаря синтезу синтоизма и буддизма.
Так закончилась двухсот пятидесятилетняя эра сёгунов. Исполнительная власть вернулась сыну солнца – императору Муцухито. Началась эра, получившая название Мейдзи. А значит, воинов заменили ученые мужи. Разве это не показатель японской адекватности и оперативности? Чтобы власть была адекватной внешним и внутренним вызовам, очень важен уровень традиционной власти. Важен уровень элиты, следовательно, нравственности. Какой народ, такая и власть.
Глава 7
Всегда на верном пути
«Японская мораль не стимулирует появление выдающихся личностей. Она, словно молоток, тут же бьет по гвоздю, шляпка которого слишком торчит из доски. При всей кажущейся предприимчивости японцы слабо наделены чувством личной инициативы. И этот недостаток творческого начала во многом объясняется их врожденным стремлением ни на шаг не переступать границ подобающего места».
«Концепция подобающего места требует: не берись не за свое дело. Это лишает людей самостоятельности во множестве практических мелочей».
Ветка сакуры. Всеволод Овчинников
Когда я узнал, насколько дисциплинированы японцы во всех делах, я тут же понял – откуда это качество. Для меня, казаха, автора теории рефлексии это не представляло труда. Я автоматом приписал японцам рефлексию воинов. Именно первая ступень рефлексии – рефлексия зерефов не имеет полутонов. Это самая низкая рефлексия. Когда нельзя проявлять жалости к врагам. Когда надо выполнять приказы.
Однако через минуту вся моя логика приходила к тупику: японцы тут же проявляют выдающиеся качества: они не занимаются чужими делами. Если не позволяют таланты, они не стараются занять чужое место. Естественная скромность слишком очевидна всегда в японском этикете. Если ты аристократ, если ты заслуженный человек, наконец, если ты гость в доме японца – ты всегда на первом месте, ты должен сидеть на самом почетом месте. Если ты это не сделаешь, из-за теперь уже своей стеснительности, японцы не знают, что делать в собственном доме. Что это такое? Ведь японцы автоматически следуют главному девизу ревкона – уступи, пропусти веред лучшего. Пусть даже если это выдающиеся качество есть проявление воспитания, то есть условных рефлексов: японец якобы не сам до этого додумался, а ему внушили – уважать старших. Собственно, на Востоке везде уважают стариков. В чем тут дело?
В чем уникальность японской интуиции?
Со времен Хэйян 794—1185 гг Япония структурирована на пятьдесят подклассов. Нет такой страны в мире, где бы люди не знали чужое превосходство, хоть в чем, в самой мелочи. Официальный статус, благородное происхождение, род занятий и даже старшинство – это самое очевидное, что есть у каждого народа. Японцы умудрились различать на уровне интуиции, кто из них выше, а кто ниже. Даже пусть кто-то родился на минуту раньше, тот достоин большего уважения. Вот такая диктатура почти вечной иерархии воспитывала японцев. Всю историю японцев приучали дисциплине.
Почему же в Японии не случилось застоя?
По причине торжества глупости. Ведь старший в любом виде старшинства, хоть в социальном статусе, хоть в виде глупого старшего брата должен диктовать покорным людям свою волю.
Над японцами довлеет культура этикета – это бесспорно. Эта культура уважения ощущается даже в XXI веке, хотя Японию можно считать самой урбанизированной нацией в Азии. Японец всегда будет тебе улыбаться. Но это не совсем улыбка китайца. Это также не означает, что японец обязан улыбаться на любую глупость и каждому невежде. Японец начнет издалека намекать, чтобы не обидеть. Если ему надоест, и он видит, кто перед ним, он культурно попрощается.
Так кто же такой японец – зереф или зелот?
Этот вопрос и путаница в моей теории рефлексии – оттого что японцы все отрицают своим поведением всю мою теорию. Сверх тактичные и приветливые японцы рассказывают вам о долгом историческом принуждении быть такими. Это действительно так. За двести пятьдесят лет диктатуры дома Токугава японцев приучили даже не касаться друг друга, чтобы избежать оскорбления. Кто-нибудь видел, чтобы японцы протягивали руки для рукопожатия? Нет же, японцы складывают ладони и совершают поклоны. Это врожденная приветливость тогда или это скрытый таким образом страх многих поколений?
А кто сказал, что любящие своего отца дети, приветливы от страха?
Приветливость нации, как раз показатель ее высокой рефлексии. Зачем тратить врем я на пустяки. То, что должно быть осознано, не всегда происходит от чистого сердца. Высокая рефлексия проявляется именно в поиске и находке лучшего варианта, это поиск Дзена, то есть лучшего пути. В VI веке в Японию проник буддизм. Он так понравился японцам, что они всегда делают правильный выбор. Очень мало у японцев глупцов в административном аппарате до сих пор. Глупец не посмеет занять место талантливого человека, чтобы не выглядеть посмешищем. Они всегда делают правильный выбор, всегда находят нужный путь. При всей диктатуре администраторов сёгуна они не смогли бы повлиять на свободу выбора. Да, сёгуны приучили японцев к сверх дисциплине. Довели до космических высот сверх интуицию японцев, но мало кто из японцев превратился в святых пророков, каких много на Западе. Диктатура сёгунов повлияла на рост рефлексии. Даже самый последний японец старается не совершать глупостей, чтобы над ним не смелись. В этом отношении японцы очень мнительны. Но именно мнительность является первым шагом к совершенству.
Глава 8
Когда много простоты и когда все – витрина
Когда много красоты – это не красота.
Японская пословица
Как заметили все любители все японские авто очень эргономичные. Эргономичны не только тойоты и ниссаны, также японские скоростные поезда. Эргономичны все японские помещения вообще. Ни одной лишней детали, ни одного лишнего предмета. Нигде нет пресыщения и вычурности в архитектуре. Японцам не нравится все большое и красочное. За исключением уличной рекламы. Но все торговля подчиняется другим законам.
Если в японской действительности все такое сдержанное, как все японцы, следовательно – это и есть японская культура. Первые европейцы, посетившие Японию отметили маленький рост японцев, отсутствие полных людей, миниатюрность японских вещей. Они говорили, что японцы подавали угощения в игрушечной посуде. Все вещи у японцев напоминали им детские игрушки. Что японцы, как дети, все время кланяются друг другу.
(Японцы со своей стороны тоже не остались в долгу. Эти рыжеволосые португальцы и голландцы показались им отвратительными демонами из мира демонов – такие де огромные и с такими же большими носами как у тенгу (Тенгу -японский демон с огненными волосами). Они называли нанбандзин вообще-то китайцев, но европейцы также приплыли со стороны Китая – какая разница? Европейцы тоже превратились в варваров. Потому что от европейцев шел дурной запах. Где же им было купаться? Не на корабле же. Не корабле не ванны.)
Конечно европейцы удивились абсолютной японской чистоте. Японцы были чистыми и опрятными, даже простые крестьяне и портовые носильщики. Они носили халаты, в которые заворачивали тело, даже носки у японцев были белыми. В японских домах не было ни одной лишней вещи. Входя в дом, японцы снимали обувь и одевали тапочки. Даже для туалета у японцев были отдельные тапочки. Все домочадцы, после приветствия и любопытства, куда-то исчезали. Все, включая главу, вели себя так по отношению к гостю, как будто зашел японский император. Гостя обязательно усаживали на самом почетном месте. Если гость показывал стеснительность и не садился туда, хозяин и жена впадали в ступор – не знали что делать, так у японцев все расписано по вековому этикету. Прежде чем подать самые изысканные угощения, все хозяйки говорили одни и те же слова: «Простите, что у нас на столе почти ничего нет». Хорошо, что гости ничего не понимали, они бы сами впали в ступор от таких слов, ведь перед ними поставили все деликатесы. За время трапезы хозяин и хозяйка не гоорили ни слова, за исключением здравицы, произнесенной в честь гостя несколько раз при поглощения саке. В других случая, в том числе на полуофициальных, японцы ведут себя так, как будто имеют желание исчезнуть, испариться. Абсолютная скромность и такт. Застегнутая на все пуговицы пиджаки и взгляд в пол – это японцы Таким образом, у японцев не только все помещения эргономичные. Сам японцы эргономичны в собственном теле, если можно так сказать.
Кто-то может заподозрить, что такое поведение также результат вековой административной диктатуры сёгуната Токугава. Может быть, все может быть. Я же думаю, что это результат, что в Японии почти 70% занимают горы. Японские рисовые поля такие миниатюрные, что волей-неволей можно подумать, что все они могут исчезнуть. А эти миниатюрные участки действительно моли бы исчезнуть. Потому что циклоны являются сущим национальным бедствием.
В этом отношении у кочевников – большое раздолье, чтобы скакать в бесконечную даль. Кто их остановит? На тысячу километров впереди никого нет. Скачи себе сколько захочешь, никто не ограничит. Кочевник должен двигаться как можно дальше, использовать всю свою территорию до конца. Может быть поэтому, даже современный казах начальник как будто бы один у себя в кабинете, никого другого рядом нет (хотят они есть). Казаху нужно обозначить свою территорию собой, своим присутствием, своей так сказать важностью. У араба Абу Зиада спросили в шутку, как ходят казахи? Наверное, он видел таких во время хаджа (мы же знаем, что не все такие, не все так ходят, но Абу запомнил одного такого казаха). Итак, наблюдательный Абу Зияд рассмеялся, пошел вперед, размахивая руками и расставляя в стороны ноги, как будто идут не один, а целых два человека, чтобы показать свою территорию, – тоже шутя. А межу тем это не делает никому чести, как говорил пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: «Не ходи по земле горделиво». И вообще, в Японии на 128 миллионов японцев, 9 тысяч чиновников. В Казахстане на 19 миллионную страну приходится 82 тысяч госслужащих. С эргономикой власти явные недочеты.
Глава 9
Качество бюрократии
Амакудари (дословно «спуск с небес»)
«Чиновники – это люди, которые хотят окружить себя как можно большим числом подчиненных. Чем больше подчиненных – тем стабильнее положение чиновника и тем больше возможности у него для дальнейшего продвижения наверх»
Hiroshi Fujiwara
В 1945 году Япония лежала в руинах. Все знают о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. На самом деле ущерб от ядерной бомбы был всего лишь десятой частью от ковровых американских бомбардировок. Эскадры по 500 бомбардировщиков В- 29 сожгли все японские города. Когда император обратился к нации после капитуляции, все японцы, кто мог, стояли у радиоприемников. По стойке смирно в форме офицера Императорского флота со шпагой стоял и молодой Акио Морита – будущий основатель легендарной фирмы Sony. Да, японская бюрократия сама по себе была одним из ингредиентов успеха (другим наиважнейшим фактором японского чуда была высочайшая дисциплинированность и трудолюбие японского народа. Неписаная и мало понятная другим строгая практика амакудари («сошедшие с небес») требует конечно разъяснения.
Что такое амакудари?
Это пожизненный контракт чиновника с государством. Желающих много, а высоких государственных постов мало. Чтобы чиновники в возрасте не засиживались на должности, они могли найти работу в коммерческих фирмах. Пенсия была хорошая, потому что работа в коммерческой фирме также все записывалось в трудовой стаж. В 50—53 года высокие чиновники уходят в бизнес структуры, то есть задолго до пенсионного возраста. И уходят в частные компании, куда их приглашают в качестве топ-менеджеров. Хоть в министерствах у них и скромное жалование, они, как правило, не воруют – знают, что потом честно возьмут свое в частном секторе. Есть тут конечно и возможность для протекции и коррупции, потому что «любимую» фирму, например, мало проверяют. Но это не сильно влияет на японскую коррупцию вообще. Коррупция в Японии очень низкая. Подозрение в коррупции для современного японца чиновника – это такой же несмываемый позор, как для японца времен сегуната. Японцы просто смертельно не хотят быть посмешищем перед обществом. Вот такое положительное наследство от сёгунов.
В Казахстане фирму, в которой работают родственники больших чиновников, вообще стараются не проверять. Это не принято. Любая проверка большой фирмы или крупного банка санкционируется только сверху, любые ошибки исключаются. В основном инспекторы проверяют малый бизнес и там уже возможно все. Мелким коммерсантам лучше не перечить и соглашаться со всеми доводами таких же мелких чиновников, иначе выйдет дороже.
Таким образом, вся власть завязана на крупный бизнес. Чтобы иметь непотопляемый бизнес, нужно иметь большого родственники в исполнительной власти. Чем выше должность, на которой сидит чиновник, тем крупнее у него дела в сфере бизнеса и это почти правило.
Если же власть меняется, то меняется конечно вся исполнительная пирамида. Подбираются «свои люди», своя команда. Происходит и перераспределение активов крупного бизнеса. Поэтому власть терять никак нельзя. Это знает каждый чиновник. Поэтому уходить добровольно никто не хочет. Поводом для увольнения может служить нелояльность режиму, поэтому никто не хочет связываться с оппозицией. Никто не хочет светиться сверх активностью, скажем, в работе. Зато все стараются хвалить курс действующего президента, да и самого президента. Хвалить надо всегда (к примеру, давать название улицам, паркам и площадям имя президента), так можно доказать свою лояльность. Если на подконтрольной территории у большого чиновника происходит чрезвычайное событие, этим сразу пользуются недруги и конкуренты. Они быстро сообщают это президенту. Чиновника сначала проверяют на лояльность, а затем проверяют все остальное. На первом месте лояльность всегда.
Культура власти всегда связана на культуру вообще. Желание кочевника занять больше пространства вокруг себя, вполне объяснимо. Это почти вечное желание. Даже мелкие чиновники из бывших кочевников не терпят возражения. Но вот что интересно, в Японии, например, никто не делает шага без инструкции, Япония это вообще страна инструкций. В Казахстане никакой инструкции почти не надо. Я начальник – ты подчиненный, полнейшая субординация. Если у казаха чиновника есть родственник – крыша» сверху, ему все равно, кто перед ним сидит. Он знает, что у него есть защита. Жалкий лепет журналиста потому жалкий, что никакой свободной прессы нет, хотя везде говорят о какой-то демократии (о приверженности демократии, если точнее). Ну правда, если вокруг рынок, то вроде бы должна быть и свободная пресса. Только не у нас. Потому что все решает власть. Власть решает, что писать, что не писать. Редакторы держать несколько собственных цензоров. Чтобы левая информация не просочилась. Поэтому все хотят, особенно крайне консервативные казахи попасть во власть. Но власть ведет свой отбор. И этот отбор далек от меритократических принципов вообще. А вся пресса под контролем, почти как в Японии (с одним отличием, что японцу помогает принцип амакудари). То есть казах с надежной крышей ничего не боится, а японец сам себе цензор.
А вот японцы большие перестраховщики в этом смысле.
Чтобы не нарушать дисциплину на фирме, президент фирмы не будет держать родственника бездельника. Исключение возможно только у мафии. Но для этого нужно быть по меньшей мере сыном якудзы.
Еще японцы очень любят разные инструкции.
На все дела и действия у них есть инструкции, даже в быту они, как бы, действуют по инструкции – заорганизованно и по традиции.
Поэтому много бюрократических проволочек.
Японская бюрократия честная и преданная, почти как самураи. Но одновременно она очень неповоротливая и, как бы, трусливая, боящаяся ответственности (потому что самураев давно нет, их вывели как сословие). Поэтому много бумаги, много документов, много бюрократических проволочек. Эти инструкции подтверждают, что японцы не любят инициативу, а инструкции помогали сослаться на них, чтобы никто не заподозрил в нарушении порядка. Это тоже, кстати, наследство от сегуната. В разгар экономического бума – в середине 1950-х годов, исследователями приводился такой факт: для получения подписи премьер-министра Японии документ должны были завизировать более 50 чиновников. В среднем каждый чиновник ежедневно ставил свою печать на 250 документов (в Японии на все документы ставится личная печать, а не подпись). Разумеется, проверить или даже прочесть эти бумаги в полном объеме физически было невозможно, что приводило к простой проштамповке документов и передаче их дальше по инстанциям.
Итак
Институты контроля имеют глубочайшую историю, связанную с идеологией японского неоконфуцианства. Япония уже через 15 лет после ковровых американских бомбардировок, буквально на пепелище достигла довоенного уровня и второго места после США по ВВП. Всего за одно поколение! Как бы странно это не звучало, но своему экономическому триумфу Япония обязана иерархическим отношениям и феодальной дисциплине – массовому подчинению власти, верному служению элиты, выполнению обязанностей и долга. Весь народ так делает.
В этом отношении казахи, как бы, более свободолюбивые (недисциплинированные). У нас не было сегуната, не было деспотичной власти в течении двух с половиной веков (да, был когда-то давно Чингисхан. Еще все консервативные, особенно либеральные казахи ругают диктатуру большевиков). Именно в это время японцы сформировались такими, каких мы их знаем. Какими их знает весь мир. А мы на самом деле сформировались при советском строе. Пришли большевики интернационалисты и провели модернизацию.