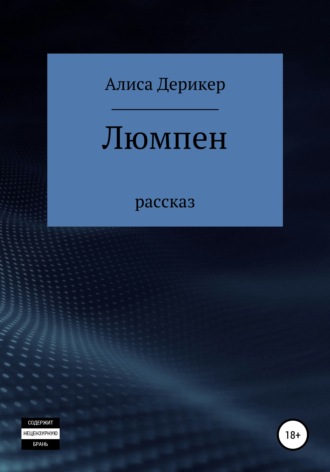
Алиса Дерикер
Люмпен
И всё же у меня оставался осадок. Я крестился, я падал на колени, я молился, но на меня всё равно смотрели как на собаку, что жалобно скулит, когда ей уже давно велели заткнуться. И в тоже время я сознавал, что никто из них мне вообще ничего не должен, и милостыню нужно принимать с благодарностью. Церковь говорила "со смирением", но смирения во мне не было. Я был советским человеком, всю жизнь проработавшем в Петербурге, а теперь оставшимся на улице, и Петербургу было плевать на меня. Я провёл в качестве бездомного чуть меньше года, и всё ещё считал себя человеком с таким же достоинством, с такими же правами, как и у всех, и в этом была моя проблема. Они видели разницу между мной и собой, сознавали её так же отчетливо, как разницу между ночью и днём, а для меня, привыкшего уже спать урывками на холодных и мокрых скамейках, разница между ночью и днём начала стираться.
Двери Троицкого собора были закрыты: ещё слишком рано, служба начнётся только в десять, ждать часа три-четыре, не меньше. Я сел на жёсткий камень ступеней, от него шёл холод, но подстелить было нечего. Как давно уже я не сидел в мягком кресле, как давно уже не спал на кровати, мне кажется, всё это было где-то в прошлой жизни. Но это тоже запретная тема. Никаких воспоминаний, если хочешь жить.
Замёрзший, изнывающий от холода и жажды, я сидел на паперти, чувствуя себя персонажем "Униженных и оскорблённых". Какое это точное и верное название: ведь самое страшное не грязь, не запах нечистот и выделений, не грубость нравов, не болезни, не постоянный голод и жажда, самое страшное – постоянное унижение, к которому, впрочем, привыкаешь так же, как к голоду, грязи, болезням и нечистотам, которые и являются его постоянными атрибутами. И это тоже разница между человеком и животным: животные не оскорбляются тем, что им приходится есть с пола или пить из лужи.
Самое страшное – это то бесконечное одиночество, в которое ты оказываешься заключён, как сосиска в целлофановую оболочку. Ради того, чтобы хоть немного забыть об этом одиночестве, бичи сбиваются в "кланы", но во многих, да почти во всех, таких общинах каждый всё равно сам за себя: они могут подраться из-за куска картона, и всем абсолютно на тебя наплевать. Никто не спросит, как прошёл у тебя день, никому нет дела до твоих болей в спине и износившихся ботинок, а если ты скажешь, что тебе удалось сегодня хорошо пообедать, тебя сожрут взглядами зависти, или побьют.
Лишь ненависть с Юга на Север
спешит, обгоняя весну.
Сжигаемый кашлем надсадным....
Не помню, как там дальше у Бродского. Про надсадный кашель очень верно. Иной раз боишься свои легкие выплюнуть. А в сущности-то, тебе ведь и поговорить-то просто не с кем: за бутылкой водки будешь слушать их байки о коттедже на Крестовком острове, о лихих девяностых и влиятельных знакомых. Здесь каждый говорит только о себе. И каждый говорит, каким крутым был в той, прежней жизни. Вообще, улица как трещина: жизнь разламывается на прошлую и нынешнюю, на «до» и «после». И даже если ты вернешься (такое очень редко, но бывает, это вроде сказки о Золушке или о ком там), ты сам уже никогда не будешь прежним. Никогда не будет уже той легкости в руках и ногах, никогда не перестанет грызть боль в спине, никогда не перестанет тошнить от еды и даже зубы, даже если их все до единого залечить, все равно никогда не перестанут болеть – уже болит сама челюсть, потому что начала гнить кость.
А женщины тут все шлюхи: забывают твоё имя после первой же ночи. Случайные собеседники ни в грош тебя не ставят. Один будет твердить тебе, что "скоты продали Россию"; другой с пеной у рта будет уверять, что ФСБ отстреливает бездомных, как собак; а третий в состоянии говорить только о "чёрных рЭлторах", даже не зная как это слово пишется. Все эти разговоры уже давно осточертели.
Я посмотрел на свои руки: пальцы распухшие, растрескавшиеся, в мелких кровоточащих ранах и незаживающих царапинах, обломанные ногти, чёрные от грязи. Руки старика. И мне вдруг неожиданно живо и ясно вспомнились мои прежние руки. Перед глазами стояла картина: моя собственная рука с идеально гибкими пальцами, заботливо расшевеленными Инной Ильиничной (я даже помню её имя! спустя столько лет!), моей преподавательницей в музыкальной школе, моя рука с этими самыми пальцами, чистыми, гладкими, с ровными и аккуратно подстриженными ногтями (я стриг их трижды в неделю, так быстро они отрастали благодаря пианино!), моя рука с растопыренными пальцами лежит на парте, а другою рукой я играю в "ножички", попеременно переставляя перочинный нож по межпальцевым промежуткам, всё ускоряясь и ускоряясь. Аччелерандо.
Какая странная штука память! Она подбрасывает давно забытые музыкальные термины, воспоминания полувековой давности, и всё это так не вовремя и не к месту… Ну, что теперь. Теперь уже ничего не осталось. Только смотреть на свои растрескавшиеся негнущиеся сосиски с пожелтевшими обломанными ногтями, и вспоминать, каким я был пятьдесят лет назад. Глядя на меня сегодняшнего со спутанной грязной бородой, сломавшего свой протез и потерявшего еще два зуба, больного, старого, немощного, грязного, глядя не меня такого, сложно представить, что я мог быть другим. Я имел раньше облик человека.
Иногда мне казалось, об этом стоит помнить, чтобы не упасть на самое дно. Парадокс состоит в том, что, для того, чтобы выжить, об этом нужно уметь забывать, потому что нет ничего более уничижительного, чем осознание отсутствия уважения к себе самому. У животных нет понятий «уважение» и «унижение».
Солнце встаёт быстро. Пока что еще холодно, но пар уже изо рта уже не идёт. Я смотрю, как просыпается город. Сегодня будний день – это видно сразу. Числа и дни недели не держатся в памяти, но будние от выходных отличаешь легко по количеству людей на улицах, их одежде и походке. Люди спешат, а я совсем уже забыл, что значит спешить. Я никуда не тороплюсь, да и смысл? Только-только пройдёшься быстрым шагом – обязательно где-то начнет колоть. Ноги опухают. Обувь быстрее снашивается. Лучше всего найти тёплое местечко, где трубы, и лежать там, как кошка на батарее.
От сидения затекают ноги. Чувство зуда за последние месяцы вообще перестало ощущаться, зуд стал нормальным явлением. Я поёрзал, но удобнее не стало. Теперь всё чаще чувствую усталость… Не только усталость, но и злость. Кто бы мог подумать, что образованный человек, интеллектуал, учитель с тридцатипятилетним стажем кончит вот так вот – безымянным вшивым бомжом…
В голове всплыли начала марксизма-ленинизма, заученного мною еще в институте. Бытие определяет сознание, утверждал Маркс, и только сейчас я понимаю, как же это верно. Мой образ жизни определяет моё сознание. Ночевки на улице, одежда, а иногда и еда из мусорных баков, сон на мокрой скамейке под открытым небом, постоянно ноющие ноги, больные зубы – вот что определяет моё сознание. Я ведь и матом раньше никогда не ругался, отчитывал восьмиклассников, если слышал от них брань.
Когда в прошлой жизни я сидел в своём кресле, читая газету, или щелкал пультом перед телевизором, я думал о мире совершенно не так, как сейчас. Мне казалось, у меня есть сила что-то изменить, я ходил на голосования, я вызывал в школу родителей хулиганов, засовывавших тряпки в унитаз и жвачку в замки, я проводил с ребятами разъяснительные беседы, писал жалобы в милицию на шумных соседей, а теперь я над своей жизнью не властен. Когда-то я нес транспаранты на первомайских демонстрациях, когда Невский превращался в живую и трепещущую толпу, а теперь я никто. Я ничтожество без права голоса, без права сделать замечание ребенку, лупящему кошку. Я не имею права даже сказать «да им моча в голову ударила в министерстве образования: так исковеркать, изуродовать систему, уволить заслуженных педагогов с десятками лет стажа, отменить городоведение, сократить программу по русскому языку, истории, математике, ввести это глупое ЕГЭ с его дебилизующими тестами». Я не могу этого сказать, потому что я потерял право высказывать собственное мнение, моё мнение теперь ни для кого ничего не значит.







