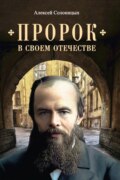Алексей Солоницын
Анатолий Солоницын. Странствия артиста: вместе с Андреем Тарковским
Тина Григорьевна
Отцу предложили быть собкором по Киргизии, и он, охотник до перемены мест, согласился.
Мы поехали на Зеленый – в последний раз.
Разожгли костерок, заложили в него картошку. Потрескивали сучья, и отец, начав издалека, с рассказов о своей юности, о том, как ему давалась учеба, спросил Толю:
– А ты что же, так и останешься недоучкой?
Толя, помолчав, ответил:
– Есть план… Буду учиться. Только в восьмой не пойду – сразу в девятый. Хочу поскорее получить аттестат.
Так было часто – примет такое решение, какого от него никто не ждет.
Костерок догорал, но мы все не ложились спать. Не верилось, что мы навсегда прощаемся с Зеленым. Неужели больше не будет ни рыбалки, ни ночей у костра?
А Бабаня? А друзья и девочка Таня, в которую я влюбился?
Начиналась новая пора жизни, но я смутно понимал это.
Во Фрунзе (теперь Бишкек) Анатолий осуществил свой план. Он сдал экзамены, выдержав испытательный срок.
Мы учились в восьмой средней школе, мужской. А через несколько кварталов, на этой же улице Молодая Гвардия, находилась девятая средняя школа, женская.
Улица была просторной, широкой, с аллеями акаций и карагачей, с газонами торжественных цветов, названия которых я не знал. Параллельно аллеям бежал поток темно-желтой воды – арык. В нем купалась малышня, которая никогда не видела моей Волги. А я не видел раньше таких величавых, могучих гор с белыми снежными вершинами.
На базаре продавались дыни, арбузы, виноград – в глазах рябило от изобилия фруктов и овощей. Орали верблюды, которых теперь на культурном, одетом в бетон, базаре не увидишь.
А жаль.
Самой красивой учительницей у нас была Екатерина Ивановна. Она эффектно одевалась, умело пользовалась косметикой, а волосы укладывала, как Любовь Орлова.
Екатерина Ивановна вела русский язык и литературу. Однажды я с удивлением обнаружил, что она почти слово в слово пересказывает нам то, что написано в учебнике. Но осудить ее я не решился – ведь она была красивой.
Случилось так, что Екатерина Ивановна заболела, и, когда к нам в класс вошла маленькая старушка, мы очень удивились.
Легкой, уверенной походкой она подошла к учительскому столу.
Голову держала чуть запрокинув назад, словно смотрела на нас через какую-то преграду. На старческих щеках – легкий румянец, глаза голубые, как у девочки, белые волосы уложены венчиком, тоже как у девочки.
Она положила журнал на стол, улыбнулась и сказала тихим, но твердым голосом:
– Меня зовут Тина Григорьевна, фамилия – Пивоварова.
Кто-то хихикнул, кто-то сказал:
– Одуванчик.
Опять хихикнули, а Тина Григорьевна улыбнулась еще приветливей:
– Одуванчик – это остроумно. Но вообще-то у меня было прозвище Пиво. А когда я училась в университете, ребята звали меня не Тина, а Глыба – за мой рост.
Теперь уже не захихикали, а рассмеялись, и смех этот был не издевательским, а дружеским.
Вечером я делился впечатлениями с братом.
– Я давно знаю, какая она, – сказал Толя. – Это ты все на красивую внешность кидаешься.
– При чем тут внешность?
– При том, что тебе пора получше в людях разбираться. А то смотришь и, кроме красивых глаз, ничего не видишь.
– А разве у Тины Григорьевны некрасивые глаза?
Толя хмыкнул и перестал воспитывать меня.
– Смотри сюда, – он развернул лист ватмана, на котором были начерчены какие-то стрелы, дуги с короткими черточками. – Это план Бородинского сражения. Поможешь мне?
– Вам задали?
– А тебе обязательно надо, чтоб задали! Я сам хочу разобраться, как сражение шло, понимаешь, – сам.
– Да чего ты орешь? Говори, что делать.
Толя вздохнул, полез в карман – по этому жесту я знал, что он хочет закурить. Но дома курить он боялся и, сунув спичку в рот, покусывая ее, начал объяснять:
– Понимаешь, надо начертить позицию наших и французов до битвы. А потом, во время битвы, другой краской – вот как здесь, – он открыл книгу и показал мне схему. – Только я хочу нарисовать и фигурки солдат, и надписи сделать. А главное – самому разобраться, как все было.
– Так там же все написано, – я показал на книгу.
– Написано! – передразнил меня Толя. – Написано – это одно. А вот почему наши отошли именно сюда? – он ткнул карандашом в схему. – Или почему Кутузов приказал поставить батарею Раевского именно здесь?
Постепенно Толина затея меня увлекла. Собственно, заняться схемой попросила Тина Григорьевна, так что не совсем это дело принадлежало ему…
Я неплохо писал плакатным пером, да и срисовывать умел, что Толе было не под силу – он вечно торопился, мазал, а буквы у него плясали в разные стороны. Он меня то и дело подгонял, я ворчал и продолжал делать по-своему – медленно, но аккуратно.
Скоро к нам присоединился отец.
– Разве это вы сейчас проходите по истории? – спросил он.
– Нет, не по истории, – ответил Толя. – Просто я читаю «Войну и мир». И учительница попросила…
– Ага, – отец сел рядом. – Интересно-интересно… Слушайте, полководцы, а почему у вас все русские в красных мундирах?
– Так легче отличить наших от французов, – сказал я. – А потом, красный – наш цвет.
– Форма кутузовских войск была очень разной, – отец добродушно улыбнулся. – Уланы, драгуны, гусары – все по-разному были одеты. Хотите, покажу как? – и, не дожидаясь ответа, он пошел к себе в комнату, где в шкафу стояли его книги.
Немного разобрались мы и в формах, но перекрашивать нарисованных солдатиков и кавалеристов я не стал – умаялся. Все-таки план Бородинской битвы мы с Толей в тот вечер дочертили, и он, к нашему удовольствию, получился хорошим.
Толя отнес план в школу, и он понравился всем, особенно Тине Григорьевне. Она сумела втянуть Толю еще в одно дело.
Я обратил внимание, что Толя, закрывшись в спальне, что-то тихонько бубнит, выделяя отдельные, странно звучащие для меня слова.
Я слышал, приложив ухо к двери: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу… был волшебный… Бу-бу… с Поклонной горы… бу-бу-бу, бу-бу… своими садами и церквами…» И так далее.
Толя всегда любил напускать туману на свои затеи, долго мариновал меня, прежде чем рассказать, в чем дело, а тут особенно заважничал и не подпускал меня к себе.
Но вот мое терпение кончилось, и я постучался в дверь.
– Башку отвинчу, – сказал он. – Не мешай.
– Не будь занудой, – отозвался я. – Скажи, что делаешь. Учишь, что ли?
– Не раздражай меня. Я – нервный.
Я засмеялся:
– Толь, ну чего ты, ей-богу? Может, я тебе помогу.
Он открыл дверь и влепил мне щелбан.
– Любопытной Варваре…
– …нос оторвали, знаю, – я поскорее сел к столу, чтобы меня труднее было выгнать. – Чего учишь?
Книга была завернута в газету, Толя держал ее под мышкой и, нарочито помедлив, сказал:
– Отрывок из «Войны и мира».
– Отрывок? На уроке отвечать?
– Если б на уроке! – он лег на диван. – А то на вечере.
– Ну и что?
– Ничего ты не понимаешь. Отрывок-то, знаешь, какой? Наполеон на Поклонной горе, когда он ждет депутацию из Москвы.
Этот отрывок я не знал, быстро прочел его и отложил книгу.
– Отрывок как отрывок. Ничего особенного.
– Да? Ну-ка, почитай вслух.
Я начал читать. Толя внимательно слушал, потом оборвал меня:
– В детском садике так читают. Тина Григорьевна мне объяснила, что тут не зубрежка нужна, а художественное чтение.
– Художественное? Это какое же?
– Я и сам толком не понимаю. Откажусь. К тому же выступать не в чем. Для сцены нужен хороший костюм, ботинки…
– Можно надеть все отцовское.
Толя быстро встал, подошел к шкафу. Примерил отцовский костюм. Брюки оказались длинны, пиджак широк в плечах.
Через несколько дней, за ужином, Толя, к моему удивлению, объявил о вечере.
– Замечательно, – сказала мама, которая сама в молодости любила выступать.
– Со мной занималась наша учительница, Тина Григорьевна. Понимаете, я не мог отказаться, как ни вертелся…
– А зачем отказываться? – удивилась мама.
– Мне не в чем выступать.
Мама вздохнула, а отец сказал после паузы:
– Иди примерь мой костюм.
– Велик.
– Примерь, поглядим…
Толя послушался. Мама вертела его и так, и эдак.
– Не знаю, что с пиджаком получится… Ну, отец, решай.
– Чего тут решать, раз надо. Перешивай.
Мама не смогла скрыть радостной улыбки и тут же принялась за дело. Ей было трудно, но она справилась. Теперь костюм сидел на Толе отлично, и мама приказала:
– Надевай отцовские лакировки.
Подложили ватку в носки полуботинок, и Толя в самом деле стал походить на артиста – как-то сразу повзрослел и изменился.
Но еще удивительней было его превращение на следующий день, когда мы всей семьей сидели в школьном зале, а Толя вышел на маленькую сцену.
Он держался свободно, руки ему не мешали, и новым был голос – немного печальный, с какой-то внутренней силой и тревогой, завораживающий ясно произносимыми, как будто зримыми, словами:
– «Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно со своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца».
Мы с удивлением смотрели на этого нового, почти незнакомого юношу, который, всматриваясь в какую-то неведомую даль, будто не произносил текст Толстого, а сам рассказывал и о Поклонной горе, и о человеке с толстыми ляжками, обтянутыми белыми рейтузами, который мнил себя победителем, властелином мира, а сам волновался и робел перед загадочной для него столицей и загадочным народом.
Толя продолжал:
– «В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его».
Толя не торопил, не гнал текст, а внутренним чутьем, о котором и сам не подозревал, наращивал это смятение Наполеона и ожидание непоправимости беды.
Нет никакой депутации. Никто не идет на поклон к нему.
– «Москва пуста. Какое невероятное событие! – говорил он сам с собой. Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья. Не удалась развязка театрального представления».
Эта последняя фраза, которую произнес Толя, находилась в полном противоречии с теми чувствами, которые переживали мы, зрители, аплодирующие изо всех сил. Развязка Толиного представления удалась, и он, смущаясь, не понимая, почему все так громко хлопают, быстро ушел со сцены.
Тина Григорьевна лишь мелькнула в нашей жизни. Она часто болела и скоро перестала учительствовать. Но вот ведь как бывает: с одними людьми встречаешься годами, а стоит им исчезнуть с горизонта, тут же забываешь о них. А есть люди, встречи с которыми выпадут на твою долю раз или два, а останутся в сердце на всю жизнь.
Ожидание счастья
Выпускники, как известно, народ гордый. К ним особое отношение и в школе, и дома, и, может быть, поэтому какое-то время они чувствуют себя в самом центре текущей жизни.
В десятом классе Анатолий стал от меня отдаляться. Да и не только от меня. Однажды он сказал:
– Буду жить на кухне.
Видя наши недоуменные лица, что-то стал объяснять…
Кухню он переоборудовал сам. Поставил туда топчанчик, этажерку, мама настелила скатерок и салфеток, и кухня стала походить на жилую комнату.
Мы жили в двухкомнатной квартире, довольно просторной, и нам никогда не было тесно. А тут Анатолий решил отгородиться.
Почему?
Не раз и не два ночью, шлепая к туалету, я видел на кухне свет. Толя читал или сидел за столом, о чем-то думая. Что-то мучило его, наверное. Но что?
Днем я привык видеть его занятым, озабоченным. Помимо уроков, он теперь готовился к концертам. Его то и дело приглашали вести вечера, и он конферировал, выступая с куплетами, музыкальными фельетонами.
У них, выпускников, образовалась своя компания – ребята из разных школ, все лидеры и таланты. Я для них был «маленький», поэтому в компанию допускался редко, особенно на вечеринки. Они приглашали девушек, устраивали танцы, игры, и было замечательно весело, а от одного прикосновения к какой-нибудь прелестнице вздрагивала и обмирала душа.
Новые Толины друзья мне нравились, потому что один из них собирался поступать в архитектурный институт, другой решил стать радиоинженером, третий говорил об энергетике как о главном деле будущего. Все вместе они пели, играли – кто на аккордеоне, кто на гитаре, и мне ничего другого не надо было, кроме как находиться с ними, но Толя то и дело отстранял меня: «Тебе еще рано», «Успеешь, еще не вырос» и так далее.
Я страдал. Привлечь к себе внимание я не мог, потому что к спорту они относились снисходительно, а свои литературные опусы, которые у меня появились в школьные годы, я, разумеется, хранил в тайне.
Брат как будто оберегал меня. Но от чего? От драк, которые иногда вспыхивали в парке «Звездочка»? Но я же играл в футбол, немного боксировал, а потом переключился на баскетбол и играл в команде, где были ребята, выступающие за юношескую сборную города, – их «уважали». Был среди них Шурка, или Шурей.
Глаза его косили, он как будто не мог посмотреть на тебя прямо, как будто что-то выискивал по сторонам, словно ждал, что кто-то сейчас подойдет.
От этого Шурея и его вечерних приятелей с фиксами, в кепочках-москвичках с витыми шнурками над крохотными козырьками-«переплетами» исходила темная, тупая угрюмость, когда они шли по аллеям «Звездочки» к танцплощадке.
Драки возникали с поразительной быстротой, прямо в мгновение ока. Иногда они бывали нешуточными.
Толя знал, что меня в обиду не дадут, что в крайнем случае я могу позвать и Шурея, но все равно отчитывал меня, если встречал вечером в «Звездочке».
И все-таки что-то иное беспокоило его.
Чаще встречались у Жени, или Жеки, как мы его звали (это он собирался поступать в архитектурный). У его родителей был свой дом с садом, перед домом – просторная площадка. На ней мы и танцевали, а лохматый пес Барс ходил между нами, добродушный и важный, поглядывая на нас снисходительно, но все же с симпатией. Была еще собачонка Клякса, крошечная, с янтарными глазами навыкате, с желто-черной гладкой шерсткой и строптивым нравом. Ласкать себя она не позволяла, урчала враждебно и в любую секунду могла закатить истерику. Тогда Барс загонял ее в дом или в конуру, и Клякса постепенно успокаивалась.
Прошли выпускные вечера. Родители мне рассказали, что брат читал отрывок из какой-то неведомой для меня поэмы «Облако в штанах». Я думал, что это какие-нибудь веселые стихи, и, когда прочел поэму, изумился: зачем учить такую заумь? Спел бы лучше куплеты про электричество… Правда, у Маяковского есть хорошие строчки, но столько непонятных мест… Странно.
Прощальный «бал» устроили у Жеки. Пригласили и меня.
Толя танцевал с девушкой Наташей. Он бережно держал ее за талию, выпрямившись, как по струнке. Двигался он легко, с изяществом, и Наташа танцевала нисколько не хуже. Белые туфельки мягко скользили, платье чуть колыхалось – легкое, нежное, похожее на бело-розовую кипень цветущих яблонь и вишен. Стрижка у нее была короткая, «венчиком», и очень ей шла. Я запомнил ее прическу, потому что школьницам в наше время отрезать косы запрещалось. Но Наташа нарушила запрет. «У нас в Москве давно делают стрижки. И в школу можно ходить не обязательно в форме», – объясняла она, а девчата слушали ее, не в силах скрыть изумления. Отец у Наташи был дипломатом, он уехал в какую-то важную командировку, а дочь на это время отправил во Фрунзе, к своей сестре.
В тот памятный день все девушки, приглашенные к Жеке, надели нарядные платья и выглядели так хорошо, что перед каждой можно было встать на колено, как рыцарь. И все же Наташа выделялась. Я теперь понимаю, что она отличалась не красотой, а именно вот этой стрижкой «венчик», дорогим платьем, туфельками на модном каблучке. Но я был бы неправ, если бы все свел только к этому. Привлекали, конечно, и Наташина стройность, мягкий взгляд светло-голубых, чуть близоруких глаз, эта летучая, такая кратковременная грация, которая, увы, нередко исчезает у женщин, стоит им только выйти замуж. Толя и Наташа танцевали и улыбались друг другу, а Барс ходил около них и помахивал громадным хвостом. Светило вечернее солнце, небо было синим, а прямо у входа в дом Жеки рос куст сирени, весь в гроздьях цветов, тревожных и нежных.
Спи, мое бедное сердце,
Наша любовь – это тайна, —
пел сладкий тенор, и в душе возникало такое чувство, когда хочется сделать что-нибудь необыкновенное, чтобы тебя похвалили, чтобы тобой гордились.
На школьных вечерах, особенно у девчат, танцевали только бальные танцы: польку, падеспань, падекатр и прочую «муру».
Наградой был вальс, а о танго или фокстротах и речи не велось.
Поэтому на своих вечеринках мы ничего другого не танцевали, кроме танго, фокстротов и вальсов.
Толя не отходил от Наташи, и всем было видно, что они очень нравятся друг другу.
Мог ли я подумать, что всего через какой-то месяц на своей даче, под Москвой, Наташа скажет Толе: «Извини, я не могу тебя принять. Тут ко мне приехали друзья. Приходи как-нибудь в другой раз».
И он будет идти по ночному шоссе пешком, в общежитие на Трифоновку. А еще через несколько дней в ГИТИСе ему скажут, что и в институт его принять не могут – пусть приезжает в другой раз…
Танцует высокий, «аристократический» Жека и еще не знает, что архитектор из него все-таки получится, несмотря на первые неудачи; веселый, заводной Славка, ведающий у нас музыкой, закончит высшее военное училище, и трудные армейские заботы изменят его нрав; розовощекий, так и пышущий здоровьем беспечный Юрка разобьется на мотоцикле, не заметив опущенного через переезд шлагбаума; красавец Генка, похожий на парубка, недолго побыв ученым-аспирантом, переквалифицируется в заместителя директора по хозяйственной части одного из заводов; а серьезный Володя, выросший без отца, станет инженером-строителем и выведет в жизнь своих сестренок.
Но все это будет потом, а сейчас мы танцуем, смеемся и ждем от жизни только счастья, и сладкий тенор поет:
Спи, мое бедное сердце,
Прошлое вновь не вернется…
Не только я – все знакомые и друзья были убеждены, что Толя поступит в театральный. Кому же быть артистом, как не ему?
Но вот он вернулся из Москвы ни с чем. Сидит на кухне, курит. Все случившееся с ним кажется нелепостью, недоразумением. Я пытаю его вопросами, но он отвечает односложно или пожимает плечами.
– Что же ты будешь делать?
– Не знаю… Может, к геологам пойду, в горы…
– Зачем?
– Да так…
Ему, конечно, хотелось уйти куда-нибудь подальше от расспросов, сочувствий. Мучила, разумеется, и неразделенная любовь.
Домой он вернулся через несколько месяцев. Исхудавший, с осунувшимся лицом. Оказалось, что какой-то головотяп забыл о снабжении продуктами геологической партии, в которую пошел работать Анатолий. Дело свернули. Заработки оказались столь плачевными, что их не хватило даже на то, чтобы дождаться, пока будет укомплектована новая партия. На попутках, а где и пешком возвращался Анатолий домой по берегу Иссык-Куля, через Боомское ущелье.
– А знаешь, что ты шел путем Семенова-Тян-Шанского? – шутил отец, стараясь приободрить Толю. – Не беда, будет что вспомнить потом. Сиди теперь и готовься к экзаменам – путешествий пока с тебя хватит.
Он согласился. Составил себе новую программу для вступительных экзаменов и принялся за работу.
«Ничего, – успокаивал я себя, когда слышал его голос, доносящийся из кухни, – все будет хорошо, все еще впереди: и учеба, и работа, и счастье».
Цена выбора
Скоро мы расстались. Толя поехал поступать в тот же ГИТИС, а я – в Свердловск, на факультет журналистики Уральского университета. В Свердловск я поехал потому, что первый писатель, которого я увидел в жизни, был товарищ отца по редакции Сергей Бетев.
– Лучший факультет журналистики – в Свердловске, – тоном, не терпящим возражений, сказал он. – Поезжай, Урал сделает из тебя человека.
Я послушался и не жалею об этом. Я поступил учиться, а Толя – нет. Он написал мне:
22.07.56 г. Москва
Эх, Лешка!
Всю жизнь не везет мне. Как печать проклятия, лежит на мне трудность жизни.
Чтобы поступить в институт, нужны не только актерские данные. Бездарные люди с черными красивыми волосами и большими выразительными глазами поступили… Комиссия поверила им. Мне не верят.
Никто не верит. В этом моя беда. Для института нужна внешность, а потом все остальное. Комиссии нужно нравиться…
Сейчас я ничего не могу понять. Надо взглянуть на все со стороны. Если не возьмут в театр в октябре, пропадет цель и смысл существования. Во Фрунзе не поеду. Стыдно.
В театр его не приняли, хотя была хорошая рекомендация.
Работу он нашел такую, что и во сне не придумаешь. Где-то он прочел объявление, что нужны люди для выкорчевки пней, в болотах под Кинешмой. Поехал…
Домой он вернулся, как рассказывали мне родители, примерно в таком же состоянии, как и после геологической экспедиции. Отоспался, подкормился и пошел работать на завод сельхозмашин имени Фрунзе – ведь он был неплохой слесарь-инструментальщик. Он писал:
Привет, Лешенька!
Вот даже не знаю, с чего начать. Может быть, с того, что я стал лысеть? Это под Кинешмой вода такая была, какая-то противная. Да и старею…
Только сейчас почувствовал, насколько важен переломный момент в жизни, в формировании человека.
Вот не поступил в институт опять – и что-то во мне сломалось. Бросил писать дневник, стал какой-то безвольный. Читать стал мало, курю много. Ты смотри, следи за своим здоровьем, не кури. Следи за своим формированием, сейчас ты переживаешь важное время, поверь мне. Ну а я как-нибудь…
Толька
Встретились мы летом, когда я приехал на каникулы.
– Почему тебя не взяли? – спрашивал я.
– Я же тебе писал – берут красивых… или этих… иван-царевичей.
– Кого?
– Ну, похожих на артиста Столярова… «Цирк» помнишь?
– А монолог Арбенина ты читал?
К тому времени мы посмотрели «Маскарад», и камня на камне не осталось ни от оперетты, ни от оперы. Теперь для нас над всем театральным и киноискусством парил Николай Мордвинов, он был кумиром и звездой. Мне казалось, что Анатолий читает монолог Арбенина («А! Заговор… прекрасно…») просто замечательно. Не хуже самого Мордвинова. Я, конечно, не видел, что Толя во многом подражает знаменитому артисту.
Но дело заключалось не только в этом. Его не приняли в ГИТИС прежде всего потому, что он не подходил под колодку типажей, которые тогда были в моде. Герой-любовник? Нет. Простак? Что-то как будто есть – умеет быть естественным, даже смешным. Но этот нос, это удлиненное бледное лицо… нет, какой там простак. Неврастеник? Пожалуй. Но это амплуа изжило себя.
Да и глаза… Запавшие какие-то. Без сомнения, способен, но нам не подойдет.
Примерно по такой схеме шла оценка абитуриента Солоницына, и его не приняли в ГИТИС и в первый, и во второй раз.
Почему-то поступал он именно в ГИТИС: считал, что здесь и только здесь должен учиться. Каждый раз он доходил до третьего, последнего тура творческого конкурса, и, когда ему говорили «нет», он считал, что жизнь кончена. Но постепенно оттаивал…
Наговорившись о театральных делах, он стал рассказывать о заводе. Показал мне несколько стенгазет. Особенно он гордился сатирическим отделом «Шайба», который придумал сам.
Показал грамоту – на республиканском смотре он читал «Облако в штанах» и получил первую премию. Но разве это могло успокоить его?
Внешне он был энергичен, деятелен, а в глазах появилась печаль. Казалось, они спрашивали: почему меня не пускают к делу, которому я хочу отдать жизнь? Разве я бездарен?
Прощались как-то грустно.
Летом 57-го, снова приехав на каникулы домой, я застал Анатолия за неожиданным занятием – он готовил городской молодежный праздник. Оказалось, что его выдвинули на комсомольскую работу, что он инструктор райкома и вот-вот его переведут в горком.
Праздник молодежи удался. Мы посмотрели концерт художественной самодеятельности, потом был фейерверк, и Толе надо бы радоваться, что дело он организовал как следует, но лицо его было печальным.
Мы шли из «Звездочки» по тихим зеленым улицам. Было слышно, как трещали цикады.
– Знаешь, – сказал он, – комсомол хочет послать меня на учебу.
– А ты?
– А я решил попробовать поступить в ГИТИС еще раз… в последний. Если опять провалюсь…
– Ты не провалишься. Тебя обязательно примут. Но, если что-то случится, хотя я не верю, что случится, приезжай в Свердловск.
– Зачем?
– Там хороший театр. И в этом году при театре открывается студия. Остановишься у моего друга, он свердловчанин. Но все это я говорю на всякий случай…
В ГИТИС его не приняли и в третий раз. И вот мы встречаемся в Свердловске.
…Опять третий тур творческого конкурса. Толя вышел из репетиционного зала, где проходил экзамен. Я бросился к нему:
– Ну как?
– Погоди. Пойдем покурим.
Я видел, что он не может унять нервную дрожь. Мы стояли на лестничной клетке и жадно курили.
– Сейчас скажут… Предупредили, чтобы никто не уходил.
Принять в студию должны были двадцать человек, а до третьего тура было допущено втрое больше. Нервные смешки, предположения, домыслы звучали отрывисто, напряженно.
Вот стоит парень из Сочи – с роскошной цыганистой шевелюрой, с карими продолговатыми глазами – точь-в-точь как Толя описал в письме из Москвы. В светлом костюме, шарф переброшен через плечо. А на улице – ветер, дождь, слякоть.
Вот стоит белобрысый парень из Новосибирска. Похож на вопросительный знак. Толя прозвал его Гамлетом. Он ни капельки не волнуется, убежден, что его примут. И вдруг:
– Солоницын!
Толя вздрогнул и пошел к двери.
Я стоял ни жив ни мертв. Почему вызвали именно его? Что им надо? Неужели не примут? Нет…
А за дверью, как я узнал потом, происходило вот что.
Мнения по приему Анатолия разделились. В приемной комиссии сидели ведущие актеры театра, руководство. Это были разные люди. С одной стороны – Б. Ф. Ильин, народный артист СССР, гордость и слава Свердловского театра, К. П. Максимов, А. А. Ильин, ряд других великолепных актеров «школы переживания», традиционной для русского театра. С другой стороны, были в приемной комиссии и актеры, и руководители театра, которые держались иной позиции в искусстве – «школы представления». Им-то как раз Анатолий и не нравился.
– Мы решили попросить вас сделать еще один этюд, – сказал Борис Федорович Ильин. – Представьте, что вы в разведке. Вы тяжело ранены, а до заграждения из колючей проволоки осталось всего несколько метров. У вас есть кусачки и граната. Вам надо выполнить задание – сделать проход в заграждении. Понимаете?
Анатолий кивнул, снял пиджак, бросил его на стул и лег на паркет.
– Я подумал: зима, – рассказывал вечером Толя. – Ранена у меня не только рука, но и нога. На животе я уже не могу ползти, только на спине… Шарят прожекторы – замри. Во рту запеклось. Возьми снег и ешь его. Так. Вытри лицо. Тебе стало немного легче. Вперед, вперед… Врете, я буду актером. Я сейчас взорву эту проклятую проволоку, взорву раз и навсегда!
Анатолий подполз к самому столу, за которым сидели члены приемной комиссии. Им пришлось встать.
Кусачки не подчинялись разведчику, и он выронил их. Его ослепил свет ракеты, и он закрыл глаза. Скорчившись, придерживая гранату коленом, ослабевшей рукой он медленно подтягивал ее ко рту. И вот он ухватил кольцо зубами и, отчаянно дернувшись, рванул гранату.
– Впечатление было такое, как будто раздался взрыв, – рассказывал потом Константин Петрович Максимов, ставший учителем Анатолия. – Большинством голосов решили его принять…