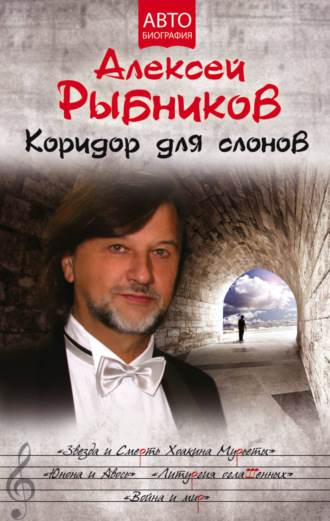
Алексей Рыбников
Коридор для слонов
Крещение. Боевое…
На следующее утро Валя позвонил и сказал, что зрителей может быть около ста человек, что я могу приглашать кого угодно и, конечно, привозить с собой любую технику.
В этот же день я договорился о концертном комплекте аппаратуры. Студийный магнитофон обещал достать Степа Богданов. Я хотел, чтобы воспроизведение было самого высокого класса, с профессиональных магнитных лент.
Что еще?
Гости!
Вот тут-то мне и пришло в голову позвать не только друзей, но и моих новых знакомых – западных журналистов. По крайней мере, прослушивание может стать событием, о котором можно будет написать.
Встречу назначили на 10 декабря. Это был День правозащитника, но, честно говоря, мы об этом не думали. Совпадение было случайным, хотя и очень символичным.
Я попросил Славку Носырева пригласить журналистов и сделать это не по телефону. Он пообещал, но потом куда-то исчез. На звонки не отвечал. Как потом выяснилось, не случайно.
Одно дело разговоры да вечеринки, другое – конкретная акция. Штука серьезная, с последствиями.
Всем журналистам я позвонил сам. Открыто и прекрасно понимая, что все разговоры прослушиваются. Это была уже игра ва-банк.
И вот наступил этот день. Он оказался очень холодным, сереньким и неприветливым. Часам к двенадцати в церковь привезли аппаратуру. Распаковали. Начали настраивать. Встреча в четыре. Время есть. Холодно…
– А отопление когда будет?
Мой вопрос повис в воздухе.
Через паузу последовал ответ:
– А отопления нет. Вообще нет.
Все замерли. Мы уже и так продрогли, думали, вот сейчас потеплеет. Да ладно мы. А гости? А журналисты?
– Да вы не волнуйтесь, народ придет, теплее станет.
Мы не выключали усилители, пульт. Сами надыхивали тепло.
С полчетвертого начали приходить люди. Сначала сотрудники музея. Потом наши гости. Никто не спрашивал, где гардероб. Понятно, что нужно было оставаться в своих шубах и дубленках.
Пришли Гена Хазанов со Златой, Ира Муравьева и Леня Эйдлин, Гарик Бардин с женой Машей, Юра и Марина Энтины, Илья Фрэз с женой и детьми (как написали потом в отчетах, семейство Фрэз), мой друг детства Андрей Сорохтин с женой Леной, Арина Полянская, сестра жены Грамматикова, сам Володя Грамматиков, Игорь Ясулович, знаменитый кинооператор Игорь Клебанов.
Все мы тогда по-настоящему дружили, радовались друг другу, взаимно искренне восхищались нашей талантливостью, щедро называли друг друга гениями. Необычность происходящего только взбудораживала всех.
К четырем помещение церкви было заполнено. Я уже почти был готов открыть вечер, но тут началось!
Дело в том, что произошло то, на что я никак не надеялся. Когда звонил журналистам и приглашал их на встречу, я ожидал вежливой благодарности за приглашение и потом отговорок, почему они не смогли прийти. Но они взяли и действительно пришли! И не ретировались, когда стало понятно, что помещение не отапливается и банкета после мероприятия точно не ожидается.
Это были тот самый солидный Том Кент из «Ассошиэйтед Пресс», интеллигентнейший Клаус Кунце со своей прекрасной женой, Тони Барбьери, еще человека два или три.
Я не запомнил облика и имени директорши музея, но именно она сыграла самую важную роль в тот вечер. Ей позвонили из отдела КГБ по Киевскому району Москвы и сказали, что наша творческая встреча не должна состояться, пока иностранцы не покинут церковь.
Она была потрясена, никак не ожидала такого подвоха с моей стороны. Женщина почти плакала. Но отступать мне было никак нельзя.
Вдобавок ко всему к зданию церкви подъехали две «Волги» из того самого райотдела КГБ. В каждой машине находилось по пять человек. Я сам это видел, выглянув на улицу.
Что было делать?
– Хорошо, мы отменяем прослушивание. Его вообще не будет.
Сотрудников КГБ это не устроило. Они настаивали на выдворении именно журналистов, причем моими руками.
С моей стороны опять последовало твердое «нет».
Переговоры длились минут двадцать.
Наконец они уехали, и директорша с мертвенным лицом сказала:
– Начинайте.
Я вышел на амвон – думаю, что в условиях нашего советского бытия это не было кощунством – и начал рассказывать историю Резанова и Кончиты, о которой в то время, естественно, никто не знал.
После рассказа 80 минут звучала опера, молитвы, слова Резанова, обращенные к Богородице. Первый раз была исполнена и финальная «Аллилуйя».
Я уже не мог воспринимать то, что пелось и игралось, обращать внимание на то, как реагировали мои слушатели. Я просто был счастлив. Правы были сотрудники музея, когда говорили, что как только в церкви собирается народ, там становится тепло. Даже в самую лютую стужу.
Вот что «Вестдойчерунфунк» сказала устами Клауса Кунце об этом событии:
«В Москве, в русской церкви, построенной в стиле барокко, которая является сегодня частью музея икон, собралась несколько месяцев назад разношерстная толпа посетителей, чтобы присутствовать при своеобразном представлении.
Справа и слева у цоколя алтаря – огромные громкоговорители стереоаппаратуры, в центре – столик с магнитофоном и управляющим устройством, у которого композитор Алексей Рыбников представляет свое новое сочинение «Авось». Рыбников, человек 30 лет, сказал вначале несколько слов о своем произведении и его тексте, а затем собравшиеся здесь сто человек полтора часа слушали музыку в зимнем неотапливаемом помещении, не снимая теплых пальто.
Атмосфера в церкви напоминала культурные программы в Германии послевоенного времени. Почему церковь выбрана местом представления, почему здесь собралась эта маленькая любительская община? Рыбников создал в жанре «рок-оперы» столь необычное произведение, какое для Москвы, а может быть, и для всего Советского Союза нетипично. То, что произошло в этот вечер, привело в движение серую зону советской культурной жизни…
Встречающиеся в тексте молитвы, священная музыка, то очень громкая, то очень тихая – здесь, в музейном помещении или, вернее сказать, в церкви, была на своем месте. Как современное художественное средство раздвинула она границы музыкально-бюрократической ограниченности. Музыка говорит больше, чем описание композиторской одаренности Рыбникова, его фантазии в использовании современных достижений, его экспрессии. Жаль, что произведение это не стало достоянием общества».
А на худсовете фирмы «Мелодия» нашу запись зарубили и навечно, как тогда говорили, положили на полку. Но если бы ее даже размагнитили, проще говоря, уничтожили после того вечера, жизнь «Авось» уже началась.
На грани смерти
Однако настоящие испытания были впереди.
Наступили два месяца безвременья. Все, что можно было сделать, это устроить несколько прослушиваний, в том числе в Союзе композиторов. Но это ничего не дало. Я ожидал реакции со стороны органов, но и ее не было.
Я был полностью опустошен. Да пропади оно все пропадом! Даже мысль о том, что надо что-то делать, вызывала у меня раздражение. Попытки что-то сочинить заканчивались тем, что я колотил кулаками по клавишам, вызывая ужас Тани и детей. Не мог ни с кем общаться.
Поездка в феврале в Армению, в Дом творчества композиторов «Дилижан», не отвлекла, не помогла. Скорее наоборот. Вскоре после приезда я заболел. Сначала показалось, ничего серьезного. Просто плохо себя чувствовал. Потом мне стало тяжело вставать, ходить, я больше лежал.
В один из дней к нам случайно зашел знакомый врач. Посмотрев мне в лицо, он спросил, почему у меня желтые белки глаз. Я ему рассказал о своем самочувствии.
– И что, такая слабость, что не можешь встать и ходить?
А я, даже отвечая ему, чувствовал, что терял силы.
Были сделаны анализы, которые показали, что у меня желтуха, болезнь Боткина, причем в тяжелой форме. Скоро кожа у меня начала становиться желтой, а потом – коричневой. Белки стали не желтыми, а просто зелеными.
Почти сразу заболели Таня, Митя и Аня. Но в гораздо более легкой форме.
Обязательно надо было в больницу.
Тут очень помог Гена Хазанов. Он устроил меня и Таню в Боткинскую больницу на совершенно исключительных условиях. У меня был отдельный бокс на первом этаже со всеми удобствами и своим выходом в сад. Правда, это мне было не очень нужно. Я почти не мог ходить. А Таня была прямо надо мной, на втором этаже.
Врачи сначала думали, что это была инфекционная желтуха. Но они не нашли у меня никаких вирусов – ни «A», ни «B», ни «C» – и решили, что это что-то злокачественное. Но почему тогда заболели другие? В общем, полная загадка.
Мне ставили капельницы, давали кучу таблеток. Сначала я их принимал, а потом, когда почувствовал, что мне от них хуже, перестал, прятал их в тумбочку или просто выкидывал.
А время шло. Миновала неделя, за ней и вторая. Я похудел на пять кило, и лучше мне никак не становилось.
К нам домой на Смоленскую набережную заходил Вознесенский. Он взял кассету с записью и увез во Францию кому-то показывать. Потом я узнал, что Пьеру Кардену. Валя делал копии на кассетнике и раздавал друзьям. Передали запись и в Ленком.
Потом Геннадий Трофимов, навестивший меня, сказал, что Марк Захаров начал ставить «Авось». Но мне было тогда совсем не до этого.
Прошло еще две недели. Я похудел уже на десять килограммов, и ничего не менялось.
Начался апрель. Долгие-долгие ночи в больнице. Я не спал ни одну. Мне казалось, что от моих мыслей в потолке будет дырка. Как там Таня, Анюта, Митя?
Таня писала, что ей лучше, она чувствует себя почти хорошо, но я ей не верил. Анюта была в другой больнице. Я знал, что ее тоже не выпускают и состояние ее не меняется. У Мити все было не так тяжело. Он был дома с бабушкой.
Неужели мы не выберемся?
Ночами все чувства обострялись. Я слышал лай и завывания стаи собак с Ваганьковского кладбища, которое было недалеко. Позже, когда я приходил туда на могилу к дедушке, я смотрел на них, стараясь не встречаться с их тяжелыми характерными взглядами. Что ж вы меня так пугали? А ведь именно это ощущение преддверия смерти, жутковатое и затягивающее, мне и надо было передать потом, когда я писал сцену схождения в ад моего героя в «Литургии оглашенных».
Ночами слышалось и другое. Гудение трансформаторной будки, сквозь которое можно было разобрать какое-то бормотание. Стоны больной женщины со второго этажа. Потом хриплый мат-перемат мужика, который буквально вопил часами без перерыва. Я до тех пор не знал, что белая горячка «звучит» именно так.
Как-то в своем письме со второго этажа Таня описала сцену, от которой меня и сейчас бросает в дрожь. У них в палате у одной из женщин началась агония. Чтобы «психически не травмировать» (!) других больных, санитарки сначала переложили ее на пол прямо на матраце, а потом на нем же, еще живую, поволокли куда-то по длинному коридору (куда?!).
Прошло еще две недели. Уже середина апреля. Я похудел в общей сложности на двадцать килограммов и весил теперь 69 вместо моих обычных 89 при росте 187 см.
И снова ночь. Мрачные и беспокойные мысли надоели.
Пытаюсь сосредоточиться на чем-то хорошем. Не получается. Провал. Пустота.
И вдруг непрошеные, незваные, невесть откуда взявшиеся воспоминания… нет! Скорее даже ощущения детства. Начало пятидесятых, Дубовка. Это под Сталинградом.
Все начиналось с запаха. Солнце попадало через окна на два пролета деревянной лестницы и нагревало ступени так, что в небольшом пространстве лестничной клетки постоянно стоял аромат теплого дерева.
Еще были звуки. Две-три мухи перелетали, лениво жужжа, с места на место. На первом этаже был курятник. Куры поквохтывали и шуршали, выискивая свой корм.
И эти звуки, и аромат были какими-то родными, успокаивающими, располагали к полному безделью и бездумному созерцанию. Я часто сидел на этих ступенях именно из-за этого ощущения, любил закрывать глаза и подставлять лицо солнцу.
Тогда перед глазами появлялись темно-красные и черные круги и фигуры, которые причудливо двигались и изменялись. Откроешь глаза и сначала ничего не видишь, а потом… видишь мир. Именно, не отдельные предметы, а весь мир целиком.
И солнце, и земля, и дом, и лестница, и мухи, и куры, и я сам – все было каким-то единым организмом, живым существом. Оно радовалось своему бытию и было наполнено тихим ликованием.
Таким я воспринимал мир очень долго, все детство. Потом, позже, этот мир распался на части, на отдельные предметы и был для меня безвозвратно утрачен.
Но тогда все было в первый раз, все было открытием и поражало новыми впечатлениями. Картины этого чудесного мира и сейчас предо мной.
…Цыгане жгут костры прямо на плотах, на которых они приплыли по Волге откуда-то из Саратова или из Самары. Поют громко, да так, что треньканье гитары почти не слышно. Мы с берега смотрим, слушаем, и так хочется туда, с ними…
…В громкоговорители на улице передают «Ой, рябина кудрявая». Песня мне кажется такой грустной, что где-то в середине груди возникает комочек, который сжимается все сильнее и сильнее. Но эта щемящая грусть нравится мне. Хочется, чтобы песня продолжалась бесконечно…
Очень часто по нашей улице проходят верблюды, груженные поклажей. Погонщики какой-то степной национальности резкими криками и ударами палок иногда останавливают их прямо у нашего дома. В эти моменты я стараюсь подойти к какому-нибудь верблюду поближе, но жутко боюсь, что он плюнет, попадет мне в глаза, и я ослепну.
Так меня пугали взрослые. А может, это и на самом деле так, слюна верблюда ядовита? До сих пор не знаю…
Ура! Меня берут в ночное, на рыбалку, на другой, совсем дикий берег Волги. Костер, уха!..
Спим в палатках. В четыре утра всех будят. Проверяют закидушки, оставленные на ночь в омутах. И тут происходит настоящее событие. Из-под коряги, прямо у берега, вытаскивают огромного сома.
Про сомов рассказывали страшилки, что они хватают детей за ноги, утягивают в омуты и съедают. Я глядел на это двухметровое чудовище и сразу начинал верить в эти рассказы.
Я вместе с удочкой отхожу подальше, так, на всякий случай, да и чтоб мои лески не путались с другими. Ложусь на траву, смотрю на поплавок. Тишина…
И вдруг слышу громкую музыку! Думаю, по Волге плывет теплоход, включили на всю мощь громкоговорители. Такое бывало очень часто. Но слишком рано, не больше пяти утра. Да и музыка, какую себе невозможно даже представить. Как будто поет огромный тысячеголосый хор. И у каждого из тысячи голосов своя мелодия.
Тут мне в голову приходит странная мысль. А что, если я возьму, да и начну управлять мужскими голосами? Вот сейчас они пойдут наверх, а им ответят голоса в нижнем регистре. Так и произошло! А теперь женские голоса одновременно с ними споют аккорды. И это произошло!
Мне было жутковато, но интересно. Так я играл с хорами. Не помню, сколько прошло времени. Мне казалось, что много.
Но когда я вернулся, моего отсутствия не заметили. Судя по всему, этих оглушающих звуков никто не слышал. Что это было? Наверное, звуковая галлюцинация.
Мы переплыли Волгу, оказались на своем берегу и попытались вытащить сома из лодки. Он с неимоверной силой взметнулся, резко вырвался из наших рук и плюхнулся в воду. Только мы его и видели!
…А вот мы сидим за столом у открытого окна. Теплый южный вечер. Когда ветер в нашу сторону, слышен духовой оркестр из городского сада. Вальсы, польки, кадрили, даже фокстроты…
Мы – это моя родная бабушка Анна Степановна, которую назвали еще Ханной или Галиной, ее сестра Александра Степановна, или бабушка Шура, муж сестры Виктор Григорьевич Држевецкий и я. Зовут меня Лека или Ленька (в детстве меня никто из близких не называл Алешей или Лешей).
На столе у нас ужин. Обычно очень-очень скромный, послевоенный. Но иногда у нас бывали настоящие пиршества. Рыбаки приносили осетра. Причем не осетрину кусочками, а осетра целиком.
Черную икру выпотрашивали у него из брюха, вываливали в большое ведро, очищали от всяких прожилок и сразу засаливали. Холодильников в то время не было, зато был потрясающий погреб, в котором даже в летнюю жару сохранялся лед. В этом погребе осетрина и икра хранились долго. Они каждый день украшали наш стол.
Конечно, всегда были арбузы и дыни с нашей собственной бахчи. Еще вареники с вишней, каймак, и самые разные варенья из райских яблочек, вишни, абрикосов. А вот мяса вообще никогда не было. Но его как-то особенно и не хотелось.
Посреди стола – керосиновая лампа, единственное освещение всей комнаты. Электричество часто отключали, то из-за грозы, то из-за чего-то еще.
Керосин вообще был основой нашего бытия. Всю пищу готовили на керосинках или керогазах. Керосином пропитывали сетки, которые мы надевали на головы, чтобы спастись от мошки, тучами нападавшей на все живое. Она лезла в глаза, уши, нос, и только запах керосина ее отпугивал. И конечно, как я уже говорил, керосиновые лампы, при которых читали, занимались домашними делами и рассказывали разные истории, как и в тот теплый южный вечер с духовым оркестром.
Мои бабушки родились в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Первую, лучшую часть жизни они прожили до революции, и их рассказы были бесценны. Я тогда этого не понимал, запомнил далеко не все. Но что-то все-таки осталось в голове.
– Леконька! Ты только никому не рассказывай, сейчас это нельзя. Ладно?
Я киваю, вижу, как бабушке Шуре тяжело. Но почему-то ей важно рассказать это мне именно сейчас.
– Моего папу, твоего прадедушку убили красные. Представляешь, вывели на балкон всех, кто был дома – твою маму, ей в семнадцатом было всего пять лет, нас, отца – и прицелились. Перед домом было полно народа.
«За что вы их?» – слышалось снизу.
«Он же врач. Помогал всем».
«Ну и что, что генерал?»
«А ребенка за что?»
Толпа гудела и готова была броситься на командира, который должен был скомандовать «пли!». Так длилось несколько мгновений. Между жизнью и смертью. И командир все-таки не решился пойти против толпы. Красные ушли от дома. А на следующий день вечером… – Взгляд бабушки Шуры становится напряженным, почти безумным.
Она не плачет, но и говорить не может, собирает со стола посуду, уносит на кухню. Все молчат. Из кухни бабушка возвращается с четвертинкой, черным хлебом, помидорами и зеленым луком. Взрослые выпивают по рюмочке.
– А вечером я везу на телеге моего мужа.
Она назвала его имя, но я не запомнил. Знаю только, что фамилия его была Малахов. Моя бабушка до конца жизни носила эту самую фамилию.
– Он ранен, в тяжелом состоянии, горячка!.. Навстречу разъезд красных. Увидев в телеге раненого белого офицера, сразу же прицеливаются. Я закрываю его руками. Они стреляют. Одна пуля попадает прямо ему в грудь, другая через мой палец – в голову. Мгновенная смерть.
Я смотрю на бабушкину руку, на искалеченный палец.
– Красные отбирают телегу, увозят тело неизвестно куда. Я иду по улице к дому и вижу твоего прадедушку, нашего папу, лежащим в придорожной канаве. Мертвым. Они все-таки довели свое дело до конца. Но мы с Галей и твоей мамой остались живы. И ты смог появиться на свет. – Она смотрит на меня, стараясь улыбнуться.
– Но у меня были еще дедушки и бабушки!
Это я помнил по маминым рассказам и не мог не попросить:
– Расскажи про них.
– Про них? Если хочешь, расскажу все с начала. Степан Михайлович Филатов, генерал медицинской службы, наш отец, женился на Александре Романовне Зелинской. Нас, братьев и сестер, родилось у них семеро. Это твои двоюродные дедушки Николай, Анатолий и Георгий. И мы, четыре сестры: Анна, самая старшая, Лидия, Валентина и я.
Анатолий был полковником. Когда красные заставляли его сорвать с себя погоны, он ответил: «У меня погоны вросли в тело», выхватил револьвер и выстрелил себе в голову.
Николай погиб в шестнадцатом на Первой мировой. Он был абсолютно близоруким. Непонятно, как вообще попал в армию. После нам прислали с фронта его очки и Евангелие.
Георгий погиб в Питере в семнадцатом. Он тоже был офицером.
Сестры все остались живы. Валентина вышла замуж за красного командира. Он был большим начальником на железной дороге. Ее фамилия стала Софронова.
Лидия со своим богатым мужем уехала в Париж, и больше о ней ничего не известно.
А про свою бабушку и меня ты и так все знаешь.
Дедушка твой Алексей Иванович Рыбников остался сиротой после смерти своего отца, петербургского адвоката, какими-то путями добрался до нашей станицы Нижнечирской. Его приютила семья немцев-аптекарей по фамилии Бушман. Вот. А потом Алексей встретил Анну. И родилась твоя мама. Дедушка твой умер от тифа в тридцать шестом. Он похоронен рядом с Анной Кирилловной Бушман на Ваганьковском кладбище.
…За окном, где-то далеко-далеко, все еще играл духовой оркестр. Да, и вот что очень важно. В воздухе стоял умопомрачительный аромат душистого табака, душистого горошка, резеды и левкоев.
Мне казалось, что я все еще вдыхаю этот удивительный запах, когда меня разбудила медсестра.
– Больной, примите лекарства и поставьте градусник. – Ее острые черные глаза смотрели на меня с каким-то знающим любопытством.
Наверное, всякого нагляделась. Когда смерть подходит близко к человеку, как сейчас ко мне, это видно. Я почувствовал в ее взгляде почти приговор.
– Когда будет доктор?
– Обход в десять, – сказала она и ушла, оставив на столе горсть лекарств.
Я, как всегда, тут же выбросил их в унитаз. Звериный инстинкт подсказывал мне, что нельзя пить эту отраву.
Потом я узнал, что был прав. Если эти лекарства принимать без смягчающих желудочных пилюль, то можно умереть от прободной язвы. Так и случилось с больной на втором этаже несколько дней назад. А пилюли не давали. У больницы, видите ли, не было средств.
Я посмотрел на свои руки. Они были такого же коричневого цвета, как и раньше. В зеркало на себя я уже давно не смотрел. Но на душе было почему-то светло и спокойно. Только мелькнула единственная тревожная мысль: «А что же будет с «Авось»?»
А будь что будет! Изменить что-либо я не мог. Блаженство разливалось по всему телу. Я улыбался первый раз за последние три месяца.
Докторша, пришедшая с утренним обходом, заметила изменение в моем состоянии.
– Как вы себя чувствуете?
– Сегодня значительно лучше. – Я смотрел на нее счастливыми глазами. – Мне, знаете ли, стало намного легче.
В ее ответном взгляде я увидел ужас. Ей, наверное, было все-таки не все равно, если я возьму да и умру сегодня прямо здесь.
– Капельницу!
Она назвала лекарства, которые должны были быть в капельнице, и быстро вышла, почти убежала. Потом пришла с заведующим отделением. Он внимательно осмотрел меня, прощупал печень, посмотрел историю болезни. Они в коридоре о чем-то говорили вполголоса, потом ушли.
Доза прописанных мне препаратов была увеличена вдвое.
В этот же день вечером, часов в семь, в мое окошко постучали. Пришла Злата Хазанова. Рядом с ней был молодой, немного располневший человек с редкими волосами и светло-серыми глазами. Он не смотрел не только на меня, но и вообще ни на что. Его взгляд был направлен куда-то внутрь себя.
Злата была очень серьезна.
– Это Леонид, он может тебе помочь.
– Расскажите, что с вами. – Его голос звучал очень тихо.
Я начал рассказывать про диагнозы, но он меня прервал:
– Не надо об этом. Что в ваших анализах не в норме?
– Билирубин. У меня он шестнадцать единиц.
– А какая норма?
– Единица.
– Через неделю у вас будет единица.
– Как? Каким образом? Что мне нужно для этого делать?
– Ничего. Каждый день с семи до восьми вечера лежите, старайтесь ни о чем не думать и представляйте, что видите меня.
Господи! Да я и так лежал, не вставая, целыми днями.
– И это все?
– Да. – Его взгляд оставался таким же, ничего не выражающим, неподвижным.
Злата улыбнулась мне.
– Все будет хорошо.
Они ушли.
На следующий вечер я все сделал так, как он сказал. Прошла ночь. Наутро никаких изменений. Цвет рук и белков глаз не изменился.
Вечером снова лежу. Мысль о том, что со мной пошутил какой-то шарлатан, не оставляет меня. Хотя в чем его корысть? Денег-то он не просил.
И еще один день без изменений.
Несмотря на это, в третий день тоже лежу и стараюсь представить его лицо, хотя сделать это практически невозможно. Не могу вспомнить ни одной его черты. Просто стараюсь ни о чем не думать.
Проходит еще одна ночь.
А вот на четвертый день смотрю, как всегда, утром на руки и боюсь поверить глазам. Они стали светлее! Хватаю зеркало. Белки уже не зеленые, а чуть желтоватые.
Спокойно!.. Не радоваться!.. Это все равно какая-то мистика. Вот сейчас все возьмет и вернется назад. Надежда окажется иллюзорной.
Но на следующий день назад ничего не вернулось. Кожа стала светлой, почти нормальной. А белки, как им и положено, белыми.
Это заметил, конечно, не только я. У меня сразу же взяли все анализы. Показатели улучшились до почти нормальных. Докторша была уверена, что это произошло из-за ударных доз лекарств, которые, как вы уже знаете, я выбрасывал в унитаз. Но она-то этого не ведала и была абсолютно счастлива.
Еще через два дня, в конце недели, я был практически здоров. Все показатели пришли в норму.
Мало того, выздоровели все. Таня, Митя, Аня. Всех скоро выписали из больницы. Меня продержали подольше. Боялись рецидива, но его не было.
Злата нашла Леонида и спасла нам жизнь.
Но что это был за таинственный недуг, поставивший нас на грань жизни и смерти? Я узнал об этом позже. Открывшаяся правда стала для меня настоящим потрясением.


