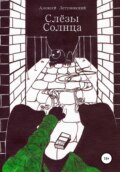Алексей Летуновский
Простой сборник
Ольга
Конец скоропостижной весны решил закрепиться в памяти черными грозами, густым ветреным штормом и рваным ливнем.
Пенная, почти молочная небесная вода небрежно стучалась в застекленный балкон нашей скучной пятиэтажки. В гуще непогоды, гноем скопившейся за толстыми пыльными стеклами редко взвывали беспокойные собаки Новой Сортировки города В.
Мы мерзли от запаха прохудившихся бетонных стен, но продолжали жадно курить и бросаться в друг друга тихими, как полуденный сон, фразами. Я чувствовал себя экранным героем горьковского дна руки Куросавы. Это чувство погружалось в сливовую грозовую завесь дворов и улиц, а в челюсти копалась ощетинившаяся зубная боль.
Оля фыркала от низкой скорости сети, пытаясь рассматривать на своем почти стертом в балконную пыль склянок и плеснеющего угля, планшете разноцветье летних купальников. Иногда она громко постановочно вздыхала и так же, но хрипло, озвучивала высокие цены на летнее белье.
Оля. Ее звали так же, как и мою маму в молодости. Тогда, когда она еще не завела ни семью, ни постоянную работу. По достижению устойчивого соцположения, конечно, о никакой Оле и речи не могло идти. К маминому имени прибавляли то фамилию, то должность, год и место рождения, то отчество, год и место проживания. Прибавляли и уровень дохода, громоздили слова, а затем, как бы упрощая, сокращали все эти антистилевые баррикады в смятую несколькими кризисами возрастов аббревиатуру.
Цепляясь за такие воспоминания, мне было страшно за свою соседку. За настоящую чистую Олю, Олю в черной отцовской рубашке, свисающей до колен, Олю, собравшую длинные сумеречно-серые волосы в хвост. Олю.
Я познакомился с ней, когда был совсем молод (в начале весны), когда бросил ездить по Кавказу, травиться сладким вином и острым как горчица Солнцем. Тогда еще, даже раньше, на рубеже февраля, я гнил в Грозном на вписке у местного молодого фрилансера-сварщика Вагифа, такого же молодого и философически устроенного, как я, как все мы, молодые все.
На этом рубеже, питаясь сладкими смородиновыми папиросами, спасаясь от навязчивых пролежней, я понял, что надо решить свою юношескую дилемму, влажное желание поехать к холодному морю, поселиться в маленьком портовом городке на берегу его, да и жить просто так, как сейчас, но спокойнее, лучше. Вагиф беспрерывно вел беседы о своей любви к автомпрому, а когда уставал и брал перерыв, я вставлял мечтательные повествования о поездке туда, куда хотел с самого раннего подросткового состояния. И, когда в один из перерывов я все-таки сумел рассказать все свое внятно и без запинки, Вагиф, словно натянув тетиву благости, дал мне ссылку на свою старую знакомую, с которой он учился в Москве на медика, которая жила на тот момент в балтийском городе В. Вагиф сказал, что девушку зовут Олей. Сказал, что она похожа на сбитый в знойную ночь неуклюжим воробьем цитрус.
Я связался с этой девушкой и в действительности убедился, что зовут ее Олей, как когда-то звали мою маму, пока она не отдала треть своей жизни медицине. И действительно убедился, что Оля училась в Москве на медика, а теперь живет у холодного пахнущего кислой смолой моря, и не против вписать меня на пару недель.
Однако пробыл я у Оли дольше, чем планировал. А я вообще ничего не планировал. Добравшись в город В. в марте на ржавых попутках, имея в рюкзаке лишь ключи, сменные носки, пустую бутылку из-под яблочного сидра, выпитого когда-то на Урале, и томик Серцедера, я прожил в однушке, доставшейся Оле от скончавшихся от скуки родителей, как минимум до майских штормов, среди которых мы безустанно курили на балконе махорку, среди которых я чувствовал себя больным самураем Токосамой, среди которых Оля возмущалась дорогим купальникам неестественных апельсиновых раскрасов.
И поначалу мы жили вполне мирно. Оля неофициально подрабатывала в местном караоке-центре звукооператором, я старался помогать ей по квартире, точнее сказать, четыре раза переставил розетки в комнате и кухне, пару раз почистил газовую плиту содовым порошком. Только вот к морю за всю весну так и не выбрался ни разу. Город В. хоть и был с виду маленьким, принципиально провинциальным, но был еще и неудачным, злым и неприятельски капризным, что ли. В воздухе улавливались крики чаек, запах их испражнений, смешанных с кислыми водорослями. Потому я ощущал себя у моря, даже если бы его не было на самом деле, не существовало бы, я все равно ощущал себя рядом с ним. К тому же, береговая линия, по словам Оли, была закрыта двухметровым забором, сквозь который слышался треск грузовых портовых кранов, сопенье стальных судов, лакомившихся бетонной крошкой цеховых площадок. Одним вечером, я решил удостовериться в этом и пошел в сторону, где могла, по моим представлениям, дышать гуща темной холодной воды, но быстро потерялся в палитре пятиэтажных построек, налепленных друг на друга, словно трава и деревья в школьных аппликациях. Потерялся и решил отложить поход до лучших, может быть, более теплых времен.
По вечерам мы лежали в Олиной кровати и взахлеб смотрели японские фильмы о бедах старого света. Я, бывало, срывался на середине второго или третьего фильмов и ловил себя на мысли, что стремлюсь к ней приставать и приставал. Она не противилась моим ласкам, послушно проявляла ответную близость. Мне не хотелось ни навязываться к ней, ни привязываться. В конце концов, мы были простыми соседями, связанными друг с другом таким же личностным отчуждением, каким связаны два окурка в одной пепельнице. Когда Оля собиралась на смену, я читал ей отрывки из Серцедера, предлагал их к обсуждению. Мы начинали долго спорить, она приводила в пример ранние работы Шукшина, его потуги к национальной петрофилии. Мы сходились во мнении, что нынешнее тысячелетие спокойно обойдется без новых веяний в литературе. А любое занятие прозой такое же несчастное и пустое, как жизнь кухонного алоэ. В таких рассуждениях она забывала про работу, шла курить на балкон, а потом ложилась спать. Я ложился рядом и наслаждался ее запахом. Запахом тетрадных листов и жженой лаванды.
А в июле Оля уехала в Чечню, повидать старого знакомого Вагифа, с которым училась в Москве на медика, который в то время жил в Грозном. Вагиф похож на расплавленный на грязной от вчерашней жареной картошки сковороде сыр голландский, говорила она.
Оля рассказывала, что родители умерли во время ее столичной учебы, что им было невыносимо без дочери, что они попросту сдались.
Я стал ощущать что-то похожее, во время ее отсутствия меня не тянуло ни к неизведанным фильмам, ни к махорке, ни к путным размышлениям. Перечитывать Серцедера казалось с каждым разом все глупой и пустой затеей, к литературе вообще появилось стойкое отвращение. В одни дни казалось, что я смогу собрать все свои переживания в кулак и написать об Оле рассказ, и даже слова, обычно выделяемые с горькой слюной, выстраивались в складную прозу; в другие дни мне вообще не хотелось ничего писать, наброски выглядели безобразно пресными и, казалось, любой человек, занимающийся мирской жизнью, способен выразить прозу более ярко, или просто так же. В итоге я выбросил все черновики и пообещал себе никогда не садиться за стол, или забираться под подоконник, в надежде что-то написать Я решил, что все слова слепы, что ни одно из слов не сможет рассказать об Оле. Меня трясло от тоски, но я не хотел видеть перед собой пелену зачатка прозы.
Лучше заниматься мирской жизнью, – думал я. Лучше вообще ничем не заниматься, чем пьянеть от слепых слов, – думал я. Пусть Оля останется внутри со мной, не нужно ее опошлять бессмысленными занятиями.
Так к лету я и дошел до забора, скрывавшего береговую линию города В., правда, дошел с четвертого раза. Стена на самом деле существовала, я верил в Олины слова, хотя где-то далеко внутри за диафрагмой некое воспаление хотело знать, что нет стены, что Оля лишь возбуждает меня своими рассказами, что нет стены, что берег есть, и за ним стелется великолепная черная гладь.
Стена была обклеена объявлениями о работе в порту и, чтобы совсем забыться, я стал работать в портовой столовой. Надеялся ли я таким образом увидеть наконец море, хоть прищурившись, хоть сквозь необъяснимую боль увидеть? Отчасти, да. Но столовая представляла собой закрытое прямоугольное помещение с потным от рабочих душком.
Не знаю, сколько проработал в том месте. Не считал и не стану считать сейчас. Стоя на раздаче котлет, супов, выполняя бесконечные накладывающие и выдающие обязанности, многого не насчитаешь. В некоторые дни я заглядывал в глаза голодным рабочим, ожидая увидеть спасительные блики моря, но их глаза лишь ревели страшным и горячим черным зноем. Казалось, рабочие тоже тоскуют по Оле, как тосковал и я. Да что уж там. Казалось, весь город, маленький город В. тоскует по ней, а я – всего-то соучастник глобальной тоски.
В той столовой я познакомился с мясником-Матвеем, блондином невысокого роста с кучей проблем на лице. Он был ярым вегетарианцем, но обожал резать плоть. Я часто слушал его рассказы про зоозащиту, про вред окружающей среде морским транспортом, про геноцид млекопитающих в мегаполисах и лицедейство по отношению к ним в деревнях. Хоть я и не запоминал ни слова из его рассказов, мне нравилось смотреть на его мощные и жилистые, красные и синие руки, а его голос и вовсе творил со мной чудеса. Когда он говорил, нутро моего живота выворачивалось наизнанку раз за разом, его голос был мягким и тяжелым, сиплым и ароматообогащенным. Я понял, что ему не хватало человека, который смог бы его слушать, спокойно и внимательно, как прогноз погоды. Понял я и то, что мясник-Матвей был почитателем лимоновской прозы, как раз тогда, когда он предложил мне стать его любовником. А я и не отказался. Рабочие дни гудели в висках скукой, Олина однушка навевала абстинентное отчаяние. Это были мои первые отношения с мужчиной и я не почувствовал особой разницы. Мясник-Матвей был чуток и заботлив. Большего и не было нужно. К тому же, он отлично помогал отвлекаться от навязчивых мыслей об Оле.
Об Оле, штопающей серо-голубой свитер к завтрашней смене, об Оле и ее тонкой, почти цветочной шее, пахнущей росой и табаком. Об Оле.
Я расспрашивал Матвея-мясника о море, а он говорил лишь о том, как легко прокручивается рыбий фарш через мясорубку, как гладко звучит красная морская плоть в латунной машине. Я жил в его каморке в двух минутах ходьбы от порта и почти перестал горевать. Лишь редкие собаки в пучине города ныли об уехавшей в Чечню, о моей соседке, об…
Оля вернулась в ноябре. Уже успел сойти первый снег, улицы плескались в слякотной куче. Портовые рабочие с труднопроизносимыми аббревиатурами на бейджах сменили курточки на ватники. Температура разогрева раздачи выросла на пару градусов. На зарплату я сумел сходить к врачу. Вырвал больной зуб.
Все шло неким таинственным и туманным, но своим чередом. До тех пор, пока я не решил прогуляться по местам жительства полугодичной давности.
Помню, в юношестве, мне часто вспоминалась песня из советской «Мэри Поппинс». Эта песня использовала неопрятные ритмы будто щебеня, в ней повторялись простые эмоционально окрашенные в щемящий негатив слова. «Полгода плохая погода. Полгода совсем в никуда». И каждый раз, когда эта песня вспоминалась, я думал, что, правда, прожитые полгода ушли в скисшее почти творожное молоко. В крайний раз эта песня пришла в голову в знакомом магазине знакомого района. Я взял две бутылки бальзама для настроения и согрева, настроился и согрелся, и стал думать, что подарить своему мужчине такого приятного, такого случайного и сладкого что.
Проходя мимо чересчур родной пятиэтажки по чересчур родному району Новой Сортировки, я вдруг увидел зажженный свет в чересчур родном окне. В рюкзаке нашлись и стертые от пыли и дождя ключи. Должен уточнить, все ключи от всех съемных и несъемных квартир я старался складывать в отдельную связку, иногда это получалось, потому ключ и от Олиной однушки также был в той связке. Длинный и тяжелый с таблеткой янтарной кислоты на конце, от железной двери густого черного цвета.
Я вошел в квартиру и черствый душок лавандового крема разбил мне лоб и заставил прослезиться. Прикрыв лоб подвернувшейся салфеткой, я прошел в комнату. На знакомой кровати лежала девушка в коротких джинсовых шортах, из которых сонно подмигивали две круглые загорелые ягодицы. Девушка была вусмерть пьяна. Комната была пропитана сумеречным смогом. Пахло окислившейся гарью. Я лег рядом с ней. Несомненно, это была Оля. Я погладил некогда любимые изгибы тела, притаенные шершавые места и уголочки. Поцеловал ее мочку уха. Оля совсем не откликалась на мое присутствие, и мне стало не по себе, я ощутил себя лишним в этой квартире, подобно вскользь залетевшему в форточку жуку, даже более недружелюбно.
На кухне был найден сгоревший тыквенный пирог. Я допил бальзам и съел пару кусочков. В животе что-то поворчало, но быстро успокоилось, обманутое.
Поприветствовали мы друг друга утром, когда пошли за опохмелом. Мы держались за руку. Она почти не говорила, да и мне совсем не хотелось расспрашивать ее о поездке. Купленное лимонное распили на балконе. Было горько. К горлу подкрадывалась обезжиренное недовольство собой. Неужели я все это выдумал?
Все переживания, громкие слова и образы, контролирующие в моей голове прибыльное место, слезы и тоску, тоску и слезы. Неужели Оля всегда была такой? Да и была ли она?
Я помнил, как мама, перед тем, как выйти замуж за сельского тракториста, говорила о том, что я должен найти свой путь. Путь, далекий от имен-конструкций, далекий от заборов, излепленных в грязной бумаге. Путь. И я искал, заглядывал за горизонт, чувствуя в ответ от горизонта соленый морской воздух. И затем стало казаться, что мой путь, он в Оле. И совсем не хотелось думать о том, что я все выдумал, что в этом была вся моя проза. Но так было.
Опохмелившись, Оля спросила меня о тыквенном пироге, приготовленном на ужин. Я соврал, что не видел его, но потом признался, что съел. Оля поругалась, мало и скучно, а затем и вовсе перестала что-либо говорить. В следующие месяцы мы почти не видели друг друга. Оля устроилась работать в караоке-центр на полную ставку под звуковой аппаратурой, и стала Олей-звукарем. Я расстался с Матвеем-мясником. Он плакал, а я впитывал его слезы, а потом постирал рубашку. Позвонила старая знакомая с института, попросила помочь написать сценарий к сериалу для регионального тв. Я не стал раздумывать и с радостью утонул в работе.