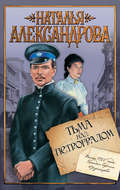Наталья Александрова
Черное Рождество
Глава четвертая
В декабре девятнадцатого года Вооруженные силы Юга России отступали под натиском Красной армии двумя огромными колоннами. Восточная группа во главе со Ставкой Деникина в составе Добровольческой армии, донских, кубанских и терских казаков отступала на Кавказ. В декабре генерал Май-Маевский был отстранен от должности командующего Добровольческой армией и ненадолго заменен Врангелем,[6] а затем Кутеповым. Западная группа белых войск включала отряды главноначальствующих Новороссийской области генерала Шиллинга и Киевской области генерала Драгомирова.[7] Западная группа отступала в Новороссию, прикрывая Николаев и Одессу.
Командование рассчитывало остановить натиск красных на Дону восточной группой и на Буге – западной, с тем чтобы оттуда перейти в наступление.
Находящийся посредине этих двух оперативных направлений Крым был, таким образом, приговорен к сдаче и не рассматривался как стратегически важная территория, поэтому для его защиты был выделен один только третий армейский корпус генерала Слащева. Численности Красной и Белой армий были к этому времени примерно равны – около пятидесяти тысяч каждая, но Белая армия была измотана боями и утратила энергию наступления.
Корпус Слащева состоял всего из двух тысяч двухсот штыков и тысячи трехсот шашек при тридцати двух орудиях.
Несмотря на то что почти все силы белых группировались на флангах, массы отдельных людей, дезертиров, штатских беженцев, интендантств, хозяйственных частей потекли в Крым. Вся эта толпа беглецов буквально запрудила полуостров, грабя местное население. В частях Добровольческой армии по три – пять месяцев не получали содержание, и голодные солдаты сбивались в шайки, чтобы изыскать себе средства существования. Каждый стремился побольше награбить и сесть на какой-нибудь пароход. Начальники гарнизонов способны были только на панические телеграммы, где им было справиться с наступившей разрухой и царящей в Крыму анархией. Вся эта масса неорганизованных людей нисколько не усилила корпус Слащева, а, наоборот, только осложнила его положение дезорганизацией тыла. Единственное полезное, что пришло в Крым с этой убегающей массой, были шесть испорченных бронепоездов и девять английских танков.
Пятого января 1920 года в Севастополь прибыл генерал Слащев. Немедленно по прибытии он собрал у коменданта Севастопольской крепости всех начальствующих лиц. Среди явившихся были начальник обороны Крыма инженерный генерал Субботин, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ненюков, начальник гарнизона Симферополя генерал Лебедевич-Драевский, наштафлота[8] капитан первого ранга Бубнов, начальник дорог инженер Соловьев и другие.
Тридцатипятилетний генерал, с бледным лицом и горящими глазами кокаиниста, Слащев не оставил камня на камне от подготовленного Субботиным плана обороны полуострова.
– Я осмотрел перешейки. На Перекопском валу и Сальковском перешейке вырыто несколько окопов и натянута проволока – и это все. Такие укрепления не удержишь под перекрестным артиллерийским огнем. И где, позвольте вас спросить, будут жить на перешейке войска? Ведь, кажется, время сейчас зимнее? Или вы не заметили?
– Придется в окопах, – обиженно ответил генерал Субботин.
– Ну далеко вы на своих укреплениях уедете! – желчно воскликнул Слащев. – Вероятно, дальше Черного моря…
Он обвел присутствующих взглядом. Под его горящими бледным огнем глазами крымские начальники поежились, как на ледяном ветру.
– Я поклялся удержать Крым, – сказал Слащев полным сдержанной ярости голосом, – и я его удержу. Это для меня дело чести. Фронт – моя забота, но для непоколебимого фронта мне нужен надежный тыл. Во-первых, для снабжения войск необходима железная дорога на Перекоп. Она должна быть выстроена за один месяц. Этого требуют нужды фронта, а тот, кто не понимает нужд фронта, возьмет винтовку и пойдет изучать их в окопах рядовым.
При этих словах и обыкновенно резкий голос Слащева достиг звучания скрежещущего на морозе металла.
– Второе, что мне нужно, – покончить с анархией и разрухой в тылу, покончить с шайками грабителей, наводнивших Крым, покончить с царящей в тылу вакханалией, со спекуляцией, охватившей все слои общества. Колебаний быть не может. Я должен обеспечить порядок в тылу любой ценой, не останавливаясь ни перед чем. – Слащев сделал паузу и полез было за чем-то в нагрудный карман френча, но одумался и продолжил: – Необходимо: во-первых, расчистить тыл от банд, и прежде всего от негодных начальников гарнизонов, в особенности потому что «рыба с головы воняет». Во-вторых, удовлетворить насущные нужды рабочих и крестьян, чтобы лишить их причин для бунтов. В-третьих, раздавить в зародыше все выступления против защиты Крыма. Средства для этого – удаление негодных начальников гарнизонов, от увольнения до смертной казни, создание отрядов для ловли дезертиров, уменьшение реквизиций и повинностей у крестьян.
В борьбе не может быть полумер! Если бороться, то бороться до конца, до предела – или бросить борьбу: мягкотелость, соглашательство, ни рыба – ни мясо, ни белый – ни красный – это слабоволие и общественная слякоть.
Слащев закончил выступление и снова обвел взглядом участников совещания. Зрачки его сузились в булавочную головку, и оттого взгляд стал особенно страшен. Присутствующие угрюмо молчали. Пауза затягивалась. Наконец поднялся со своего места адмирал Ненюков, комфлота, подчиненный одному только Деникину, и решительно произнес:
– Я, безусловно, верю вам, господин генерал. Отдаю флот в ваши руки. Все, что вы мне прикажете, исполню.
Энергия и беспощадность Слащева сделали свое дело. Уже через месяц заработала железнодорожная ветка, обеспечивающая снабжение перекопских позиций. Инженера Соловьева, который заявил, что сделать эту работу в такой короткий срок невозможно, Слащев отстранил и назначил на его место энергичного и знающего путейского инженера Измайловского. Сняли запасные пути Евпаторийской ветки, и к февралю дорога пропустила первые составы. Поезда шли очень медленно, но это избавило Слащева от необходимости обременять крестьян подводной повинностью, вызывая их недовольство.
Суровые меры помогли навести относительный порядок в тылу, во всяком случае, никаких открытых беспорядков и саботажа не было.
Саму оборону крымских перешейков Слащев организовал следующим образом: в окопах он оставил маленькое охранение, часто сменявшееся, а основные силы корпуса разместил в теплых домах в деревнях неподалеку от перешейков. При подходе красных охранение должно было, не принимая бой, быстро отступить, дав тем самым сигнал основным частям.
Красные почти сутки должны были дебушировать[9] по перешейкам под мощным артиллерийским огнем и, замерзшие и усталые, попасть под контратаку свежих слащевских частей.
К 21 января красные закончили блокирование перешейков. Назревал первый бой. В случае победы красных он означал окончательный захват ими Крыма, в случае победы белых – имел бы для них колоссальное моральное значение.
Никто в ставке не верил, что Слащев удержит Крым своими ничтожными силами, никто в тылу не верил в это – все сидели на чемоданах и искали любой возможности попасть на пароход. Да и в настроении войск произошла перемена. За время службы под командой Слащева эти части ни разу не потерпели поражения и шли за своим командиром куда угодно, но сейчас под влиянием общего развала Белой армии, под влиянием дезертиров и беглецов из армии Врангеля солдаты усомнились в успехе и возможности удержать Крым. Частая смена генералов лишила войска веры в командование, внушила опасения, что их бросят на милость победителя, а какова эта милость, все уже хорошо знали.
Стремясь поддержать моральный дух своих солдат, Слащев издал приказ, в котором заявил: «Вступил в командование войсками, занимающими Крым. Объявляю всем, что, пока я командую войском, из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести».
Слащев жаждал боя. Только его удачный исход мог дать ему полную власть над положением, власть над войсками, возможность бороться с разлагающимся тылом и возникшими в тылу красно-зелеными и прочими бандами.
Победа должна была оздоровить общественное настроение всего военного и гражданского Крыма.
Наконец на рассвете 23 января красные начали наступление на Перекоп. Выставленное на перешейке охранение – Славянский полк численностью всего сто штыков, как и предполагалось, бежал. Красные заняли вал и тянулись в перешеек. Двигаясь за Славянским полком на юг, они заняли Армянск и направились к Юшуню.
Слащев уверился в победе: красные играли по его сценарию.
Стемнело. Красным пришлось ночевать в открытом поле при двадцатиградусном морозе.
* * *
– У аппарата Деникин.
– У аппарата Слащев.
– Яков Александрович, по сведениям от англичан, Перекоп взят красными. Что вы думаете делать дальше в связи с поставленной вам задачей?
– Антон Иванович, красными взят не только Перекоп, но и Армянск. Защиту Крыма я считаю делом своей чести. Завтра враг будет наказан.
В тылу началась паника. В портовых городах пытающиеся уехать люди штурмовали пароходы. О сдаче Перекопа и Армянска было сообщено в газетах. Губернатор Татищев засыпал штаб телеграфными запросами о состоянии дел.
На рассвете 24 января красные вышли с перекопского перешейка и тут же попали под фланговый огонь с Юшуньской позиции. 34-я дивизия Слащева перешла в контратаку, в то же время оставленный красными в тылу Виленский полк ударил по ним с севера, следом пошла в атаку Донская конная бригада Морозова – тысяча шашек мощной лавой разлилась по перешейку, двигаясь к югу.
В полдень Слащев продиктовал донесение Деникину: «Наступление красных ликвидировано, отход противника превратился в беспорядочное бегство, захваченные орудия поступили на вооружение артиллерии корпуса».
Охранение белых заняло прежнее положение. Остальные части разошлись по квартирам. Развитие наступления было запрещено ставкой.
Этот бой, небольшой по продолжительности, по занятому им пространству и по численности участвовавших в нем войск, сыграл огромную роль в Гражданской войне: он продлил ее еще на целый год, доказав правильность избранной Слащевым тактики, вернув войскам уверенность в своих силах и веру в своего командира, послужив основой удержания белыми Крыма и создав плацдарм для эвакуации остатков Добровольческой армии из Новороссийска и для создания из разбитых, разрозненных деникинских частей Русской армии генерала Врангеля.
Вечером 24 января Слащев в своем салон-вагоне диктовал приказы на следующий день. В самый разгар работы явился адъютант генерала сотник Фрост, очень исполнительный, но недалекий офицер, и доложил, что губернатор Татищев настоятельно просит сообщить о положении на фронте. Озабоченный ситуацией губернатор звонил в течение дня каждые пять минут. Разумеется, штаб корпуса давно уже сообщил ему о победе, но Татищев хотел получить известие лично от командующего. Слащев, и всегда крайне желчный и раздражительный, взорвался: он занят делом, в его руках оборона Крыма, а ему досаждают по пустякам штатские паникеры – и резко ответил адъютанту:
– Что ж, ты сам сказать ему не мог? Так передай, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов!
Фрост, по всегдашней своей исполнительности, передал все слово в слово. Телеграфная лента же по случайности попалась в руки репортерам, и началось! На Слащева посыпались жалобы и выговоры, дошло даже до Деникина, но фраза эта сделалась в Крыму ходячей.
В Керчи французы высадили всех своих временных пассажиров, кроме полковника Горецкого. Видно было, что союзникам не терпелось избавиться от этих «russe terribles». Капитан Жиро с презрительным выражением на холеном лице наблюдал за их высадкой и распорядился немедленно произвести на корабле генеральную уборку. Впрочем, вытерев с палубы следы грязных сапог, французские матросы не смогли убрать с миноносца неуловимое ощущение тоски, подавленности, отчаяния, оставленное на «Сюркуфе» солдатами разбитой и преданной деникинской армии.
Керчь кипела и бурлила. Улицы и набережные были полны озлобленными изверившимися добровольцами. Казаков попадалось мало – значительная часть донцов, не подчинившись приказу Деникина, ушла не в Новороссийск, а в Грузию, где правительство меньшевиков многих из них вскоре выдало красным, а некоторые кубанцы разбежались по своим домам.
Госпиталя и лазареты ломились от раненых, легких уже давно не брали, и они слонялись по городу в толпе однополчан. Вся эта голодная, почти неуправляемая масса, оборванная, почти безоружная, мало напоминала победоносную Добровольческую армию минувшей осени, едва не дошедшую до Москвы в героическом сентябрьском наступлении.
Проталкиваясь сквозь толпу на одной из приморских улиц, Борис увидел знакомое лицо.
– Осоргин! – окликнул он высокого бледного офицера в простреленной кавалерийской шинели.
– А, господин поручик! – Осоргин улыбнулся обычной своей кривой улыбкой, напоминающей волчий оскал. – Не рассчитывал здесь вас встретить! Думал, вы с вашим таинственным покровителем давно уже в Константинополе, а то и в Париже!
– Зря вы так, поручик! Я такой же солдат, как вы, и прошел всю эту кошмарную дорогу от Ценска до Новороссийска. Да и полковник, которого вы помянули, тоже здесь, в Крыму. Я только сейчас приплыл на «Сюркуфе»…
– А, так вас союзнички с комфортом доставили! А нас везли на «Святополке», как овец, друг к другу вплотную, не повернуться, не переступить. Человек сознание теряет, а упасть некуда – так и стоит со всех сторон сжатый… Может, и мертвые стоя плыли… Хорошо хоть перед посадкой не ели, не пили, а то ведь по нужде не выйдешь, почти двое суток терпеть пришлось!
– Мне кажется, об этой эвакуации наши отцы-командиры вовсе не подумали, – вставил Борис, вполне разделявший в данном случае знаменитую осоргинскую злобу. – Транспорты в Новороссийске не были готовы, а что и были – так стояли и ждали неизвестно чего…
– И вообще удивляюсь, как мы доплыли! – продолжал Осоргин. – На полпути попали под шальной огонь красного орудия, люди на палубе шарахнулись, и наша посудина чуть не перевернулась. Хорошо, капитан, решительный человек, так рявкнул на людей, что сразу панику прекратил. А снаряды красных все равно не долетали, чересчур далеко было.
– Значит, флотские командиры не виноваты в провале эвакуации. Все зло в высшем командовании, в генералах. Они в ответе за всех погибших, за всех оставленных на убой.
Осоргин посмотрел на Бориса заинтересованно, новыми глазами и, подойдя к нему ближе, вполголоса сказал:
– Я вижу, вы стали мыслить так же как я. Честно говоря, прежде я вам не доверял… Но впрочем… – И словно бросаясь в ледяную воду, он заговорил: – Есть человек, капитан Орлов. Он объединяет вокруг себя офицеров, которые больше не в состоянии терпеть генеральский произвол, бездарность, эгоизм. Он хочет создать новую армию, освобожденную от высокопоставленных предателей, которые думают только о себе, о своей шкуре, о своих богатствах, предавая подчиненных. Сейчас он в Симферополе, создал там отряд, контролирует положение в городе. Я собираюсь к нему. Едем со мной!
В это время к разговаривающим подошел Алымов. Борис повторил для него слова Осоргина, они переглянулись, и Петр сказал:
– Ну что ж, поглядим, что за птица этот Орлов.
В Симферополе царили относительный порядок и болезненное лихорадочное возбуждение. Молодые офицеры на каждом углу ругали Деникина и говорили о том, как славно будет воевать без предателей-генералов. Только два имени произносились с уважением: капитана Орлова, признанного лидера младшего офицерства, и генерала Слащева – победителя в перекопском бою, защитника Крыма, которого все признавали человеком чести и бессребреником. Капитан Орлов заявлял своим сторонникам, что Слащев – его единомышленник и что он, Орлов, действует с одобрения Слащева.
Прибыв в Симферополь, Борис и его спутники узнали, что Орлов совместно с членом императорской семьи князем Романовским, герцогом Лейхтенбергским, взяли власть в городе в свои руки и арестовали военного коменданта, губернатора и находившихся в Симферополе генералов. Арест был произведен именем Слащева.
В тот же день из Джанкоя пришла телеграмма:
«НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ АРЕСТОВАННЫХ. ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ПРИКАЗА ВЗЫЩУ ЛИЧНО. ОТРЯДУ ОРЛОВА ПОСТРОИТЬСЯ ВОЗЛЕ ВОКЗАЛА ДЛЯ СМОТРА. ВЫЕЗЖАЮ В СИМФЕРОПОЛЬ.
СЛАЩЕВ».
* * *
Грязно-зеленый броневагон медленно вылез из-за беспорядочного скопления товарных составов. Ряды орловцев заволновались.
– Не посмеют по своим стрелять! – выкрикнул кто-то в глубине строя.
Показался весь бронепоезд – короткий, без орудийных платформ. Тяжело лязгнув, он остановился, распахнулась блиндированная дверь, на перрон выпрыгнул солдат, откинул лестницу, и по ней быстрым шагом спустился высокий бледный человек с выпуклым лбом, ярко-красными губами и пылающим взглядом, в длинной шинели с золотыми генеральскими погонами. Широким тяжелым шагом, обметая ноги полами шинели, он устремился к взволнованным рядам добровольцев. Следом за ним едва поспевал молодой ординарец с нежным и одновременно жестоким лицом. Деревянная коробка «маузера» болталась на боку ординарца и била его при каждом шаге. Борис почему-то не мог отвести взгляда от этой коробки.
Генерал, стремительно прошагав на середину перрона, оказался против самого центра орловского отряда и яростным, обжигающим горло голосом заговорил:
– Солдаты! Сейчас, когда на крымских перешейках решается судьба России, когда третий корпус бьется там с огромной силой красных, когда дорог каждый штык, каждая шашка, каждый патрон, – сейчас вы находите возможным поднимать мятеж, отрывая меня с фронта, где я необходим, отрывая с того же фронта силы…
Внезапно генерал увидел в строю перед собой знакомое лицо. Выхватив узнанного человека взглядом, как железной рукой, он скомандовал:
– Прапорщик Унгерн! Выйти из строя!
Рыжий коренастый прапорщик, сильно хромая, но стараясь печатать шаг, вышел и остановился перед генералом.
– Прапорщик! Вы были со мной в Кубанском походе, были со мной в первом крымском десанте. Вы когда-нибудь видели, чтобы Слащев прятался от пуль?
– Никак нет! – чистым и радостным голосом выкрикнул Унгерн.
– Вы когда-нибудь видели, чтобы Слащев бросал своих солдат? Видели, чтобы Слащев отделял себя от армии, занимался интригами и мародерством, когда его солдаты проливали кровь?
– Никак нет! – ответил прапорщик еще громче и еще певучее, чем прежде.
– Так почему же сегодня вы с теми, кто не исполняет моих приказов?
Борис почувствовал, что у него на глазах творится черная магия. Слова Слащева не имели почти никакого смысла, но их интонация, горячий голос, которым они произносились, и само лицо молодого генерала так действовали на солдат и офицеров, что им невозможно было не верить. Ордынцев понял, что сейчас сам он готов делать все, что прикажет ему Слащев. То же самое выразил прапорщик Унгерн:
– Я всегда буду с вами, господин генерал! Нас возмутило предательское поведение старших начальников, ужас отступления и эвакуации…
– Вы солдаты, а не гимназистки! – прогремел Слащев, обращаясь уже ко всему орловскому отряду. – Солдат не может копить обиды! Он защищает Родину, исполняет долг и подчиняется командиру! Крым – последняя пядь русской земли, которую мы защищаем! Если вы верите мне, если вы верны присяге, идите на фронт, на Перекоп! Орлова передайте мне, я отдам его под суд, а сами – на фронт!
В рядах орловцев произошло замешательство, и раздался чей-то растерянный голос:
– Господин генерал, Орлов сбежал!
– Вы видите, какого человека хотели поставить над собой? – Слащев говорил, обращаясь к каждому в отряде. Голос его стал мягче и доверительнее, и от этого еще увеличился его магнетизм. – Орлов – неудачник, не подвинувшийся за время войны выше капитана, но с самомнением и самолюбием наполеоновским. Я понимаю ваши чувства. Вас предавали многократно, но вы солдаты, и вы должны быть выше этого. Еще раз повторяю: никому из вас не будет предъявлено каких-то обвинений, вы были обмануты Орловым и его присными. Вернитесь в строй, исполняйте долг, защищайте Россию!
Красивый ординарец за спиной Орлова первым молодо и звонко закричал: «Ура!» – и весь отряд подхватил за ним.
Слащев оглядел строй, подозвал к себе старших офицеров, отдал распоряжение и вернулся в вагон. Его ждали на фронте.
Глава пятая
В Севастополе, на Корабельной стороне, на улице Николаевской в маленьком беленом домике с тремя окнами, выходящими на улицу, собиралось совещание подпольного комитета. Хозяин дома, одноногий сапожник Парфенюк, являлся одновременно участником подполья, считался надежным человеком и пользовался безграничным доверием товарищей. На нынешней явочной квартире собирались впервые. Раньше заседания проходили на Екатерининской в доме у вдовы околоточного Авдотьи Саламатиной. Домишко ее стоял в глубине сада, к тому же одна калитка выходила на Екатерининскую, а другая – в небольшой безымянный переулок, откуда без труда можно было проскочить на совершенно другую улицу, Варваринскую. И хотя сама вдова в силу своего положения бывшей жены околоточного доверия у комитета не вызывала, дом ее располагался очень удобно, так что подпольщики пользовались бы этим местом для встреч и дальше, если бы не случилось досадной неприятности, а именно: в доме напротив по той же Екатерининской улице открылся бордель. Теперь поздним утром скучающие девицы в неглиже выглядывали из окон и задевали прохожих, а также пялились на окна напротив, и, разумеется, от их нахальных глаз не ускользнул бы тот факт, что в домике вдовы собираются раза два в неделю посетители, преимущественно нестарые мужчины. Девицы могли бы заподозрить конкуренцию. А вечером на Екатерининской творился и вовсе форменный кошмар: подъезжали экипажи, слышались крики пьяных офицеров, визг девиц и хлопки шампанского. Словом, тихая Екатерининская улица совершенно перестала подходить для опасного дела, и пришлось срочно менять квартиру, чему вдова Саламатина безмерно огорчилась. Решили перебраться к Парфенюку, который в целях конспирации отправил жену в деревню.
Верхушка членов большевистского подполья состояла из девяти человек. Необходимо было иметь нечетное число членов, так как решения принимались голосованием.
Собирались поодиночке, петляя и оглядываясь по сторонам, чтобы не привести «хвоста». В качестве пароля сапожник выставил в одном из окон горшок жениной пышно цветущей герани. Если герань спокойно розовела на мягком мартовском солнышке – значит, все в порядке и можно заходить.
Пятеро членов комитета были в сборе, дожидались четверых, в том числе председателя товарища Макара. Хозяин на кухне разжигал самовар, хозяйственный Семен Крюков – рабочий из портовых доков, который занимался в основном агитацией, – вынимал из буфета чашки и колол сахар на мелкие кусочки. Двое, что заведовали подпольной типографией – Гольдблат и Якобсон, – держались в сторонке. Гольдблат рассматривал фотографии на стенке в одной общей рамке, а Гришка Якобсон – молодой кудрявый парень в черной сатиновой косоворотке, – скорчившись на стуле, читал книжку. Последний присутствующий в комнате – бывший унтер-офицер Иван Салов, он считался руководителем разведывательной работы среди военных – скучал у окна, изредка посматривая на улицу сквозь щелочку в занавеске.
– Что-то скучно мне! – Салов встал и потянулся с хрустом. – Ты бы, хозяин, водочки, что ли, на стол поставил, а то с ума сойти можно, дожидаючись.
Сапожник буркнул из кухни что-то неодобрительное и неразборчивое. Остальные никак не отреагировали на слова Салова, только Гриша Якобсон оторвался от книжки и подумал про себя, что таким, как Салов, сумасшествие не грозит, им сходить не с чего. Но вслух ничего не сказал.
Раздались легкие шаги, кто-то потоптался в сенях, и в комнату вошла, разматывая платок, Антонина Шульгина – товарищ Тоня, как звали ее в подполье. Она держала связь с другими организациями, с Ялтой и Симферополем.
– Здравствуйте всем! – весело проговорила она, блестя голубыми глазами.
Салов оживился, взгляд его подернулся масленой поволокой, он подскочил было к девушке, намереваясь помочь ей снять пальто, но глаза ее при виде Салова мигом потемнели не то от гнева, не то от какого-то нехорошего воспоминания, она твердо отвела его руку и отошла к столу, бросив мимолетный взгляд в осколок зеркальца на комоде, который, как и пышно цветущая герань, говорил о том, что в маленьком домике на Николаевской улице в недалеком прошлом жила женщина, и следы ее пребывания еще не успели исчезнуть. В зеркальце отразились два синих Тониных глаза, чуть вздернутый нос и пухлые розовые губы на чистом лице. Чтобы мужчины не подумали, что она легкомысленная кокетка, Тоня поскорее нахмурила брови и отошла от комода.
Хлопнула дверь так, что домик содрогнулся, и, едва протиснувшись под низкую притолоку, вошел мужчина, обветренное красно-бурое лицо которого и старый бушлат говорили о том, что человек этот имеет отношение к морю.
– Кого ждем? – гаркнул он.
– Товарища Макара и этого, нового… – Салов поморщился, – как его… которого прислали…
– Борщевский, – назвала Тоня, – Антон Борщевский.
– Что за птица? – пробасил матрос.
– Прислали неделю назад из Симферополя для подпольной работы, – объяснила Тоня. – Ты, товарищ Кипяченко, на прошлом заседании не был, вот и не видел его. Мандат у него от Крымского подпольного комитета, от самого товарища Мокроусова.
– Фу-ты ну-ты! – фыркнул матрос, но заметил, как неодобрительно посмотрел на него пожилой Семен Крюков, рабочий из доков, и замолчал.
Оставшиеся двое подошли одновременно. Пока товарищ Макар неторопливо снимал в сенях свой белый полушубок, Антон Борщевский, достаточно молодой человек, смуглый, с черными длинными волосами, вбежал в комнату и не здороваясь напустился на хозяина:
– Вы что – с ума сошли?
– А что? – оторопел тот.
– Что вы сделали с окнами?
– Выставил опознавательный знак в виде цветка, как вы говорили на прошлом заседании.
– А занавески, зачем вы задернули занавески?
– Как зачем? Чтобы не было видно, чем мы занимаемся!
Борщевский сел на стул и сложил руки на груди.
– А вы, простите, по профессии – сапожник?
– Так точно, – отвечал Парфенюк, хоть ему и очень не нравился издевательский тон Борщевского.
– Так, стало быть, об эту пору, то есть днем, вы должны работать, то есть сапоги тачать?
– Оно конечно, – не мог не согласиться Парфенюк.
– А как, простите, вы можете работать, если все окна наглухо завешены?
– Ну, мил человек, – лениво протянул Салов, – что ты к нему пристал? Ну, может, он сегодня не работает, может, он в запое…
– А что тогда делаем здесь мы – вся компания? – рассердился Борщевский. – Стало быть, вот как это выглядит со стороны: в домик сапожника поодиночке собираются люди и что-то делают там при задернутых средь бела дня занавесках. Да тут не то что филер из контрразведки, тут самая глупая соседская баба сообразит, что дело нечисто!
В это время в комнате появился руководитель севастопольского подполья товарищ Макар. Росту он был невысокого, но плечи достаточно широкие, и это вкупе с неторопливыми движениями и негромким разговором производило впечатление какой-то скрытой силы. Чувствовалось, что человек этот твердо знает, чего хочет, но вот чего он на самом деле хотел, знал только он один, и никого в свои тайные мысли товарищ Макар посвящать не собирался. Он спокойно разглядывал горячившегося и разговаривавшего на повышенных тонах Борщевского, и в маленьких, близко посаженных глазках его стояло непонятное выражение.
– Товарищи! – воскликнул Борщевский. – По-моему, вы недооцениваете всю важность подпольной работы. Осторожнее надо быть и аккуратнее, соблюдать конспирацию. Не нужно недооценивать контрразведку, там работают отнюдь не дураки!
– Ты к чему это клонишь? – вдруг зарокотал матрос. – В контрразведке, говоришь, не дураки, а мы, значит, дураки?
– А вы, собственно, кто, товарищ? – оглянулся Борщевский. – По-моему, мы раньше не встречались…
– Не встречались, – протянул матрос, разглядывая его в упор. – А жаль. И я, значит, буду Федор Кипяченко.
– Товарищ Кипяченко у нас руководит всей подрывной работой, – вставила Тоня, и от ее свежего звонкого голоса разошлись облака тревоги и неприязни, что начинали сгущаться в комнате. Борщевский протянул матросу руку, и тот пожал ее, чуть помедлив.
– Правильно говорит товарищ Борщевский, – донеслось с порога неторопливое, – аккуратнее нужно к работе относиться. Враг, товарищи, не дремлет. А сейчас раз все в сборе, то закрой, товарищ Парфенюк, двери и занавески отдерни. Пусть все знают, что нам скрывать нечего.
Когда все расселись и отхлебнули чаю, председатель комитета обвел присутствующих внимательным взглядом маленьких, близко посаженных глаз и начал негромко:
– Положение, товарищи, в городе очень тревожное. Работа комитета проводится успешно. Наши воззвания к войскам и населению печатаются часто и расклеиваются аккуратно на видных местах. Рабочие, товарищи, должны знать правду о положении на фронте, о наступлении красных. Вот, товарищ Гольдблат, – он достал из кармана и протянул руководителю типографии свернутый лист бумаги, – это последняя оперативная сводка белых о положении на фронтах. В ней сообщается, товарищи, о том, что на сторону красных переходят целые дивизии Колчака, о взятии его в плен. Как всегда, товарищ Гольдблат, сделай, пожалуйста, специальное добавление к сводке от нашего подпольного комитета, где разъясняется вся бесцельность дальнейшей борьбы с красными.
– Сделаю, – кивнул Гольдблат.
– Дальше, Семен Ильич, как у тебя в доках, какие настроения у рабочих?
– По-разному, – хрипло ответил Крюков, – но работаем, агитируем, на морском заводе есть толковые люди… Но надо бы оратора какого поголосистее, а то в прошлый раз прислали какого-то жидковатого.
– Вот Антонину возьми, у нее голос звонкий, – предложил Салов.
– Нет уж, – отмахнулся Крюков, – ты, дочка, не обижайся, но в порту тебе делать нечего, там народ уж больно охальный… Вот в рабочем клубе, что на Базарной, тебе можно, там люди посолиднее, будут слушать…
– Давайте, я пойду! – предложил Борщевский. – А то, я вижу, хромает у вас агитационная работа.
– Это можно, – согласился Крюков, оглянувшись на председателя.
– Теперь, товарищи, о главном, – продолжил Макар, – о подготовке к вооруженному восстанию. Обстановка сейчас для этого сложилась самая подходящая. Белые озабочены обстановкой на фронте, гарнизон в городе немногочисленный и состоит в большинстве из мобилизованных и пленных красных, среди них есть у нас проверенные товарищи и много сочувствующих. Салов, как у тебя дела? Формируешь проверенную группу, которая будет потом ядром гарнизона?