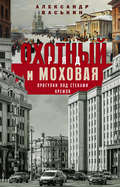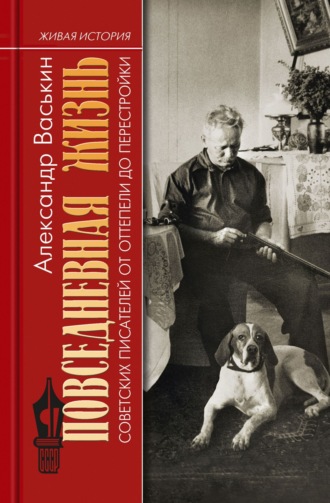
Александр Васькин
Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки
Первый том открывается лестным отзывом Самуила Яковлевича Маршака: «От души благодарю всех работников Дома творчества Литфонда во главе с Михаилом Львовичем за их чуткую и неустанную заботу. Если бы в Доме Литфонда было больше чернил, я написал бы больше». И стоит дата: 15 июля 1948 года. Неутомимый детский поэт побывал здесь и в следующем, 1949 году: «До нынешнего лета мне казалось неверным и претенциозным название: “Дом Творчества”. Но за месяц пребывания моего в доме на улице Гончарова я убедился, что это и в самом деле Дом творчества. Мне удалось написать здесь много стихов, сказок, статей…»
А при чем здесь Иван Гончаров, почему именно его имя выбрали для улицы в поселке Дубулты, на которой открылся Дом творчества? Автор трех романов на букву «О» («Обломов», «Обыкновенная история» и «Обрыв» – что уже само по себе уникально), оказывается, приезжал в Юрмалу еще до исторического материализма – в 1880 году. А с ним и Николай Лесков. Знали, куда ехать. И как они только существовали без Союза писателей?!
Хотя я все-таки назвал бы улицу, где расположен Дом творчества, в честь Дмитрия Писарева – критика-шестидесятника и революционера-демократа, утонувшего в Дубулты в 1868 году. Как можно было здесь утонуть – вопрос интересный, ведь море в Юрмале настолько мелкое, что идешь себе, идешь, а воды по колено. Скорее всего, это печальное событие случилось в реке Лиелупе. Но так или иначе, а с тех пор отрицать значение Пушкина для русской литературы (как это делал Писарев) мало кто решался. А критики стали приезжать в Дубулты все реже…
Жаль, что Михаил Львович Бауман не оставил воспоминаний. Но мне удалось отыскать его сына – знаменитого фотографа Вадима Крохина, создавшего отличную портретную галерею советских писателей. Вадим Михайлович сейчас живет в Крыму. Он рассказал, что после Великой Отечественной войны его отца «послали в Латвию для создания дома отдыха ВЦСПС в Дзинтари. А в 1947-м его перевели директором Дома творчества писателей в Дубултах. Позже он чуть было не попал под знаменитое Дело врачей, но отделался лишь легким испугом. Он мне позже сказал: “На войне было не так страшно, поскольку знал, за что воевал, но тогда было страшно – до ужаса – от беспомощности”»[6].
Многие писатели приезжали в Дубулты ежегодно, попав, как говорится, и под фотообъектив Вадима Крохина: «Трифонов, Шагинян и Поженян были постоянными гостями. Постоянно приезжали Арбузов, Рощин, Карелин, Маршак, Роберт и Всеволод Рождественские, Окуджава, Вознесенский, Антокольский, Ахмадулина и многие известные литераторы, большинство из них приходили и к нам на дачу в гости. Многих и я снимал для своей книги “Фотоинтервью с литераторами мира”. Беллу Ахмадулину я как раз снял на балконе нашей дачи в Дубулты. А Васю Аксёнова рядом с дачей, Любимова на лесенке при спуске к пляжу… Частенько бывал у нас в гостях Андрей Битов. Мы хотели с ним сделать совместную книгу, выехав из Дубулты на литфондовской “Волге” в Калининград. Но на машине полетел движок после того как мы проехали Колку (в конце Рижского побережья). Битов написал текст: “Чайки-на-вылет”, а я предложил ему его проиллюстрировать моей съемкой».
На даче гостей принимала супруга Михаила Львовича – Людмила Ивановна Крохина. Со многими писателями у Баумана сложились теплые, дружеские отношения. «Я восхищался способности отца нравиться столь разным людям», – заметил Вадим Крохин. Когда в начале 1990-х годов Вадим Михайлович обменял квартиру в Булдури на московскую, его родители переехали в столицу, где и скончались.
А Константина Паустовского Вадим Крохин сфотографировать не успел – был слишком юн. Близкий к Гончарову и Лескову (по таланту, конечно) Паустовский 25 марта 1955 года записал в «Книге отзывов и предложений»: «Случилось так, что мне приходится начинать эту книгу записей о том, что написано каждым из нас на Рижском взморье, в Дубулты. Возможно, что через несколько лет какой-нибудь литературовед напишет на основании этой книги выдающееся исследование на тему: “Дубултский период в развитии советской литературы…”. Зимой 1955 года (февраль – март) мною в Дубулты было написано: повесть “Золотая роза” (книга о писательском труде), рассказ “Ночной дилижанс” (о сказочнике Христиане Андерсене) и две статьи – о Пришвине (для полного собрания сочинений М. Пришвина) и Фридрихе Шиллере».
О своей повседневной жизни в Дубулты Константин Георгиевич написал в новелле «Надпись на валуне», где повествование ведется от первого лица: «Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль… Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, заглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто. Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и, когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества с глазу на глаз с зимой, морем и ночью».
Паустовский (добрые коллеги звали его за глаза «доктор Фауст») первым и сформулировал непреходящее значение Дома творчества для отечественной литературы, сделав это очень изящно и остроумно – «Дубултский период». С тех пор это выражение повторяется все чаще и чаще, но со ссылкой на других писателей. Но первым это придумал Константин Георгиевич, в 1957 году написавший: «Всё в Дубулты – тишина, легкое одиночество, пустынная Балтика, дюны, приморские сосны и сам уют латвийской земли – очень помогает писать». Интересно: на каком этаже жил Паустовский? И можно ли представить его врывающимся в директорский кабинет с требованием безотложно предоставить номер на восьмом или девятом этаже?
В том-то и дело, что Паустовский и Маршак приезжали в Дубулты в ту эпоху, когда здесь еще не было так называемого нового корпуса, а сам Дом творчества более походил на небольшой коттеджный поселок, состоящий из прелестных дачных домиков в два или три этажа. Уже позднее на месте старой столовой выстроили кирпичную высотку в девять этажей. Но кому же принадлежали эти коттеджи раньше, до присоединения Прибалтики к Советскому Союзу? Ведь в независимой Латвии не было Литфонда с его домами творчества. На Рижском взморье обитали не самые бедные люди, ибо Юрмала издавна слыла у латышей престижным местом отдыха. Кому-то из них удалось унести ноги после начала «советской оккупации» (так презрительно именуют этот исторический период официальные власти нынешней, вновь буржуазной Латвии), а других отправили в Сибирь. Или просто поставили к стенке. Недвижимость национализировали, так и возник поселочек из дач, которым советские писатели дали вполне мирные названия: «Дальний дом», «Шведский дом», «Белый дом», «Охотничий дом», «Дом у фонтана», «Детский дом». А дом, где устроили столовую, принадлежал когда-то чуть ли не министру иностранных дел независимой Латвии Зигфриду Мейеровицу, как шепотом на ушко сообщали писателям аборигены.
В одном из коттеджей проживала семья писателей Константина Яковлевича Ваншенкина и Инны Анатольевны Гофф. Специально для этой книги их дочь, художник Галина Ваншенкина поделилась своими интереснейшими воспоминаниями:
«Дубулты, Дом творчества. Я бывала там с родителями и в детстве, и позже, студенткой. Обычно в августе. Родителям хорошо там работалось. А я общалась с ровесниками, делала зарисовки на пляже. Дюны, сосны, удивительные закаты во всю ширь горизонта. После шторма в темной кромке водорослей можно было найти кусочки янтаря… С удовольствием и благодарностью вспоминаю Дубулты тех лет и с улыбкой – некоторые моменты…
“Не надо так громко радоваться…”
Девятиэтажный корпус был построен уже позднее, а до этого мы много лет селились в Главном корпусе – двухэтажном деревянном здании. Перед ним был маленький круглый фонтан с бронзовой фигурой мальчика на дельфине. А в нескольких шагах стоял так называемый Детский корпус – для семей с совсем маленькими детьми. В этих старых корпусах туалет был в общем коридоре, а умывальники – прямо в комнате, при входе. Я, семилетняя, помню, очень удивилась этому. А утром прямо у наших дверей меня ждал высокий плотный человек, сказавший строго: “Девочка, не надо так громко радоваться, что в комнате умывальник!” Как оказалось, это был писатель Леонид Пантелеев. Мама, услышав это, схватила меня в охапку, и мы тут же переселились в Детский корпус.
“А ты, девочка, отойди!”
Еще вспомнилось, как однажды я была там первые полсрока с дедом и бабушкой, мамиными родителями. Мой дед – Анатолий Ильич, замечательный врач – предложил свою помощь в медкабинете. Как-то в самый разгар нашей игры возле Детского корпуса подошел человек с фотоаппаратом, построил детей для снимка, а мне сказал: “А ты, девочка, отойди!” Я отошла, меня ничуть это не задело. Он слышал, что я внучка врача… зачем на снимке посторонние дети?
Зиля и ее мама
Мне было тогда лет 12, наверное. Как-то на пляже рядом легли загорать девочка и женщина – рослая, костистая. Девочка, моя ровесница, сказала, что ее зовут Зиля. Они из Уфы. А это ее мама. “Моя мама – цензор”, – гордо сказала девочка. Я не знала, что это. Помню выражение брезгливости на лице моей мамы-писательницы, когда я рассказала ей про маму-цензора. И я поняла, что цензор – это что-то недостойное и даже постыдное».
И пусть у кого-то не было умывальника в комнате, разве это важно? Восторг и Паустовского, и Маршака, и других писателей вызвала, прежде всего, местная природа. Представим себя в Доме творчества писателей более полувека назад:
«Участки, на которых стояли дома, были слиты в один – получился огромный парк. Он доходил до дюн, тянулся вдоль моря, а с другой стороны его ограничивала главная улица. С каждым годом парк все больше напоминал сад Спящей Красавицы. По направлению к морю парк слегка шел в гору, образуя террасы, к которым вели выложенные камнем дорожки. Над раковиной грота росли розы… За ними уже лет восемь никто не ухаживал, не подстригал, не укрывал на зиму. Но они погибли не все. Те, что уцелели, научились жить без людей. Забыв все чудеса селекции, они совершали обратный путь – к шиповнику. Стебли все больше грубели, покрывались острыми частыми шипами. И чем грознее становились шипы, тем больше становились бутоны. Из них вылуплялись растрепанные неуклюжие цветы, белые и темно-красные, раскрытые до самой серединки».
Да простит меня читатель за это небольшое лирическое отступление. Но оно дорогого стоит: как не писать среди этой красоты книги? Я еще не рассказал про сбор писателями грибов в парке Дома творчества – маслят, опят и сыроежек. Приведенная цитата – из вышедших в Риге в 2012 году мемуаров Виктории Тубельской, дочери часто гостившего в Дубулты драматурга Леонида Тубельского. Он более известен как один из братьев Тур – драматургов, на самом деле никакими братьями не являвшихся. Второго «брата» звали Петр Рыжей. Творили они под общим творческим псевдонимом, почти как Козьма Прутков.
Когда-то очень давно, прогуливаясь по Новодевичьему кладбищу, я заметил странное надгробие, на котором было огромными буквами выбито: «Писатели братья Тур». Вот тогда я и заинтересовался их биографиями: обычно принято хоронить в одной могиле родных, а тут – совсем чужие люди (тот же случай произошел с «чапаевцами» – кинорежиссерами братьями Васильевыми, простыми однофамильцами). Пьесы братьев Тур нередко носили шпионско-криминальный характер, например, «Очная ставка», экранизированная в 1939 году под названием «Ошибка инженера Кочина» с Михаилом Жаровым в главной роли следователя. В 1930—1950-е годы ставились они по всей стране, принося неплохие моральные и материальные дивиденды авторам. Жили «братья» на улице Горького в комфортабельных сталинских домах. А самое известное их произведение – сценарий фильма «Встреча на Эльбе», написанный совместно с бывшим следователем Генеральной прокуратуры СССР Львом Шейниным, их частым соавтором.
На берегах литературы
Пасутся мирно братья Туры,
И с ними, заводя амуры,
Лев Шейнин из прокуратуры.
В 1940-е годы в Москве эту эпиграмму не повторял разве что ленивый22. Как точно употреблена рифма: литература – прокуратура. И главное, что по смыслу очень верная.
У Леонида Тубельского была жена – Дзидра Эдуардовна, пережившая своего мужа (скончавшегося в 1961 году) на очень много лет. Человек она по-своему любопытный, ибо стала одной из первых, кто приехал в только что открывшийся Дом творчества вскоре после войны. Читатель спросит: это кто же «открыл» бы Латвию для писателей в 1948 году, ведь там еще полно было «лесных братьев». В Юрмалу пускали, но с разрешения компетентных органов. Получив спецразрешение в приемной МГБ СССР на Кузнецком Мосту, семья драматурга засобиралась в Дубулты. Дзидра Тубельская все удивлялась: ее, латышку и дочь врага народа, отпустили на родину. Вероятно, сыграла свою роль известность ее мужа[7]. Да и соавторство с Шейниным даром не дается.
Поселили их в так называемом Белом доме, на втором этаже:
«Встретила нас сестра-хозяйка и заговорила с нами на ломаном русском. Удивлению ее не было границ, когда я ей ответила на чистом латышском. Она вела все хозяйство вместе со своим братом. Писателей было еще мало, и они вдвоем прекрасно справлялись. Мы разместились на втором этаже, в комнате, выходящей на огромный балкон. Столовая находилась внизу. Там стояло несколько столов, покрытых белоснежными скатертями. На каждом – вазочка с полевыми цветами. Царила атмосфера домашнего уюта. За трехразовое питание полагалось сдать продовольственные карточки. Кроме того, на лимитную книжку давали дополнительные продукты в магазине в Лиелупе»23.
Лимитная книжка – еще одна привилегия советской элиты 1950-х годов, отделявшая ее от основной массы населения. Но эти книжки не продавали в книжных магазинах, их выдавали в Союзе писателей для получения усиленного продовольственного пайка. Отоваривали книжки в спецмагазинах, к которым прикрепляли литераторов.
А в 1948 году на Рижское взморье привезли сына Константина Симонова – Алексея, хорошо известного сегодня кинорежиссера Алексея Кирилловича Симонова. Мальчику было от роду девять лет и его отправили на Рижское взморье лечить гланды по совету «врача-убийцы», профессора Александра Фрумкина. Перед тем как в 1953 году доктор превратился в главного врага советского народа, он успел вылечить немало хороших людей, в том числе и писательских детишек. Как вспоминает Алексей Кириллович, здесь в Прибалтике «два лета подряд дед с бабкой поочередно пасли своего внука». Сама Прибалтика «была недавно освобожденная, немного, видимо, испуганная, как я теперь понимаю, и не по-нашему чистая и размеренная»24.
Сохранилось письмо деда отцу мальчика, то есть Константину Симонову: «Комната у нас хорошая, кругом зелень и чудные сосны. Несколько раз были на море, но еще никто не купается. Кормят нас хорошо, дают такие большие порции, что не только дети, но и взрослые не съедают. Масло 150 гр., сахару 100 гр., молоко, сметана, творог, белый хлеб и т. п. в изобилии». А бабушка Алексея Симонова оказалась слегка похожей на местных жительниц, было в ней – выпускнице Смольного института благородных девиц – с виду что-то латышское. Но именно сие обстоятельство и служило причиной мелких недоразумений: «Для их разрешения бабка выучила по-латышски “не понимаю”, что, если память мне не изменяет, звучит как “несо прут”. Для удобства запоминания моя лингвистически одаренная бабка переделала это латышское “не понимаю” в русское “не сопрут”». Но, как и положено пожилому человеку, иногда бабуля путала это самое «не сопрут» с другими не менее выразительными русскими словами, что приводило к смешным ситуациям.
Первые отдыхающие Дома творчества и не предполагали, что сметана и творог попадали на их стол с «угрозой для жизни». Вернемся к интереснейшим свидетельствам Вадима Крохина: «В 1949 году отец организовал для снабжения писателей ферму в 56 километрах от Дубулты. Выращивались куры, утки и коровы. Два раза в неделю привозили в Дом творчества свежие яйца, молоко, мясо и рыбу, поскольку на ферме были и пруды. Однажды меня взял с собой отец, дабы я порыбачил, не мешал ему обсудить планы делового развития с хозяином фермы. Только-только успел поймать несколько упитанных карасей, как отправились обратно на его трофейном “Виллисе”. Через 15 километров нас обстреляли из леса так называемые “лесные братья”, слегка ранив шофера. Больше меня никогда не возили на эту ферму». Что касается «лесных братьев», то «одного из них, но отсидевшего срок, позже взял отец к себе на работу водителем. Его звали Альфред. Я с его помощью учился водить машину. Вместе перевернулись на Додж “три четверти” по дороге в Ригу, и мы, вылетев прямо в канаву с водой из открытого кузова военного американца, остались живы – остальных умертвил перевернувшийся Додж… как на войне. Кстати, Альфред тоже позже погиб, но под трактором во время жатвы. Кому суждено погибнуть в катастрофе – может не бояться утонуть».
Ежегодно в ночь на 24 июня латыши отмечают праздник Лиго – вливались в него и писатели. Местные жители разводили костры, пели песни, плели венки из дубовых листьев, угощались и атрибутами праздника: специально приготовленным сыром с добавлением тмина и сваренным домашним пивом. В лесу искали цветки папоротника. Апофеоз наступал к ночи. Дзидра Тубельская вспоминает: «Вдоль берега уже полыхали костры, горели высоко на шестах смоляные бочонки. Парни подгоняли девушек к костру и заставляли их прыгать через огонь, ударяя по ногам пучками аира. Внезапно один из юношей подбежал ко мне, схватил за руку и потянул к костру. Я, недолго думая, подобрала юбку и вихрем пронеслась над пламенем». Приезжавшие в июне в Дубулты писатели и через много лет становились свидетелями соблюдения латышами этой замечательной традиции – сегодня праздник Лиго трактуется в школьных учебниках латвийской истории как своеобразный протест против советских порядков. Догадайся об этом советские литераторы, – и вряд ли бы они решились прыгать через пылающий огонь, да и призадумались бы: чего это латыши их в этот костер тащат…
В Дубулты в 1950-е годы зачастили московские артисты – Рубен Симонов, Юрий Яковлев, Людмила Целиковская, Николай Охлопков, Лев Свердлин. Естественно, что для них Дом творчества превращался в пансионат, они не сочиняли после завтрака, а загорали и гуляли. Случались между отдыхающими и романы.
Вполне закономерным было появление в Дубулты и ученых – их жизнь и работа также была в центре внимания советских литераторов. Взять хотя бы популярные книги Даниила Гранина, в том числе «Иду на грозу», где в персонаже профессора Данкевича угадывается знаменитый ученый Лев Ландау, лауреат Нобелевской премии по физике. «Помню встречи с Львом Ландау в писательском Доме творчества на Рижском взморье. Он терпеть не мог, когда говорили, что он “второй физик мира после Эйнштейна”, – вспоминал Анатолий Алексин. – Что за нумерация? А если кто-то и считает всерьез, что я “второй”, это вовсе не значит, что мы выстроились один за другим, что я дышу ему в спину. Это лишь значит, что, по мнению некоторых, между нами никого нет. Вот и все… Хоть и с этим я категорически не согласен!»25 Приходил Ландау и на писательский пляж, где однажды поучаствовал в импровизированном споре о происхождении Бога.
В советских кинокартинах 1950-х годов мы видим, что весьма распространенной формой мужской одежды на отдыхе были пижамы – в них не только спали, но и носили в поезде, выходили на пляж с полотенцем через плечо, в больших белых панамах. Пижамы шили из яркого полосатого сатина. И потому большое внимание привлекали на пляже те, кто появлялся не в пижаме, а в редких тогда шортах. Это был особый шик. Одним из тех, кто послужил своеобразным зачинателем новой пляжной моды в Дубулты, стал Адриан Рудомино, очень интересный человек и собеседник (сын основательницы Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Маргариты Ивановны Рудомино). Прекрасная половина Дома творчества почему-то сочла его итальянцем и даже разведчиком (бойцом невидимого фронта!). Вот что означало тогда появиться на пляже в шортах.
С именем Дзидры Тубельской связана постройка в Дубулты теннисного корта. Этот (лишь на первый взгляд) привилегированный вид спорта был весьма распространен среди советской политической элиты и примыкающей к ней тонкой прослойки творческой интеллигенции. Любили «погонять» друг друга и советские писатели. Как пишет Надежда Кожевникова, дочь Вадима Кожевникова (автора романа «Щит и меч» и большого писательского начальника), об одном из таких же литературных генералов: «Классный, отличный теннисист. Лощеный, холеный, ракетка – супер, форма – с иголочки. На корте партнерши его – блондинки, сплошные блондинки»26.
Теннисные состязания начинались обычно после четырех часов пополудни. Солнце уже катилось к закату и не так пекло, как днем. А на Рижском взморье, кому-то кажущемся холодным, оно коварное: нетрудно и обгореть. На теннисном корте в Дубулты часто видели поэта Сергея Григорьевича Острового, в 1969–1988 годах возглавлявшего Федерацию тенниса РСФСР. Среди литераторов это была даже более почетная должность, чем секретарь Союза писателей. Секретарей куча, а теннисная федерация одна. Сергей Островой известен как автор стихов, ставших популярными песнями, – «У деревни Крюково», «Песня остается с человеком», «Зима» («Потолок ледяной, дверь скрипучая») и т. п. Само собой, писал он и о теннисе. А ветераны отечественного спорта по сию пору с благодарностью вспоминают его деятельность во главе теннисной федерации.
Сергей Островой нередко побеждал своих соперников на теннисном корте. И много сочинял. О его плодовитости ходили легенды. Литературовед Геннадий Григорьевич Красухин вспоминает:
«В нашей “Литературной газете” печатался часто. Но наш отдел тут ни при чeм. Ни при чeм и оказывался отдел публикаций, когда отделили его от нашего отдела русской литературы. Потому что ни туда, ни туда Островой стихов не носил. Они поступали в отдел от Чаковского (главный редактор газеты. – А. В.). Александр Борисович присылал обычно довольно толстую пачку стихов и просил отобрать то штук пять для отдельной подборки, то пару стишков (его выражение) для коллективной. Зачем это было нужно Чаковскому? Нет, он не был поклонником поэтического таланта Острового. Но он по несколько раз в неделю играл в теннис. Чаще всего с Островым. Тот играл почти профессионально… Вот и вручал Островой ему свои толстые пачки после игры»27.
В теплое время года на корте в Дубулты было тесно от игроков, благо что сооружен он был по всем правилам: покрытие сделали из специального материала – теннисита, утрамбовали катком, разлиновали на зоны и повесили сетку. От желающих погонять мяч отбоя не было, порою приходилось записываться в очередь. Среди завсегдатаев теннисного корта были драматурги Морис Слободской и Борис Ласкин, а также Юрий Любимов. Латвия в те годы славилась своими отменными теннисными кортами. А в Дубулты чуть ли не каждый день наведывались и местные девушки-теннисистки, неизменно привлекая внимание писателей, приезжавших без жен. Те, кто не играл, наблюдали за игрой со скамеек, мест на которых едва хватало. Было весело.
Однажды, приехав в несезон, в холодном марте, Дзидра Тубельская познакомилась с Константином Паустовским. Ее с дочерью Викторией поселили в Охотничьем доме. Нельзя сказать, что народу было много. В столовой она узнала Константина Георгиевича, сидевшего неподалеку: «Он был небольшого роста, с резко очерченным лицом, в очках. Вскоре мы стали здороваться и перекидываться несколькими словами о погоде, морозе и невероятном количестве снега. Но даже такие обыкновенные замечания в его устах не звучали банально». Тут, как на грех, Виктория заболела воспалением легких. Паустовский, не обнаружив Тубельских в столовой, пришел к ним, предложив помощь, сидел с девочкой, рассказывал ей сказки.
Константин Георгиевич был все же уникальным человеком! Подлинный интеллигент, никого не предал. В писательских мемуарах не найти ни одного укоряющего слова. Кирилл Арбузов, сын драматурга Алексея Арбузова, вспоминает: «Волею судьбы с Паустовскими наша семья прожила в одной квартире, хоть и за перегородкой, восемь лет. Константин Георгиевич был человеком настолько духовно прекрасным, что даже злое ворчание соседки по коммуналке при его появлении в коридоре иссякало, и обычные склоки прекращались начисто. А как восхитительно было, когда Паустовский и отец затевали разговоры на творческие темы!»28 И таких свидетельств – немало.
Творчество Константина Георгиевича Паустовского относят к так называемой лирической прозе. Наиболее известны его произведения, посвященные описанию российской природы, наполненные тончайшей пейзажной лирикой. Талант писателя раскрылся еще до войны – в цикле рассказов «Летние дни» (1937), повести «Мещёрская сторона» (1939), а наиболее масштабное его произведение – «Повесть о жизни», создававшееся почти два десятка лет, с 1946 по 1963 год. Паустовский отличался активной жизненной позицией, в период оттепели не скрывал своих антисталинских настроений. В русле лирической прозы писали и более молодые его коллеги, на которых творчество Константина Паустовского оказало большое влияние – это Юрий Казаков, Юрий Трифонов, Юрий Нагибин, Владимир Солоухин и другие.
Даниил Гранин вспоминал о встречах с Паустовским в Дубулты как об одном из самых ярких эпизодов своего пребывания на Рижском взморье:
«Вечерами мы собирались у него в шведском домике у камина. Но и днем Паустовский принимал приглашение погулять, посидеть, поболтать. Казалось, ему нечего делать. Как-то я спросил его, почему он неплотно притворяет дверь к себе в комнату. Он виновато усмехнулся: “А может, кто зайдет?” Прекрасное настроение беспечности и незанятости окружало его… Между тем за месяц пребывания в Дубулты он написал больше, чем все мы: Юра Казаков, Эм. Миндлин, я, хотя мы экономили каждый час и работали в полную силу»29.
Прозаик Эммануил Миндлин запомнил раннюю прибалтийскую весну 1957 года и Паустовского, с интересом рассматривающего местных белок: «Дубултские белки были еще не пуганы. Они спускались на нижние ветви деревьев и бисерными глазками безбоязненно смотрели на нас. По пути от нашего дома у фонтана в столовую мы обыкновенно сворачивали с дорожки в сторону, чтобы полюбоваться белками. Стояли втроем – Паустовский, Гранин и я… Как-то мы устроили вечеринку в комнате Паустовского: шесть-семь человек пили коньяк под дьявольски вкусную рыбку копчушку – неизменное прибалтийское лакомство»30.
А проделки местных белок Константин Георгиевич описывал в письме своему сыну Алексею 16 февраля 1955 года: «Я нашел на пляже мячик, который забыл Кирилл Арбузов. Белочки играли им в футбол и сильно его поцарапали своими когтями»31.
Случалось, что белки мешали Константину Георгиевичу работать, отвлекая его: «Сегодня была драка белки с дятлом. Белка, должно быть, спала в своем дупле, а дятел сел на соседнюю ветку и начал изо всех сил долбить. Белка выскочила взъерошенная, разъяренная и бросилась на дятла. Он начал вертеться вокруг ветки и отбиваться и, в конце концов, победил. А вчера белка ободрала кору на липе, надрала лыка, скатала его в маленький сноп и очень ловко, перебрасывая его с ветки на ветку, утащила в дупло, на подстилку» – из письма жене Татьяне Паустовской от 12 марта 1957 года32. В этом же письме Паустовский сообщает, что «вчера переехал в Шведский домик, где жил в прошлый раз (до этого я жил в большом доме, довольно шумном и не очень уютном). Здесь же полная тишина, очень уютно и в окно видно море. Оно каждую ночь замерзает, а к полудню оттаивает и шумит. Снег почти сошел, днем уже в пальто жарко».
Интересная бытовая подробность, о которой пишет Эммануил Миндлин: «Баня в нашем дубултском писательском доме работала раз в неделю, рассчитана была на двоих, и мыться ходили по двое. Вот мы и пошли вдвоем с Паустовским. В жарко натопленной баньке, в пару и в клочьях мыльной пены, когда терли друг другу спины, он вдруг стал читать фетовские стихи. Мыльная пена хлопьями срывалась с моей мочалки, шлепалась на мокрые стены, пузырчатыми белыми струйками стекала на шашечки пола. Я замер с мочалкой в руках, чтобы звонкое поскрипывание мочалки и всхлипывающие шлепки мыльных клочьев по стенам не перебивали родниковой музыки фетовских поэтических строк». Дочитав, Паустовский спросил: «Любите ли вы Фета?» И услышав от соседа по бане отрицательный ответ и «выхватив из моих рук намыленную мочалку, Паустовский принялся яростно тереть мою спину и, задыхаясь в пару, хрипло кричал, что прекрасное не может не быть помощником в жизни. А раз Фет прекрасен…». Впоследствии Константин Георгиевич часто вспоминал время, проведенное на Рижском взморье. «Как мне не хватает Дубултов, разговоров с вами, снежного моря, лукавых глаз Гранина», – писал он Миндлину.
В непринужденной творческой атмосфере находилось время и для шуток. Однажды Даниил Гранин решил разыграть Константина Георгиевича, отпечатав на машинке письмо с якобы приглашением «дорогого писателя К. Г. Паустовского» на праздничный вечер местного молочного завода к Международному женскому дню 8 Марта. Об этой смелой затее знали и соседи по столу – Эммануил Миндлин и Юрий Казаков. И что же? Розыгрыш обернулся настоящим праздником – когда Паустовский пришел в заводской клуб, женщины его встретили так, словно действительно ждали. Константин Георгиевич провел прекрасный вечер. На розыгрыши он не обижался.
А Юрий Казаков, похоже, вспоминал и те самые мартовские дни: «Я не бывал в Дубултах летом и осенью, но весной там прекрасно! Почему-то много солнца, легкий морской воздух, заколоченные дачи, дома отдыха закрыты, кругом безлюдно, да и в Доме творчества обычно человек пятнадцать народу. Ранней весной там хорошо работается»33.
После смерти Леонида Тубельского в 1961 году его вдова продолжала приезжать в Дубулты – путевки помогал доставать Сергей Михалков. А когда Дзидра Эдуардовна познакомилась с директором Литфонда Латвийского союза писателей Эльвирой Затис, проблем с посещением Дома творчества в самые загруженные месяцы лета вообще не стало. В хороших отношениях она была и с директором Михаилом Бауманом. Как-то раз, летом 1965 года он попросил ее об одолжении – Союз писателей пригласил отдохнуть в Дубулты самого Генриха Бёлля – классика западногерманской литературы. Ехать за ним надо было утром, на вокзал в Ригу (где по сию пору стоит высокая башня с часами). Для встречи такого высокого гостя полагалась черная «Волга». Но машина сломалась, и Бауман попросил Тубельскую съездить за писателем на своей машине, купленной еще при жизни мужа на его гонорары.