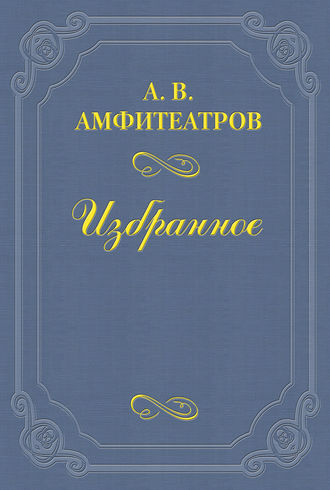
Александр Амфитеатров
Отравленная совесть
XXX
Аркадий Николаевич, у себя в домике на Девичьем поле, читал присланную ему из типографии корректуру… Было уже около полуночи, когда ему послышался звонок. Он отворил дверь кабинета:
– Телеграмма?
И отступил в удивлении: пред ним стояла Людмила Александровна.
– Простите… я на минутку… – отрывисто сказала она, – я… не буду мешать… сейчас уйду…
– Бог с вами, Людмила Александровна! – вскричал Сердецкий. – Как вы можете мне мешать?! Я Бог знает как рад, что вам пришло в голову навестить меня, отшельника. Я только не ждал вас в такую позднюю пору – оттого, может быть, и сделал большие глаза… Присаживайтесь к столику, я угощу вас чаем… Ну-с? как ребята, Степан Ильич? все благополучно?
Людмила Александровна не отвечала. Она глядела на Сердецкого в упор, но как будто не на него, а дальше его, сквозь него. На ней лица не было. Сердецкий пригляделся к ней и замолк. Сердце у него екнуло: он понял, что Людмила Александровна пришла к нему неспроста… И оба они молчали – одна бессильная начать речь, другой и выжидая, и боясь: что-то она ему скажет?
И вот Людмила Александровна решительно подняла голову и – уставясь в Сердецкого блестящими глазами, ярко засверкавшими на белом как мел лице, – произнесла тихо, ясно и отчетливо:
– Я пришла к вам, потому что мне больше не к кому было идти, а оставаться одной стало не под силу. Поискала кругом: всех либо ненавижу, либо боюсь… Всех растеряла, все – далеки. И Степан, и дети, и тетя Елена – все… Вы один остались как-то не чужой мне… Вот и пришла… Послушайте…
Она задохнулась и долго боролась с удушьем, стиснувшим ей горло. Потом, с новым усилием, выговорила:
– Послушайте… это я убила Ревизанова… тогда… в ночь с пятого на шестое… Да… Дайте мне воды!.. ради Бога, скорее!..
Расплескивая воду, она поднесла стакан к губам. Сердецкий, побледнев больше ее самой, скорбно стоял перед нею, сложив руки, точно на молитву, тряся своею серебряною сединою.
– Я знал это, – шептал он. – Я чувствовал, предполагал что-нибудь в этом роде… Ах, несчастная, несчастная!
Верховская продолжала:
– Он… мучил меня… издевался надо мною… грозил мне нашею прошлою любовью. Ведь я, Аркадий Николаевич, была его, совсем его!.. Помните, как я спрашивала вас, что делать человеку, когда заведется у него мучительная тайна?.. Вот какая моя тайна была!.. Он хотел, чтобы я его опять любила… была рабой… он Ми… Митю своим сыном хотел объ… объявить… у него письма были… доказательства. Я не стерпела… вот… убила… вот… вот… и… и не знаю, что теперь делать с собою?
– Несчастная, несчастная! – полусознательно повторил Аркадий Николаевич.
– Не знаю, что делать, не знаю… Думаю и ничего не могу придумать… Ах! – она схватилась за голову. – Что тут выдумаешь, когда, рядом с каждой мыслью, поднимаются образы этой ночи… Там… красная комната, а он на ковре, бледный, холодный, а на лице – вопрос… Не узнал смерти… не понял, что умирает… О, подлец, подлец! Как он меня позорил!
Испуганный ее безумным взором, Сердецкий порывисто взял ее за руки и усадил в кресло.
– Не смотрите так, Людмила. Что вы видите? Что вам чудится?
– Нет, вы не бойтесь, – искусственно улыбнулась она, и страшна вышла ее улыбка, – я не галлюцинатка… до этого еще не дошла, – Бог милует… У меня только мысль больная, память больная… Помнится, думается, – ни на минуту не отпускает меня…
– Чуяло мое сердце недоброе, – сказал Аркадий Николаевич голосом, в котором трепетали слезы, – ждал я беды, только все же не такой!.. Господи! Что же это? гром на голову! с ясного неба гром… Милочка! Милочка! что вы, бедная, с собою сделали?!
Она его не слушала. Порыв долго замкнутого чувства не знал удержу и выливался в быстрой, отрывистой речи, как река, сломавшая плотину.
– Я убить себя хотела… Хотела пойти к Синеву, во всем признаться… жалко! детей жалко… я их от позора спасти хотела, а вместо того вдвое опозорила! Дети убийцы!.. Когда я стояла там – у трупа… О, друг мой… последний друг! Если бы я могла ценой своей жизни возвратить жизнь ему… моему врагу… я не отступила бы перед жертвой. Страшен был позор, но лучше бы мне перенести десять новых посмеяний, лишь бы не убивать: вы – художник, писатель – вы даже не подозреваете, как это ужасно – убить человека. Я поняла проклятие Каина, я несу его на себе… я… я всех людей боюсь, Аркадий Николаевич! Я… даже вас боюсь в эту минуту. – И она бросилась к нему, хватая его за руки. – Друг мой! я вам все сказала честно, как брату… Помните же! Я вам верю – и вы будьте мне верны до конца. Не выдавайте меня!
Она металась, как плотица на крючке, выброшенная на береговой песок.
– Бог с вами, несчастная! – успокаивал Сердецкий, тронутый, расстроенный, силясь снова усадить ее. – Мне ли выдавать вас – мое дитя, мое сокровище?.. мою единую, единую любимую за всю жизнь? Ох, горько, страшно горько мне, Людмила!
– Этот Синев… – шептала Людмила Александровна, – вы замечаете? он недаром так много разговаривает со мною о ревизановском деле, он что-нибудь пронюхал… ищейка… Я его ненавижу, Аркадий Николаевич!
– Ничего он не знает и не узнает… вы вне подозрений, Людмила! Кроме совести и Бога, у вас не будет судей…
– Я его ненавижу, – решительно возразила она. – Он слишком близок к этому делу. Я знаю, что он ничем не виноват предо мною, но он – моя судьба, слепая, неумолимая, и я его ненавижу. Когда он бывает умен, красноречив, я холодею от ужаса перед ним: он кажется мне слишком светлою головою, чтобы не разобраться в моем деле. Порою, особенно если он заводит речь о своих следственных хитростях, он падает в моих глазах, представляется мне близоруким, тупым, пошлым, смешно самоуверенным человеком, и я презираю его, а все-таки боюсь!
– Вы, как вошли, сейчас же сказали мне, – начал Аркадий Николаевич после долгого размышления, – что все вам чужие, всех вы либо ненавидите, либо боитесь, то есть, значит, опять-таки ненавидите… Господи! как это развилось у вас, прежде такой многолюбивой? когда успело? откуда взялось?!
– Откуда? – Людмила Александровна болезненно улыбнулась, точно на детский вопрос.
– Относительно Синева – куда ни шло, я, пожалуй, еще понимаю ваши чувства. Он, хоть и невольно, и слепо, все же держит в своих руках вашу судьбу… Но ваши домашние? дети? Неужели и к ним у вас то же печальное отношение? Они все жалуются, что вы страшно изменились к ним.
– Дети… – горько отозвалась Верховская, – дети! Ах, Аркадий Николаевич! дети – горе мое. Для них я все это сделала. Хотела оставить им чистое, как хрусталь, имя… а теперь, после этого дела… я разлюбила детей, друг мой!
– Разлюбила детей? да как же? за что?
– Ах, друг мой! больно мне… Ведь я для них больше чем кусок живого мяса из груди вырезала, я всю себя, как ножом, испластала. Душа болит, сердце болит, тело болит… мочи нет терпеть!.. Тоска, страх, боль эта – свет мне застят. Я вижу то, чего нет, а того, что есть, не вижу… Перестала удовлетворять меня семья; жалко найденное в ней счастье. А ведь, спасая это мизерное счастье, я и погубила себя… Стоило, нечего сказать!
– Вы несправедливы к семье, Людмила.
– Может быть. Они здоровы, я больная… Когда же больные бывают справедливы к здоровым? Я завидую им, завидую Степану Ильичу, завидую Синеву, вам… Счастливые, спокойные люди с чистой совестью! Вы хорошо спите ночью, вы не подозреваете врага в каждом человеке, не ищете полицейских крючков в каждом вопросе… Злюсь – говорят: «У тебя характер испортился… ты несносна»… Да, и злюсь, и испортился характер, и несносна! Но ведь… если бы они знали и поняли мою жертву – они бы должны были ноги целовать у меня!..
– А вы решились бы сказать им? – холодно и строго спросил Аркадий Николаевич.
Она поспешно и испуганно вскрикнула:
– Никогда!
– На что же вы жалуетесь, в таком случае?
– Я знаю, что не имею права жаловаться, – но разве измученный человек заботится о правах? Одна я, Аркадий Николаевич, одна, в то время как мне много любви надо, чтобы хоть как-нибудь жить, – одна я пропаду без любви. Я привыкла много любить и быть любимой; в том и жизнь свою полагала. А вот теперь, когда мне нужна любовь, я одна… Тяжко, горько, обидно!
XXXI
Она поникла головою; потом встрепенулась и снова заговорила:
– Слушайте!.. может быть, ужасно, что мне так тяжелы люди, но ведь я начала ненавидеть свою не с них, а с себя самой. Я возненавидела себя уже пред убийством, потому что пошла на сделку с Ревизановым – все равно что стала продажною женщиной; возненавидела еще больше после убийства, потому стала подлою: струсила, не решилась понести за свой грех заслуженную кару, личным благополучием заплатить за свое искупление. Под этим двойным упреком я невыносимо страдала. Бывали минуты, когда мои нравственные терзания – казалось мне – превышали меру заслуженного возмездия, и мне становилось жаль себя, и моя ненависть к себе незаметно переходила на других. Первым ее предметом – вы знаете почему – оказался Синев. Мало-помалу я стала так же враждебно относиться почти ко всем. Помимо моей все возраставшей подозрительности, мне сделалось уже недостаточным мое «семейное счастье». Лишь во имя его я совершила грех и приняла на себя казнь. Раз оно – вся награда моих страданий, оно должно быть полною наградой. Каждый недочет в семейных отношениях, которого прежде я и не заметила бы, теперь ножом вонзается в мое сердце. Если муж приходит домой не в духе, дети менее ласковы, чем обыкновенно, – моя болезненная чувствительность подсказывает мне в таких случаях крайне тонкие, иной раз, может быть, и небывалые оттенки, – меня осаждают беспокойные мысли: что же это? Как все скучно, грязно, неблагодарно… И такою-то я должна принимать жизнь? и это-то я предпочла всеискупляющей смерти? Нечего сказать, стоило! Сперва я сдерживалась. Потом стала высказываться. Но… я не смею выяснить вслух общую причину моего раздражения, поводы же, конечно, всегда пустяковые – какие подскажет хозяйство, неудачная отметка в балльнике Мити или дочерей… Гнев по домашним поводам – всегда гнев из-за придирок. Я вам расскажу… Неделю тому назад – я сделала дома сцену… самую резкую из всех, какие были. Началось по ничтожному случаю: Митя без спросу налил себе стакан вина за ужином и довольно резко ответил мне, – когда я ему заметила это, – что он уж, видите ли, не маленький. Синев у нас ужинал, стал заступаться за Митю… Я вспыхнула… чего я не наговорила, чего не накричала!.. Ужас, отвратительно!
Она закрыла лицо руками.
– Ну, да что уж… Горькие слова, сказанные мною Синеву, мужу и детям, до сих пор в моей памяти. Обыкновенно, после каждой вспышки, мною овладевал стыд за свое поведение. В этот же раз – нет; озлобление не улеглось. С ним легла я в постель, с ним проснулась на другой день, с ним, как с тяжелым камнем на сердце, прожила целую неделю. Сегодня вечером Синев рассматривал, от нечего делать, альбом с нашими семейными фотографиями. «Славная эта ваша группа с детками!» – заметил он. Я взглянула, сказала «да» – и вдруг… в то самое время, Аркадий Николаевич, в то самое время, как я с материнской нежностью в глазах, с ласковой улыбкою на губах, – любящею мамашею напоказ, – произнесла это «да», – в то время, как в соседней комнате раздавались смех и говор детей, которые улыбались мне с портрета, – в душе моей вихрем пронеслась мысль: «А! они счастливы, неблагодарные! они болтают, смеются, они – чужие мукам моей совести… А за них-то я и осудила себя на муки, для них и живу хуже, чем в каторге. Неблагодарные! будь они прокляты!» И, вслед за этим позорным проклятием моим, у меня оборвалось сердце. Я поняла, что для меня все кончено, что я изжила свою жизнь. Раз я узнала ненависть даже к детям, – к ним, которые недавно были мне неизмеримо дороже самой себя, – незачем и бременить собою землю. Надо уйти с нее… А умирать не хочется, Аркадий Николаевич! Жизнь, хоть жизнь раздавленного червяка, все же лучше могильного мрака… О, как темно там, холодно, страшно… полно неизвестности!
Она умолкла. Потом пристально, с вызовом, взглянула на Сердецкого:
– Теперь вы знаете все… судите меня… кляните!..
– Полно вам, Людмила Александровна, – грустно отозвался Сердецкий, – где мне судить, за что клясть? Дело ваше ужасно, но судьею вашим я быть не могу. Я вас слишком давно и слишком крепко люблю! Жалеть да молчать – вот что мне осталось.
– А мне?
Он молчал, безнадежно разводя руками.
– Да не умирать же мне… не умирать же, в самом деле! – раздирающим криком вырвалось у нее.
Он молчал. Верховская с горечью отвернулась от него.
– Я пришла к вам… к другу, сердцеведу, писателю, потому что сама не знаю, что мне с собою сделать. Я на вас надеялась, что вы мне подскажете… А вы… – Она гневно закусила губу.
– Молитесь! – глухо сказал Сердецкий. Людмила Александровна отчаянно мотнула головою:
– А! молилась я!.. Еще страшнее стало… «Не убий!» – забыли вы, Аркадий Николаевич?
Она опустила вуаль – потом опять ее подняла и подошла к Сердецкому:
– Больше вы ничего мне не скажете?
– Ах, Людмила!..
– Послушайте… – глаза ее чудно блистали, – пускай я буду гадкая, ужасная, но ведь имела я, имела право убить его? ведь…
Аркадий Николаевич прямо взглянул ей в глаза и твердо ответил:
– Да, имели.
Она – как под внезапною волною счастья – пошатнулась, выпрямилась, согнулась, выпрямилась, вертела пред собою беспорядочными руками, красная лицом, сверкающая восторгом нечаянной радости:
– А… Благодарю вас… благодарю…
Сердецкий шептал:
– Одним вы виноваты предо мною: зачем молчали? Об одном жалею, что вы это сделали, а не я за вас.
Она приблизилась к нему – грустная, робкая, нежная, стыдливая.
– Я, может быть, противна вам?.. А, не перебивайте, я понимаю это… Это не от вас зависит, это инстинктивно бывает… ведь кровь на мне… Но вы не презираете меня – нет? не правда ли?
Он просто ответил:
– Я вас люблю, как любил всю жизнь.
Людмила Александровна печально усмехнулась:
– Да, всю жизнь… А знаете ли? ведь и я вас любила когда-то… Да! О, глупая, глупая! Может быть – если бы… а! что толковать! Снявши голову, по волосам не плачут.
Она взяла Сердецкого за голову и поцеловала его в губы.
– Это в первый и последний раз между нами, голубчик, – скачала она и смеясь, и плача. – Прощайте. Это вам – от покойницы. И больше меня не любите: не стою!
Встревоженный Сердецкий бросился вслед за Людмилой Александровной:
– Что вы хотите сделать с собою? Она остановилась:
– Не бойтесь за меня. Говорят вам: я не хочу умирать – боюсь. Я буду цепляться за жизнь, пока можно… А какими средствами? – не все ли равно, не все ли равно?
XXXII
Степан Ильич Верховский просто не знал, что думать о своей жене. Его всегдашняя антипатия к Олимпиаде Алексеевне Ратисовой выросла более чем когда-либо. Между тем Людмила Александровна, словно назло, сходилась с нею – день ото дня – все теснее и теснее. Точно повторялись детские годы, когда Липа Станищева безраздельно командовала Милочкой Рахмановой. Степан Ильич хмурился, дулся, готовился вмешаться, однако его останавливало пока одно обстоятельство: в постоянном обществе жизнерадостной грешницы Людмила Александровна как будто ожила и повеселела… Стоило ей нахмуриться, Липа тормошила ее:
– «Что так задумчива, что так печальна»? Опять киснешь? Жаль. Право, мне тебя жаль. Годы наши не девичьи, летят быстро. Чуточку еще – и старость. А ты теряешь золотое время на хандру… есть ли смысл? С самого утра хоть бы разок улыбнулась! Что это? Кого собираешься хоронить?
– Себя, Липа, – мрачно возразила Верховская.
Олимпиада Алексеевна залилась хохотом:
– Ой, как страшно! Что же? тебе в ночи видение было? Это случается.
Верховская вздохнула:
– Да, видение… тяжелый, ужасный сон…
– Объелась на ночь, вот и все, – практически решила Ратисова. – Я тяжелые сны только на масленице вижу, после блинов, а то все веселые. Будто я Перикола, а Пикилло – Мазини. Будто в меня Пушкинский монумент влюблен, – что-нибудь эдакое. Тебя проветрить надо. Ты дома засиделась. Я из тебя живо вытрясу хандру. Ты на жизнь-то полегче гляди. Что серьезиться? Все трын-трава.
– Трын-трава? – качая головою, улыбалась Людмила Александровна.
– Уж поверь мне. Видала ты меня печальною? Никогда. Злая бываю, а грустить – была охота! С какой стати? Разве у нас какие-нибудь Удольфские тайны на душе, змеи за сердце сосут?
– А если бы… тайны и змеи?
– Я бы их – под сюркуп. Я бы так закружилась, чтобы и подумать о них было некогда. Мало ли веселого дела на свете? Утром – к Мюру и Мерелизу: раз! Потом смотри в афишу: есть в манеже гулянье? На гулянье! Нет? – к Ноеву на каток. За обедом часа три просидела в веселом обществе – глядь, восемь часов! пора в оперетку либо в оперу. Оттуда на тройке ужинать в Стрельну. Вернулась домой: какие тут тайны и змеи? устала до смерти, стоя спишь, только бы добраться до подушки; от шампанского в голове шумит… Если бы и это не помогло, я бы нового любовника завела, за границу бы поехала с милым дружком – да! Змеи подождали бы, подождали, пока я дамся им на съедение, а потом плюнули бы на меня и уползли…
– Оставив тебя оплеванной? – горько усмехнулась Людмила Александровна.
– Ах, матушка! На всякое чихание не наздравствуешься. Либо жить человеком, либо самоедом… вот как ты теперь на себя напустила. Я уж и то смеялась давеча Петьке Синеву: что он ищет рукавицы, когда они за пазухой? Приглядись, говорю, к Людмиле: какой тебе еще надо убийцы? Лицо – точно она вот-вот сейчас в семи душах повинится…
Людмила Александровна остановила ее с побелевшим лицом:
– Не шути этим! не шути! не смей шутить!
– Э! от слова не станется! – захохотала веселая дама, но та твердила, как дурочка:
– Не шути! Это… это страшно… Ты не знаешь!
Посмотрела на нее Олимпиада Алексеевна – только головой покачала:
– Эка трагедию ты на себя напустила! Даже по Москве разговор о тебе пошел. Намедни встречаю княгиню Настю Латвину… ну, знаешь ее язычок! Бритва! А что, спрашивает, Липочка: правда это, что ваша приятельница Верховская была влюблена в покойного Ревизанова и теперь облеклась по нем в траур?
Людмилу Александровну так и шатнуло. Искры закружились пред глазами. В ушах зазвенело.
– Я в него? – крикнула она, так что отзвякнули хрустальные подвески на люстре и канделябрах. – В этого… изверга?.. Да как она смела?! Как ты смеешь?!
– Пожалуйста, не кричи, – обиделась Ратисова. – Во-первых, я ничего не смею, а во-вторых… я все смею! не закажешь! Княгине я за тебя отпела, конечно. Ну, а влюбиться в Ревизанова – что тут особенного? Да мне о нем Леони такое порассказала… ну-ну! Я чуть не растаяла – честное слово. И этакого-то милого человека укокошила какая-то дура!.. Не понимаю я этих романических убийств! За что? кому какая корысть? Мужчины хоть и подлецы немножко, а народ хороший. Не будь их на свете, я бы, пожалуй, в монастырь пошла.
XXXIII
На Святках Олимпиада Алексеевна пригласила гостить к себе в подмосковную всю семью Верховских и Синева – в последнее время неразлучного своего спутника.
– Отчего это у Петра Дмитриевича такой сконфуженный вид? – тревожно расспрашивала Людмила Александровна Олимпиаду Алексеевну, летя с нею в быстрых санках по укатанной дороге от железнодорожной станции к имению Ратисовых.
– А что?
– Да он почему-то сторонится от меня, смотрит как-то смущенно: не то дуется, не то боится.
– И впрямь боится, – весело возразила Олимпиада Алексеевна. – Я тебе скажу, в чем дело. Откровенно говоря, я его, глупого, завертела – вот до сих пор. Он и сторонится от тебя, – боится, что ты догадаешься и намылишь ему хорошенько голову. Уж он просил меня – просил: «Главное, осторожнее с Людмилою Александровною! главное, она не догадалась бы! Если она узнает – другие мне безразличны, но если она – я сгорю от стыда на месте»… А я ему в ответ чувствительную реплику из «Отелло» – Баттистини:
О, ангел Дездемона,
Любовь мы нашу скроем…
Бесится. «Вам все шутки и смешки, а для меня уважение этой женщины – все равно что собственная совесть». – «Ах, милый друг, – говорю, – все это прекрасно, уважай ее, сколько хочешь, но зачем же от нее – в знак уважения – под куст-то прятаться?»
– Боже мой! И бедный Петя туда же. Да это эпидемия какая-то! – невольно рассмеялась Верховская. – Ты не женщина, Липа, а любовная зараза.
– Поголовная мобилизация, душенька! Пожалуйте, господа мужчины, к отправлению воинской повинности! – самодовольно возразила Ратисова.
– Бедный, бедный Петя! Зачем он тебе понадобился, Липа?
– А так – здорово живешь. Главное: в наказание. Уж очень любит мораль читать… Вот и пусть теперь – что ругал, тому и поработает!.. Знаем мы этих моралистов! Вчера весь вечер валялся в ногах – умолял сказать, что у меня к нему: каприз или страсть до гроба… Ну, как не до гроба! Если бы всех до гроба любить, я уж и не знаю, сколько мне гробов понадобится.
– И весело тебе с ним?
– Когда же мне бывает скучно? Он – ничего, довольно забавный! Хотя ведь это ненадолго: скоро скиснет – чересчур серьезно берет… Удивительный народ русские мужчины! совсем не умеют поддерживать легких отношений. Чуть интрига затянулась на две недели, уже и бесконечная любовь, и унылое лицо, и ревность, и револьверные разговоры…
– Счастливица ты, Липа!
– А тебе кто мешает быть счастливою? Живи, как я, – и будешь, как я.
– И снов не буду видеть?
– Уж это, матушка, не от нас зависит. Кому как дано.
– А если я именно от снов бегу? Именно снов не хочу больше? То-то вот и есть, Липа… Молчишь? Снов только мертвые не видят.
– Не к ночи будь сказано, – недовольно кивнула ей подруга. – Охота тебе.
– Чем дольше я живу, – рассуждала Людмила Александровна, – тем больше убеждаюсь, что люди клевещут на смерть, когда представляют ее ужасною, жестокою, врагом человека. Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть – ласковый ангел. Она исцеляет раны и болезни… Она защищает от жизни… Жизнь обвиняет, а она придет – обнимет и простит…
– Ну что уж! – вздохнула Олимпиада. – Известное дело: мертвым телом хоть забор подпирай. Да все-таки что радости? Брось, пожалуйста! Терпеть не могу! Для меня все эти философии в одну песенку укладываются:
Мы пить будем,
Мы гулять будем,
Когда смерть придет,
Помирать будем!
Гуляем, Людмила!
Людмила Александровна засмеялась. Липа зорко взглянула на нее:
– Нечего смеяться. Говорю тебе: вся хандра от черной думы и, стало быть, надо жить так, чтобы времени не было ни для черной, ни для белой думы – и будешь спокойна и довольна… Я не знаю, что с тобою делается, но ты мне не нравишься. Будь моя воля, я бы взяла тебя в руки, смахнула бы с тебя дурь.
– По твоей программе? да, Липа? – перебила Людмила Александровна. – Вечный праздник? – оперетка, Стрельна…
– Да хоть и Стрельна… Вечный праздник, милая, занятнее вечных похорон.
– Электричество, пальмы, цыгане… Ха-ха-ха! С кем же мы будем исполнять твою программу? не вдвоем же, Липа?
– Мало ли знакомых… Петька вон есть налицо… Олина прихватим. Знаешь, приват-доцента этого. Он ведь только притворяется ученым и серьезным, а в душе – ух какой вивер… и ты ему – между нами будь сказано – очень нравишься. А у него есть вкус, у черта. Его три недели Отеро любила.
– Польщена и благодарю. Значит, пожалуй, и роман завести? да, Липа?
– Отчего и романа не завести? При старом муже… разве это грех?
Людмила Александровна перебила ее, все смеясь:
– И за границу уехать с любовником? на воды… или уже прямо в Монте-Карло, к игорному столу? Там впечатления как будто острее – правда?
Олимпиада Алексеевна подозрительно покосилась на нее:
– То есть – убей ты меня, а я ничего не понимаю, что с тобой творится. Так всю и дергает.
Людмила Александровна продолжала с диким экстазом:
– И все забудется? да, Липа? Все? Как водой смоет?
– Чему забываться-то?
– Так там чему бы ни было!
– Разумеется, забудется. Средство верное, испробованное.
– Ха-ха-ха! Тогда о чем же рассуждать? Руку, Липа! Я твоя по гроб! – как требует от тебя Петя Синев.
– Дуришь ты, Мила. Впрочем, на здоровье: все же лучше дурить, чем киснуть.
Сани летели.
– Липа! – окликнула Людмила Александровна подругу – странным изменившимся голосом.
– Что?
– Тебе никогда не приходило в голову, что все это мерзость?
– Что?
– Что ты мне советуешь.
– Нет… зачем? – искренно удивилась Ратисова.
– Что, может быть, смерть – и та лучше такого забвения?
– Очень мне нужно расстраивать себя пустяками! Мне свое спокойствие и здоровье всего дороже.
– Правда, правда, Липа!.. не думая, лучше… Ха-ха-ха!
Людмила Александровна смеялась всю дорогу, но Олимпиада Алексеевна не вторила ей. Она думала:
«Скажите, как развеселилась! жаль только, веселье-то твое на истерику похоже… Чудновато что-то! Ох уж эти мне нервные натуры! Напустят на себя неопределенность чувств и казнятся. Зачем? Кому надо? Терпеть не могу!» И вдруг, внезапным вдохновением, осенила ее бабья догадка.
– Мила!
– Ну?
– Ты, может быть, в самом деле, уже… того?
– Что?
– Что! Что! Известно что! Спуталась, что ли, с кем? Так скажи, чем в одиночку казниться-то…
Людмила Александровна долго смотрела на нее, не понимая и стараясь понять, а та говорила:
– Слава Богу, подруги… Ты скажи! Я и посоветую, и помогу. Дело женское… Если и ребенок…
Людмила Александровна наконец поняла ее и захохотала в лицо ей звуком, который смутил бы всякого человека, хоть немного более чуткого, чем Олимпиада: так пусто и дико звенел этот бессознательный, лишенный разума смех.
– Этого еще недоставало! – вырвалось у нее. – Ах, ничтожество!
Олимпиада же самодовольно твердила:
– Все будет шито и крыто. Двух своих мужей водила за нос и чужого могу. Я на секреты не женщина – могила.
Хохот Людмилы Александровны переходил в истерику. Она душила его, уткнувшись в муфту. И сквозь дикие, как икота, вскрики, скользили безумные слова:
– Нет, Липа… Ох, насмешила… Нет… Нет… Нет… Спасибо!.. Ты – могила не для меня… Я найду себе другую!.. Ох!.. другую!
В деревне было весело всем, кроме Людмилы Александровны, но она показывала вид, будто ей веселее всех. Много деревенских развлечений перепробовали гости, наконец устроили катанье на коньках. Река Пахра, на которой стоит именье Ратисовых, благодаря запруде, довольно широка и глубока в этом месте. Катались в прекрасный солнечный день. Накануне сильный ветер сдул сухой мелкий снег с поверхности реки, и на далекое пространство легла блестящая ледяная скатерть между белых берегов.
– Направо не забирайте, господа, – там есть полынья! – предупредила Липа. – Видите? елочки поставлены.
Саженях в десяти от господ стояла, опершись на коромысло, худая подщипанная бабенка в синей кофте. Набрав воды в железные ведра, она, с унылым любопытством, глазела на барскую потеху.
– Где это – полынья? там, где баба с ведрами? – спросил кто-то.
– Нет, то прорубь.
И вот Людмила Александровна летит по катку. Давно уже опередила она всю свою компанию, далеко за ней слышатся крики и смех безуспешно догоняющих ее друзей. Ей хорошо… В уме нет ни воспоминаний, ни иных представлений, кроме впечатлений минуты: сухой морозный воздух, блеск солнца и сияние льда, захватывающая быстрота бега.
– Людмила Александровна! Людмила Александровна! – долетел к ней тревожный оклик Синева, и она увидала у своих ног черную дыру, осененную тощей еловой веткой. На секунду она остановилась… осела, покачнулась назад. Потом словно невидимая сила толкнула ее вперед… Глупое от испуга бабье лицо мелькнуло в ее глазах, руки в синих штопаных рукавах замахали в воздухе, кто-то взвизгнул… Серебряный всплеск ледяной воды, страшный холод – как обжог во всем теле…
Но сильные мужские руки уже схватили ее за плечи и выхватили в обмороке из проруби.
К вечеру у нее открылось воспаление в легких.







