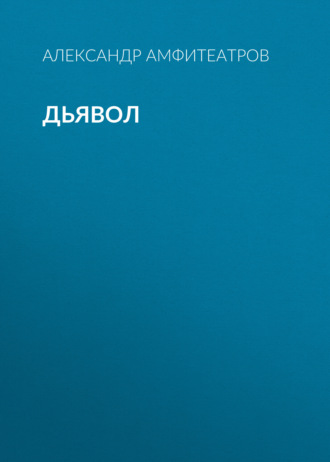
Александр Амфитеатров
Дьявол
«Я думал увидать злое чудовище, ждал увидеть погибшее и унылое царство, а нашел его торжествующим и славным. Сатана оказался велик, прекрасен и имел такой благосклонный вид, такую великолепную осанку, что казался достойным всякого почтения. На голове его сиял великолепный тройной венец, лицо было веселое, глаза смеялись, в руках он держал скипетр, как прилично великому властелину. И, хотя ростом он был в три мили вышины, надо было удивляться, как соразмерны его члены и как хорошо он сложен. За плечами его шевелилось шесть крыльев из таких нарядных и блестящих перьев, что подобных не имеют ни Купидон, ни Килленийский бог (Гермес)» (Arturo Graf).
Правда, все это оптический обман: взглянув на Сатану вооруженным глазом, сквозь адамантовый щит Минервы, своей вожатой, поэт видит адского царя свирепым чудовищем, чернее негра, с дико горящими глазами; голова его украшена не венцом, а переплетающимися драконами, он оброс по всему телу как будто волосами, но в действительности это ужасные змеи, руки у него с когтями, а брюхо и хвост – как у скорпиона. Но, тем не менее, почин украшать Сатану сделан и пришелся по вкусу века.
Из художников, как сказано, выше, первым придал Сатане «страшную красоту» Спинелло Аретинский, которого Бриер де Буамон зовет за это «предшественником Мильтона». В «Страшном Суде» Микель Анджелло демоны уже мало чем отличаются от грешников: художник достигает в них впечатление не внешним безобразием, но ужасной экспрессией внутренних страстей. Демоны Мильтона, равным образом и Клопштока, сохранили и после падения не малую долю прежней своей красоты и величия. Однако, демоны Тассо, наиболее народного из четырех законоположных поэтов Италии, сохранили чудовищные и ужасные формы и воспроизводят все страшные призраки античной мифологии. Восемнадцатый век, погасивший костры ведьм, и обративший дьявола в философскую идею, увенчанную после многих второстепенных немецких «Фаустов», гениальным синтезом в «Фаусте» Гете, окончательно очеловечил Сатану. А протестующий романтизм XIX века, усилиями Байрона, А. де Виньи, Лермонтова, и др., настолько облагородил и возвысил его, что Люцифер, Демон, Мефистофель становятся излюбленными владыками – символами человеческой мысли, решительно торжествующими в воображении бунтующего человека над своими исконными небесными врагами. Сообразно с этим моральным повышением, становится он и физическим красавцем:
господень ангел тих и ясен,
На нем горит блаженства луч,
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!
(Майков)
Это эстетическое отношение к дьяволу как олицетворению прекрасной и гордой мысли нашло себе, уже в наши дни, конечное и блистательное увенчание в гениальном «Демоне» несчастного Врубеля.
И даже когда нынешний дьявол некрасив, он сохраняет в наружности своей ту значительность и, как говорится, «интересность», которая привлекает к нему уважительное внимание больше самой блистательной красоты. Мефистофель в мраморе Антокольского, в сценическом гриме Эрнста Поссарта и Шаляпина сделал европейскому обществу зловещую фигуру кавалера в бархатном колете, шелковом плаще, в берете с тонким, колеблющимся петушьим пером и длинной шпагой на бедре.
Bin ich als adler Junker, hier
In rothem, goldverbramtem Kleide,
Das Mantelchen von starrer Seide,
Die Hahnenfeder auf dem Hut,
Mit einem langen, spitzen Degen…
Этот образ дьявола – несомненно, из всех художественных, самый популярный, несмотря на то, что он, сравнительно, из новых: появляется не ранее XVI века… Но он сразу так фантастически и привился к поверьям Европы после пережитой ею реформации, что этот вид дьявола надо считать как бы средним между собственной его формой и теми излюбленными его метаморфозами, о которых теперь будет речь. Имея свой собственный индивидуальный образ, демон, сверх того, обладал, способностью изменять свою наружность, по желанию, в другие образы, причем в этой своей способности он совершенно неограничен и вполне заслуживает название адского Протея, которое ему давали богословы. Злые духи, – говорит Мильтон, – «принимают по своему желанию тот или иной пол или сливают их вместе. Так мягка, так проста бестелесная сущность, что, будучи свободной от мускулов и поддержке костей, она может вливаться, следуя планам воздушных существ, в любую форму, ясную или темную, жидкую или твердую, и, таким образом, приводить к намеченным результатам деяния своей любви и злобы».
Будучи по природе безобразными, дьяволы могли искусственно принимать красивую и обольстительную наружность, либо облекаться в пугающее безобразие же, отличное от собственного.
Наследники олимпийских божеств, дьяволы, долго мучили христиан памятью и образами отошедшего в вечность язычества. В четвертом веке они посещали св. Мартина, знаменитого епископа турского в образах Юпитера, Меркурия, Венеры и Минервы. Галлюцинации, хорошо понятные в эпоху, когда боги умирали, воскресли вместе с эпохой «воскресших богов», как удачно назвал г-н Мережковский века Возрождения. Уже в XIII веке св. Райнальд, епископ Ночеры, бредил дьяволами в виде давно, казалось бы, забытых Юпитера, Венеры, Меркурия, Вакха и Гебы: несомненный результат чтения классических авторов или, может быть, слишком прочной памяти язычных призраков в местности, которая и поныне носит выразительное название Ночеры Языческой, Nocera del Pagani. Чтение классиков весьма не одобрялось духовенством и, наоборот, было весьма угодно Сатане. В X веке одному раввенскому грамматику, по имени Вильгарду, явились однажды ночью три дьявола и, отрекомендовавшись Вергилием, Горацием и Ювеналом, благодарили его за прилежание, с которым он комментирует их произведения и обещали в награду, что после смерти он разделит их славу. Двусмысленная признательность эта заставила грамматика призадуматься: ему было известно, без сомнения, что христос, явясь в сонном видении блаженному Иерониму повелел ангелам жестоко высечь его за слишком усердную любовь к Цицерону.
Чаще всего дьявол меняет свою человекоподобную форму на человеческую же, которая в данном случае лучше соответствует их намерениям. К отшельнику он приходит обольстительной женщиной, к отшельнице – красивым навязчивым юношей. Нередко дьявол являлся тем, против кого злоумышлял, под видом их друзей, родных, близких и знакомых, из чего проистекали иногда большие несчастья, грехи и соблазны. Преподобная Мария из Майэ (Maille – деревня в Вандее в 14 км. от Фонте-нэ-де-Конт) открыла дьявола в лице одного отшельника, которого все считали святым. Случай, необыкновенно частый в местностях, веках и слоях народных, охваченных борьбой господствующей церкви и сект, догмата и свободы совести. У нас в России это – обыкновенная религиозная галлюцинация фанатиков старой веры, давно обратившая на себя внимание художественных писателей. П. И. Мельников (Андрей Печерский) коснулся этой темы в «Грише», а А. Н. Майков в «Страннике»:
Тому теперь недели три, сошлися
К нам странники, да трое, разных вер:
И спорили, и всяк хвалил свою,
Да таково ругательно и блазно.
Как улеглись, я тоже лег на одр.
И так-то у меня заныло сердце;
И мысленно я стал молиться богу:
«Дай знаменье мне, господи, какая
Перед тобой есть истинная вера?»
И не заснул – вот как теперь смотрю:
Вдруг в келью дверь тихонько отворилась,
И старичок такой лепообразный
Вошел и сел на одр ко мне и начал
Беседовать, да ладно так и складно.
Все хороши, мол, веры перед богом;
Зрит на дела, мол, главное, господь;
А что когда, мол, знать желаешь больше,
Так приходи к соборному попу…
И, как сказал он только: «поп» – я вздрогнул,
Вскочил и крикнул: Да воскреснет бог!
Он и пропал – ну, видел я – во прах
Рассыпался…
Блаженной. Герардеске Пизанской и многим другим дьявол являлся в образе их мужей. Этот обман он часто употребляет против неутешных вдов, слишком страстно любивших мужей своих. Не столько сказку, сколько ходячий деревенский анекдот о том (потому что в народе это поверье крепко держится даже посейчас) поместил в свое собрание «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьев:
«Жил-был мужик, была у него: жена – красавица; крепко они любили друг дружку и жили в ладу и согласии. Ни много ни мало прошло времени, помер муж. Похоронила его бедная вдова и стала задумываться, плакать, тосковать. Три дня, три ночи бесперечь слезами обливалась; на четвертые сутки, ровно в полночь, приходит к ней бес в образе мужа. Она возрадовалась, бросилась ему на шею и спрашивает: «Как ты пришел?» – «Да слышу, – говорит, – что ты, бедная по мне горько плачешь, жалко тебя стало, отпросился и пришел». Лег он с нею спать; а к утру, только петухи запели, как дым исчез. Ходит бес к ней месяц и другой, она никому про то не сказывает, а сама все больше да больше сохнет, словно свечка на огне тает! В одно время приходит к вдове мать – старуха, стала ее спрашивать: «Отчего ты, дочка, такая худая?» – «От радости, матушка!» – «От какой радости?» – «Ко мне покойный муж по ночам ходит». «Ах ты, дура! Какой это муж – это нечистой!» Дочь не верит. «Ну слушай же, что я тебе скажу: как придет он к тебе в гости и сядет за стол, ты урони нарочно ложку, да. как станешь подымать – посмотри ему на ноги». Послушалась вдова матери, в первую же ночь, как пришел к ней нечистой, уронила под стол ложку, полезла доставать, глянула ему на ноги – и увидала что он с хвостом. На другой день она к матери. «Ну, что, дочка? Правда ли?» – «Правда, матушка! – что мне делать несчастной?» – «Пойдем к попу». Пошли, рассказали все как было; поп начал вдову отчитывать, три недели отчитывал – насилу отстал от нее злой бес!»
Чтобы скомпрометировать св. Кунигунду, бес однажды вышел из ее спальни в виде рыцаря. Приняв образ св. Сильвана, он волочился за одной девицей и нарочно дал поймать себя у нее в спальне под кроватью. Фома Кантипратийский[6] видел однажды дьявола в образе монаха, который с нарочитой непристойностью обнажился, будто бы по естественной нужде. Когда Фома окликнул – бесстыдника, он тотчас исчез. Тот же Фома жалуется на дьяволов, которые компрометировали кельнское монашество, устраивая по ночам пляски на пригородных полях и одеваясь для этих балов своих в белые рясы.
Из животных дьявол, в старину, охотнее всего являлся драконом или змеем. Но дракон не всегда метаморфоза черта, иногда он – сам черт и есть, в подлинном своем виде. В румынском языке оба они – и черт и дракон – совершенно совпадают в нарицательном имени дьявола.
В Апокалипсисе Иоанна и Видениях многих святых, Дракон или Змий, несомненно, тождественен дьяволу. В VIII веке Иоанн Дамаскин описывает дьяволов как драконов, летающих по воздуху. Змий, как истинный образ Сатаны, весьма привился к русским фантастическим представлениям в старинной церковной литературе, так и в духовных стихах и сказочной словесности. В старообрядческой литературе этот образ получил особенно широкое и яркое развитие, которым красиво воспользовался Майков в упомянутом уже своем «Страннике»:
Великий змий вселенную обвил
И царствует… Про змия то читаем:
«И было зримо, како по ночам,
Сей змий, уста червлены, брюхо пестро,
Ко храмине царевой подползал,
И царское оконце отворялось.
Царь у окна сидел, а змий, вздымаясь
По лестнице клубами, поднимался
Вверх до окна и голову свою
Великому царю клал на плечо,
(И так. он был огромен, что лежал
По лестнице всем туловищем темным,
А хвост еще из патриаршей сени
Не вылезал). И так, к цареву уху
Припав, шептал он лестные слова…
«Не слушай честных старцев, о царю!
И старых книг, владыко, боронися!
Бо тесноты они тебе хотят!
А полюби, царь Никоновы книги:
В них обретешь пространное житье.
И по средам и пятницам всеястье,
И телесам твоим во услажденье
Все радости мирские и утехи»».
Иногда, однако, дракон является существом гораздо более телесным, чем дьявол, и как бы средним между бесом и животным. Таковы все безусловно смертные драконы – людоеды романского и германского эпоса, многие змеи наших русских богатырских былин и сказок. Иногда, наконец, дракон просто страшное животное, природная сила, злость и безобразие которого сделали его любимцем Сатаны, охотно принимающим его образ для удобнейшего исполнения своих злодейств.
Чтобы надоедать людям, мучить их и пугать, дьявол не брезгует никаким животным видом. Рыкающими львами бродили бесы в пустыне вокруг св. Антония, ползали у его ног змеями и скорпионами. Слишком тысячу лет спустя св. Колета видела их лисицами, жабами, змеями, улитками, мухами и муравьями. В XIII веке св. Эгидий угадал дьявола под панцырем гигантской черепахи. В образе льва демон убил мальчика, которому, однако, св. Елевеерий, епископ турнэйский (Tournay, город в Бельгии), возвратил жизнь. В образе ворона демон являлся не менее часто, чем в образе дракона, и точно также не всегда можно определить, приемлемый ли это дьяволом вид или его собственный, Черный цвет ворона сделал его символом, демона в католическом искусстве, особенно в архитектурных украшениях средневековых церквей. Ворон, для св. Евкра, обозначает черную душу грешника (nigritude peccatoris), а св. Мелитон переводит его символ прямо демоном (corvi: daemones) (Auber). Во всяком случае, долголетний, черный и мрачный ворон – великий любимец дьявола, унаследованный последним от эллинского Апполона и германского Вотана, «Ворон черту молится»: это великорусское присловье сохранил Некрасов в своей повести «Кому на Руси жить хорошо». Совершенно дьявольским существом является фантастическая птица «морской ворон», во фламандских сказках; одна из них обработана Гейнрихом Гейне в изумительной балладе о «Германе веселом герое». Другую читатель может найти в моей книге «Мифы жизни»: «Царевна Аделюц». Наши русские сказки также знают Ворона Вороновича – полуптицу, полудемона который, подобно бесу-змею, похищает красавиц и сражается, с богатырями. Таковы же вороны «железные носы», залетевшие в русские сказки из арабских «1001 ночи».
Не лучшей змея и ворона репутацией пользуются летучие мыши, – св. Ведаст видел однажды, как дьяволы, взлетев стаей нетопырей, помрачили белый день, – сова и коршун. Когда черт не целиком нетопырь, то крылья у него – от нетопыря взяты. Относительно собаки Запад расходится с Востоком. На последнем, собака, друг человека, считается врагом дьявола, на Западе же она – его обычное превращение. Эта двойственность весьма старого происхождения. По дуалистическим легендам, представляющим собой смесь воспоминаний о манихейской космогонии и финно-тюрских сказок, бог и дьявол творили мир вместе, пока не рассорились из-за дьяволова непослушания, озорничества и проказ. Адама бог творил уже один, сложив его из «восьми частей». «И поиде очи имати от солнца и остави Адама единого лежаща на земле. Приеде же окаянный сатана, ко Адаму и измаза его калом и тином и возгрями. И прииде господь ко Адаму и восхоте очи вложити, и виде его мужа измазана, и разгневался господь на дьявола и нача глаголати: окаянне дияволе, проклятый! не достоит ли твоя погибель? что ради – человеку сему сотворил еси ты пакость – измаза его? и проклят ты, буди! И диявол исчезе, аки молния, сквозь землю от лица господня. господь же снем с него пакости сатаны и. смесив со Адамовыми слезами, и в том сотвори, собаку, и постави собаку и повеле стрещи Адама; а сам. отъиде в горний Иерусалим по дыхание Адамлево. И прииде вторые Сатана и восхоте на Адама напустите злу скверну, и виде, собаку при ногах Адамлевых лежащу, и убояся вельми Сатана. Собака начала зло лаяти на диавола; окаянный же Сатана взем древо и истыка всего человека Адама, и сотвори ему 70 недугов». Здесь собака является слугой бога, стражем человека, тварью благодетельною.
Но то же самое предание, в сказаниях мордвы и черемисов, варьируется совсем в другом направлении. «Юма, создавши человеческое тело, отправился творить душу, а к телу приставил пса, который тогда еще не имел шерсти. Злой Керемет произвел такой холод, что пес едва не замерз; потом дал собаке шерсть, и допущенный к человеку охаркал его тело, и тем самым положил начало всех болезней». В виде пуделя дьявол сопровождал папу Сильвестра II, Фауста, Корнелия Агриппу Неттесгеймского, в собачьем же виде он, обыкновенно, сторожит свои подземные сокровища и клады. Черным козлом возит он ведьм на сборища и председательствует на шабаше. Котом мурлычет в кухне колдуньи и, мало того, по чешскому поверью, каждый черный кот – только до семи лет кот, а потом обращается в дьявола. Надоедливой мухой пристает к монаху, разбивая его молитвенное внимание. И в виде красного шмеля заставляет переживать сладострастные ощущения и писать таковые же стихи талантливую русскую поэтессу М. А. Лохвицкую – Жибер. Имя Вельзевула, как древнего бога филистимлян, обозначало – «князь мух…» – «О, Везельвул, о, царь жужжащих мух» (М. А. Лохвицкая, «Шмель»).
Средние века строили мост между демонологией и зоологией с искренней верой. Целый ряд животных в христианской символике объявлен., был как бы иероглифами дьявола: змей, лев, обезьяна, жаба, ворон, нетопырь и др. И, наоборот, дьявола часто зовут «скотом» – не только в ругательной метафоре, как показывает один средневековый «бестиарий» (зоологический сборник), в котором дьявол классифицируется как животное, подобное другим зверям (A. Graf). Бесовских зверей видели не только тайновидцы в аду, мистики признавали их и на земле, – и не только в легендарных драконах и василисках, но и, например, в реальнейшей и невиннейшей по существу, жабе. Злополучное пресмыкающееся это горько платилось за свое безобразие. Бесовская репутация установлена за ним в христианстве еще Апокалипсисом:
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день бога Вседержителя. (XVI, 13,14). Начиная со II века устами Мелитона Сардинского, и сквозь все средние века жаба несет свое проклятие, зачатое еще в языческой магии и зоологическом баснословии Плиния (Hist, natur; lib. XXX.) В XII веке, у Алэна Великого[7], у Петра Капуанского, жаба – образ похабных поэтов, еретиков и … философов – материалистов, обращающих ум свой только к земным предметам! Затем, она сделалась эмблемой жадности, и распутства, а отсюда и бесом, карающим за смертные грехи этой категории. В кафедральном соборе в Пуатье и во множестве старинных церквей Франции можно видеть изображение казней, ждущих женщин за жадность, скупость, роскошь и кокетство: жабы и змеи кусают их за груди. На великолепном южном портале в средневековом аббатстве г. Муассака (Moissac; dep. Tarn-et Garonne) интереснейшая скульптурная группа изображает дьявола, со всеми отличительными его признаками, выплевывающего жабу – по направлению к нагой женщине, к грудям которой присосались две змеи, а нижнюю часть живота грызет другая жаба. Аббат Обер, автор «Истории и теории религиозного символизма», отмечает, что жаба в символике лишена «контрастного значения», которое имеется даже у змеи как эмблемы мудрости, а в медном Змии даже праобраза Спасителя, у ворона – как спутника св. Бенедикта и т. д. Жаба всегда – порок, грех, животное – дьявол. В этом качестве оно наказывает в немецкой сказке, записанной Гриммами, скупость и жестокость сына, отказавшего в пропитании своему престарелому отцу. Жареная курица, которую недостойный сын обедал после своего жестокого дела, обратилась в жабу и, прыгнув на лицо грешника, вцепилась в него так крепко, что он должен был носить ее и кормить своим мясом уже до самой смерти. Но злоба и месть жабы – демона не всегда воодушевляется столь дидактическими побуждениями, а весьма часто отвечают сами за себя. Цезарь из Гейстербаха рассказывает о молодом человеке, который, найдя в поле такую демоническую жабу умертвил ее. Однако, затем, мертвая жаба преследовала своего убийцу, не давая ему покоя ни днем, ни ночью и не обращая нисколько внимания на смертельные удары, которыми ее снова и снова поражают. Не помогло даже то, что ее сожгли, – она немедленно воскресла из пепла. Наконец, несчастный преследуемый, не видя, другого средства, сдается на капитуляцию – позволяет проклятой жабе укусить его и тотчас же вырезает укушенное место кинжалом. Этой местью страшная жаба удовлетворилась, удалилась и не показывалась более. Легенду эту не лишне сравнить с индусским поверьем, что человек, убивший нечаянно очковую змею, может искупить свою вину только человеческой жертвой, в силу этого избранная жертва получает рану в бедро, притворяется умершей и затем притворно воскресает, а вытекшая кровь считается жертвой, заменяющей жизнь.»
В одной старинной заклинательной формуле мы встречаем моление к богу об охране земных плодов от червей, мышей, кротов, змей и других нечистых духов (A. Graf). Св. Патрикий, св. Готфрид, св. Бернард и многие другие святые предавали анафеме мух и других вредных насекомых или гадов, избавляя от них дома, города и провинции. Процессы против животных возбуждались не только в средние века, но и в расцвете Возрождения. В 1474 г. в Вазеле судили и сожгли дьявола – петуха, который надумал снести яйцо. Вызывались на суд обвиняемые и свидетелями животные, вызывались и демоны. Еще в XVII веке иезуит Санистрари д'Амено, если, только не подложно его сочинение, доказывает, что инкубы и суккубы суть животные особого рода, почему и грех прелюбодеяния с демоном, так интересовавший иезуитов Возрождения, он подводит под рубрику скотоложства.
С той же легкостью, как животный вид, обращается дьявол в неодушевленные предметы. Св. Григорий Великий сообщает о монахине, которая стала бесноваться от того, что проглотила дьявола, обратившегося в листик салата. Одного из учеников св. Илария, епископа галатского, дьявол дразнил в виде аппетитной кисти винограда. Другим он представлялся стаканом вина, слитком золота, туго набитым кошельком, деревом, катящейся бочкой, кто-то догадался узнать его даже в виде коровьего хвоста. Опять невольно вспоминаются белогорячечные галлюцинации Ивана из «Тише воды, ниже травы»:
«К нам Иван поступил в припадке величайшего уныния и, боясь быть выгнанным, покуда не пил, не переставая, однако же, слышать голоса, проклинавшие его и выходившие откуда-нибудь из графина или с потолка. Иногда неожиданно он совал в щель между половицами папироску, так как солнечный луч, ударявший в пол, представлялся ему в виде головы, которая говорила: «Нет ли покурить?»»
Джин, кипевший в крови голландских художников едва ли менее, чем водка в крови этого несчастного Ивана, сделал их величайшими и изобретательнейшими иллюстраторами дьявольской трагикомедии, в которой оживала для галлюцината мертвая природа: деревья, камни, строения, домашняя утварь, кухонная посуда, рабочие инструменты.
Одни фантасты получали сатанинские галлюцинации, разбивая свои, нервы алкоголем и пороками, другие, наоборот, взвинчивали себя до них аскетическими подвигами. В препятствиях им, демон не жалел метаморфоз и доходил в последних до дерзости невероятной, перенося превращения свои из мира вещественного в мир невещественный, принимая на себя вид святых, ангелов света и даже девы марии, христа и саваофа, симулируя пред каким-либо честолюбивым подвижником, чтобы погубить его грехом гордости, полное видение горных небес. Замечательнейшую легенду в этом роде дает Печерский Патерик.
«Препод. Исаакий был богатый купец торопецкий. Пожелав жизни иноческой, он роздал все свое имение и пришел в пещеру к препод. Антонию, прося пострижения. Антоний принял и постриг. Исаакий наложил на себя тяжелые подвиги: надел власяницу и сверх ее покрылся сырой козлиной кожей, которая на нем высохла, затворился в тесной пещере и молился богу со слезами. Пища его была просфора, и то через день; воду пил он в меру. Антоний приносил ему то и другое, подавая в малое окошко, куда едва проходила рука. Семь лет провел он в таких подвигах, не выходя из затвора, не ложился на бок, но только сидя засыпал ненадолго. С вечера до полуночи он пел псалмы и клал поклоны. Однажды он сел отдохнуть после ночных поклонов. Внезапно пещера озарилась ярким светом. Взошли два светлых юноши. «Исаакий, – сказали они, – мы ангелы и вот идет к тебе христос – поклонись ему». Обольщенный затворник, не оградив себя крестным знамением, ни сознанием своего недостоинства, поклонился до земли бесовскому действию, как самому христу. Бесы воскликнули: «Ты наш, Исаакий, пляши с нами!» Они подхватили, его, начали им играть и оставили полумертвым» (М. Толстой). Превращений своих демоны достигают тем, что сгущают вокруг себя воздух, принимающий угодную им форму, или же, сперва создав эту форму из какого-либо элемента, они входят в нее, как душа в тело. И наконец, они могли вселиться уже в готовые, чужие тела и, овладев ими, пользоваться, пока надо, как собственными. Проникая таким образом в живые тела, они обращали людей и животных в одержимых, бесноватых. Но они могли проникать и в мертвые тела, которые, их силой, получали всю видимость и деятельность жизни. Данте, устами монаха-братоубийцы Альбериго ди Манфреди, рассказывает страшную судьбу политических предателей: души их мучатся в Птолемее, третьем отделении ледяного девятого круга, в то время как тела остаются еще некоторое время на земле, как бы живые, движимые и управляемые вселившимися в них демонами, и казнимый в аду человек не знает, что они творят от его имени и в его облике.
Rispose adunque: io son Frate Alberigo:
Io son quel delle frutta del mal orto,
Che qui riprendo dattero per figo.
Oh, dissi lui, or sei tu ancor morto?
Ed egli a me: come il mio corpo stea
Nel mondo su, nulla scienzia porto.
Cotal vantaggio ha questa Tolommea,
Che spesse volte l'anima ci cade
Innazi che Atropos mossa le dea.
E per che tu piu volontier mi rade
Le invetriate lacrime dal volto,
Sappi che, tosto che l'anima trade,
Come fec'io, il corpo suo l'e tolio.
Da un dimonio, che poscia il governa,
Mentre che il tempo suo tutto sia volto.
Страшную казнь эту считали изобретением Данте, но ему принадлежит только ее психологическое освещение. Мертвец, движущийся дьявольской силой – старинный гость демонологических легенд. Цезарий рассказывает мрачную историю, как в некотором монастыре появился клирик, певший удивительно сладким голосом, так что богомольцы, заслушавшись его, забывали о молитве. Но некий святой отшельник, послушав немного сказал: «– Это не человеческое пение, это голос проклятого дьявола!» – и произнес должные заклинания. Дьявол бежал от них из тела, которое он оживлял, а на церковном полу остался холодный труп давно умершего клирика. Фома Кантипратийский знал благочестивую деву, которую, когда она одна молилась в церкви, дьявол пробовал запугать, заставив двигаться покойника, положенного там в ожидании отпевания; но дева поняв, чьи это штуки, не растерялась, а дала покойнику хорошего тумака по голове, после которого бедняга, конечно же, уже не пошевелился. Наивному рассказу этому не трудно поверить, как далеко не единственному – даже и в новейшие времена – случаю, когда испуганные суеверы пришибали, таким образом, летаргиков и обморочных. Иаков из Вораджио[8] в «Золотой легенде» своей, пересказывает древнее сказание о дьяволе, вселившемся в тело мертвой красавицы, с целью соблазнить одного злополучного затворника, В «Небожественной комедии» Зигмунта Красинского, одном из гениальнейших творений европейского романтизма, с поразительной силой и красочностью изображен этот страшный процесс – переселение злого духа в прах мертвой красоты. В житии св. Гильберта дьявол, вселившись в покойника, снял перевоз через реку – с целью топить всех, кто ему вверялся; в другом житии, св. Одрана, дьявол поддерживал живым труп одного выгодного ему злодея. Богословы допускали подобные случаи, за исключением того, чтобы дьявол осмелился завладеть телом человека, скончавшегося в благости и в совершенном мире с церковью, а тем паче – мощами. Однако, на попытки к тому дьявол дерзал неоднократно. Известно апокрифическое сказание о споре между михаилом Архангелом и Сатаной из-за тела. Моисеева. Оно вскользь упоминается и в Новом Завете. (Соб. Посл, от ап. Иуды). Казуисты средних веков изъясняли, зачем дьявол добивался овладеть прахом пророка: вселясь в мертвое тело, он создал бы оракул и таким, образом увлек бы Израиль на путь волшебства и идолопоклонства. Эта церковная санкция одного из мрачнейших суеверий дорого обошлась многим летаргикам, вроде того, которого пришибла благочестивая дева Фомы Кантипратийского, и значительно содействовала распространению поверья об упырях и вампирах, которое даже в XVIII веке охватывало целые страны с силой почти эпидемической и, конечно, с самыми печальными, отвратительными и жалкими последствиями. С настоящим случаем – с оживлением трупа через вселение дьявола – вампиризм только внешне соприкасается кажущимся сходством, внутренний же смысл и генезис обоих поверий весьма различны.
Какие бы привлекательные и даже святые образы ни принимал на себя – дьявол, он, однако, не мог и в них избыть своего дьявольства. Даже облачаясь в образ прекраснейшей девушки, ангела, либо самой девы марии, самого христа, он выделял какие-то особые дьявольские флюиды, влияние которых и пугало человеческую природу, и сквозь восхищение и благоговейный восторг к оптическому обману визионер чувствовал сам себя не понимая, внутри души своей только необъяснимый страх, смятение и отвращение. Чувства Маргариты в присутствии изящнейшего адского князя, кавалера Мефистофеля:
Es steht ihm an der Stirn geschrieben,
Dass er nicht mag eine Seele lieben.
Mir wird's so wohl in deinem Arm,
So frei, so hingegehen warm,
Und seine Gegenwart schnurrt rnir das Innre zu.
Приближение дьявола было опасно даже, когда он маскировался привлекательно. По словам Цезаря, двое молодых людей заболели после того, как видели его в образе женщины. Но было убийственно, если он показывался в собственном виде или придумывал себе какую-нибудь чудовищную маску, достойную его адской изобретательности. Таким образом он умертвил многих уже одним своим появлением. Фома Кантипратийский говорит, что вид дьявола наводит на человека, оцепенение и немоту. Данте, в присутствии Люцифера, чувствует себя оледеневшим и слабым, – ни мертвым, ни живым:
Come io divenni allor gelato e fioco
Nol dimandar, lettor, che io non scrivo,
Pero che ogni parlar sarebbe poco.
Io non morii, e non rimasi vivo.[9]
Итак, бесконечны были превращения дьявола, бесконечны и обманы, в которые он, своими способностями оборотня, вводил людей. Но бывали святые мужи, – напр. св. Мартин Турский, – которые умели выводить его на чистую воду, распознавая решительно под всякой личиной. Тогда сконфуженный дьявол либо мгновенно исчезал, либо принимал свой всегдашний вид.







