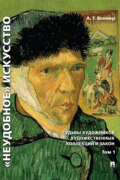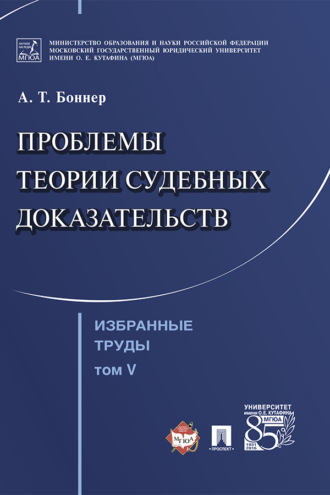
Александр Тимофеевич Боннер
Избранные труды: в 7 т. Т. V. Проблемы теории судебных доказательств
Вопрос: А откуда вам это известно?
Ответ: Это всем известно.
Вопрос: А что вам лично известно?
Ответ: Что всем, то и мне.
Вопрос: Может быть, он ей деньги давал?
Ответ: Может быть, и давал.
Вопрос: А вы видели?
Ответ: Нет, не видела. Это при свидетелях не бывает.
Вопрос: Так что же вам известно?
Ответ: Мне то известно, что всей квартире. Все говорили.
Таким образом, подтверждения конкретных фактов состояния заявительницы на иждивении умершего в показании свидетельницы не оказывается. Представитель налогового органа указывает в своем заключении, что свидетель сообщает суду не то, что ему лично известно, а слухи и суждения, исходящие от неизвестных лиц.
Допрос, произведенный другим представителем заявительницы (после отмены судебного решения вышестоящим судом), дал совершенно иные результаты. При этом представитель учитывал индивидуальные интеллектуальные и возрастные особенности свидетеля. На этот раз были поставлены следующие вопросы:
Вопрос: С кем бабушка проживала?
Ответ: С покойным жила, с Виктором Алексеевичем.
Вопрос: А где она работала?
Ответ: Она нигде не работала: она ведь старая и совсем больная.
Вопрос: На что же она жила? Ей родные помогали?
Ответ: Нет, родных у нее никого нет. Она только из его рук глядела.
Вопрос: То есть как это «из его рук глядела»? Что же, он ее кормил?
Ответ: Нет, кормить-то она его кормила. Он ей деньги на хозяйство давал, она все покупала и готовила и хозяйство вела, а он придет с работы, и они вместе кушают.
Вопрос: Да ведь вы не видели, как он ей деньги на хозяйство давал?
Ответ: Ну хоть бы и не видела. Да где же ей денег взять и хозяйство вести, и его кормить и себя? Она только за ним и жила.
В данном случае в результате умело построенного допроса были получены важные показания, положенные затем в основу судебного решения. Ясные и образные ответы свидетельницы были предопределены разумно поставленными вопросами, каждый из которых устанавливал отдельную бытовую деталь, а общая сумма этих деталей позволила сделать обоснованный вывод о состоянии заявительницы на полном иждивении умершего[115].
В начале допроса следует попытаться установить с допрашиваемым психологический контакт, а также выяснить отношение его к сторонам, а в необходимых случаях – род занятий и некоторые иные важные обстоятельства, характеризующие свидетеля, например состояние его здоровья. Хорошо ли видит и слышит допрашиваемый, все ли в порядке у него с памятью и т. п.?
Вопросы допрашиваемому по возможности должны быть сформулированы кратко и предельно четко. Сказанное вовсе не означает, что допрашиваемому непременно должно быть заранее ясно значение ответа на заданный ему вопрос. Порой правдивую информацию от допрашиваемого можно получить именно потому, что, понимая смысл конкретного вопроса, он не предвидит значения для разрешения дела своего ответа на этот вопрос.
В данном отношении интерес представляет случай, приведенный в книге известного дореволюционного судебного деятеля П. С. Пороховщикова (П. Сергеича). Крестьянка обвинялась в истязании своего ребенка. Допрошенный в качестве свидетеля отец, по характеру мягкий человек, давал уклончивые показания. Что же касается мальчика-потерпевшего, то, явно запуганный, он лгал, всячески расхваливая мать, и утверждал, что отец иногда больно бил его в пьяном виде, без всякой причины, мать же никогда не била, всегда «жалела». Как ни старался обвинитель, он не мог добиться правды от ребенка. Старшина присяжных спросил:
– Кого больше любишь, тятьку или мамку?
– Тятьку!
Вердикт присяжных был: «Да, виновна»[116].
В данном случае установить действительные обстоятельства дела помог внешне нейтральный, но на самом деле контрольный вопрос, сформулированный старшиной присяжных. Не подозревая о значении ответа на него, мальчик сообщил суду правдивую информацию, что в конечном итоге и предрешило исход дела.
Практика разработала, а теория сформулировала некоторые правила, которыми целесообразно руководствоваться при ведении допроса стороны или свидетеля.
1. Не следует спрашивать допрашиваемого об обстоятельствах, самоочевидных, бесспорно установленных или безразличных. Это пустая потеря времени.
2. Каждый вопрос должен быть основан на разумном расчете. Не следует задавать вопросов, когда шансы благоприятного для допрашивающего ответа незначительны.
3. Каждый вопрос должен иметь определенную цель. Не следует задавать стороне или свидетелю бесцельных, случайных вопросов. Если вы не продумали, для чего вы задаете вопрос, лучше воздержитесь от вопроса. На случайный вопрос может последовать только случайный ответ, который не приблизит вас к цели – установлению истинного факта, нужного для дела.
4. Допрашивающий должен уметь вовремя остановиться, поскольку чрезмерное усердие может причинить делу установления истины существенный, порой непоправимый вред.
Вот достаточно характерный случай из судебной практики.
Гражданин П. был сбит на улице автомашиной. Он лечился в течение шести месяцев, а по выздоровлении предъявил к автобазе иск о возмещении вреда, причиненного здоровью. Возражения автобазы сводились к тому, что потерпевший допустил грубую небрежность, так как переходил мостовую при красном свете светофора. В качестве свидетеля был допрошен сотрудник милиции, оказавший первую помощь потерпевшему и задержавший автомашину.
Судья: Как переходил истец улицу? При красном или при зеленом сигнале светофора?
Свидетель: При зеленом.
Представитель истца: Следовательно, истец имел право (!) переходить мостовую? (Вопрос бессмысленный. Представитель пытался выяснить общеизвестный факт.)
Свидетель отвечает на вопрос представителя истца утвердительно. Потерпевший мог переходить при зеленом сигнале. Но представителю и этого мало.
Представитель истца: Но вы твердо помните, свидетель, что был зеленый свет, когда истец переходил улицу? (Вопрос чрезвычайно вредный. Даже при утвердительном ответе на него доказательственное значение показаний свидетеля не изменится. Но может быть и худший вариант, что в конкретном случае и произошло.)
После некоторого размышления свидетель ответил следующим образом: «Как будто зеленый. Твердо теперь помнить не могу. Дело было полгода назад, а на нашем перекрестке этот случай был не единственный».
Таковы результаты чрезмерного усердия не владевшего искусством допроса представителя стороны. Достоверное и твердое показание свидетеля под влиянием неумелого допроса было, по существу, аннулировано[117].
К допросу участников процесса, как и к судебному заседанию в целом, следует тщательно готовиться. С учетом того, что допрашивающему известно об обстоятельствах дела и личности участников процесса, следует продумать, какие обстоятельства может сообщить то или иное лицо, в какой последовательности и в каких формулировках ему могут быть поставлены вопросы.
Показания свидетелей могут быть неправильными или недостаточно полными и в тех случаях, когда свидетель ведет себя вполне добросовестно. Свидетель может добросовестно заблуждаться, забыть тот или другой факт, ошибаться в значении виденного или слышанного. Иногда он не умеет передать то, что ему отлично известно. Неумело построенный допрос еще больше может запутать такого свидетеля. Разумно поставленные вопросы, напротив, помогают свидетелю дать верные показания. И в этих случаях вопросы надлежит ставить таким образом, чтобы, постепенно рассказывая обо всех деталях, из которых то или иное сообщение складывается, свидетель мог понятно и полно изложить суду известные ему обстоятельства.
Очень важно верно оценить показания свидетелей, в том числе имеющиеся в них противоречия. В некоторых случаях наличие такого рода противоречий свидетельствует о том, что кто-то из допрошенных лиц говорит неправду. Но нередка и другая ситуация, когда свидетели расходятся между собой в описании каких-то деталей интересующего суд события. Такие противоречия, напротив, могут свидетельствовать о добросовестности свидетелей. Человеческая память имеет свои границы. А время, прошедшее от исследуемых событий до судебного заседания, может стереть какие-то детали в памяти свидетеля.
К искажениям информации могут привести и условия, в которых свидетель воспринимал соответствующие факты (расстояние, на котором свидетель воспринимал событие, уровень освещения и т. д.). На полноту и достоверность восприятия человеком того или иного события способны повлиять также его личностные характеристики (пол, возраст, род занятий и т. д.), а равно его субъективное состояние в соответствующий момент – волнение, болезнь, утомление и др.
В качестве иллюстрации значения субъективного фактора на формирование свидетельских показаний можно привести забавный случай, много лет назад имевший место с одним из приятелей автора этих строк. В связи с некоторыми обстоятельствами житейского плана определенное время приятель жил без жены, что, вполне естественно, не могло не сказаться на характере его рациона. Обожавший мясо джентльмен вынужден был питаться главным образом в столовых, которые в советские времена в связи с дефицитом мяса часто вынуждены были устраивать так называемые «рыбные дни». Настрадавшийся в связи с отсутствием в меню предприятий общепита натурального мяса, мой приятель в один прекрасный день отправился на рынок. Купив кусок мяса, он обратился к пожилой раздатчице кафе, в котором нередко столовался, с не вполне обычной просьбой: поджарить к ужину принесенный им кусок мяса. Согласие было получено, и в приподнятом настроении любитель мяса через некоторое время прибыл в кафе, дабы поужинать. Однако на раздаче вместо пожилой дамы посетителей обслуживала юная особа. Просьбу отдать мясо девушка выслушала с явным удивлением и, попросив минуточку подождать, удалилась на кухню, из помещения которой до моего приятеля донесся следующий монолог:
«Девочки, как мне быть? Тетя Маша сказала, что мясо оставил молодой человек, а за ним пришел какой-то старый дядька!»
Если пожилой тете Маше мой приятель, находившийся в тот период в возрасте небезызвестного Карлсона, т. е. мужчины в самом расцвете сил, представлялся «молодым человеком», то юной особе любитель мяса показался уже «старым дядькой».
Приведенная житейская ситуация, кроме всего прочего, иллюстрирует следующее. Определенные, а порой и весьма существенные расхождения в показаниях свидетелей по поводу одних и тех же обстоятельств далеко не всегда являются признаком лжесвидетельства кого-либо из них. Расхождения в показаниях добросовестных свидетелей – вполне нормальное явление. И напротив, совпадающие в малейших деталях показания свидетелей, особенно если они разного пола, возраста, рода занятий и т. п., могут говорить о том, что суд имеет дело со лжесвидетелями.
Что же касается упомянутых непочтенных личностей, то их в наших судах встречается не так уж мало, но все-таки не так много, как это порой представляется непосвященным. На этот счет любопытное наблюдение имеется у В. Шалагинова: «У судьи вырабатывается со временем профессиональная чуткость к фальши. Бывает странное явление. Мерно течет речь свидетеля, истца, подсудимого, но вдруг в какой-то внешне ничтожной подробности судья улавливает фальшь. Так дирижер большого оркестра безошибочно различает неверное звучание отдельного инструмента, слышное, быть может, только ему. Трудно сказать, относится ли эта профессиональная проницательность судьи к области чувства. Скорее, здесь больше рассудка, рассудка, привыкшего мгновенно улавливать малейшее нарушение логики, хотя со стороны это и может создавать впечатление интуиции»[118].
При допросе свидетелей следует помнить о том, что мелкие придирки к расхождениям свидетелей в несущественных подробностях не способствуют установлению действительных обстоятельств дела, не убеждают суд в том, что свидетели дают неправильные показания.
При посещении бани у Р. украли одежду и обувь, в связи с чем он предъявил иск о возмещении причиненных ему убытков. Свидетели, вызванные судом по его просьбе, разошлись в показаниях по поводу отдельных деталей одежды, пропавшей у истца. В судебных прениях представитель ответчика, не признавая иска, подчеркивал разногласия в показаниях свидетелей, поскольку каждый из них по-своему описывал покрой и качество пропавшего пальто и костюма, качества обуви и т. д. Представитель истца на это ответил: «Я согласен с ответчиком, что свидетели разошлись в ряде мелочей. Это не потому, что свидетели лгут, а потому, что человеческая память искажает часто именно то, что мы видим повседневно. Если бы свидетели договорились заранее с потерпевшим, как думает представитель ответчика, они договорились бы о мелочах: всем известно, что об этом как раз и спросят на суде. Тогда свидетели не разошлись бы, конечно, ни в количестве пуговиц на пальто, ни в цвете пропавшей обуви. Попробуем, однако, согласиться с ответчиком: допустим, что свидетели не знают вещей, утраченных потерпевшим. Какой же вывод придется сделать из этого? Не хочет ли представитель ответчика и в самом деле сказать, что Р. пришел в баню в морозный зимний вечер без обуви и одежды? Едва ли будет разумно с этим согласиться»
Разумеется, с оценкой показаний свидетелей, предлагавшейся представителем ответчика, согласиться невозможно. В изложенной ситуации представитель ответчика мог оспаривать стоимость того или другого из утраченных предметов. В то же время заведомо бесплодной была его попытка использовать противоречия в деталях показаний свидетелей для того, чтобы отвергнуть эти показания в целом, а с ними и самый иск[119].
Одной из категорий дел, по которым суд достаточно часто сталкивается с существенными противоречиями в показаниях свидетелей, являются дела о признании завещания или иной сделки недействительной в связи с тем, что в момент ее совершения гражданин не был способен понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). Не такими уж редкими в судебной практике являются случаи, когда свидетели со стороны истца в один голос утверждают, что завещатель не понимал значения своих действий. Свидетели же со стороны ответчика уверяют суд в прямо противоположном. Так, в решении Красноперекопского районного суда г. Ярославля по такого рода делу, в частности, было записано следующее: «…суд критически относится к объяснениям истца, к показаниям свидетелей Р. и Х. в части, противоречащей объяснениям ответчиков. Объяснения истца и вызванных по его инициативе свидетелей (Р. и Х.) противоречивы даже по своему содержанию. Так, истец и его жена указывают на то, что Р. после инсульта не разговаривала, была недоступна контакту и неадекватна, однако сами же поясняют, что она после инсульта разговаривала, не узнала истца и назвала его именем племянника»[120].
В то же время судебной практике известны и многочисленные случаи иного рода, когда, отвергая показания тех или иных свидетелей, суд не дает себе труда обосновать, почему он не доверяет показаниям этих свидетелей. Особенно такая порочная практика характерна для рассмотрения уголовных и административных дел. Некоторые «перлы» представителей отечественной фемиды, пытающихся обосновать, почему они доверяют или не доверяют тому или иному свидетелю, иначе как смехотворными назвать нельзя. Так, в постановлении о наказании за якобы совершенный административный проступок многострадального Гарри Каспарова судья Т. В. Неверова дала следующую «оценку» показаниям старшины милиции Иванова, дававшего явно ложные показания об обстоятельствах задержания диссидента: «Оценивая показания свидетеля Иванова В. В., суд находит их достоверными, поскольку Иванов В. В. находился при исполнении служебных обязанностей»[121].
Ошибки при оценке показаний свидетелей нередко допускают суды первой инстанции и по гражданским делам. Так, по конкретному делу Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ вполне обоснованно обратила внимание на следующее: «Критически оценивая показания свидетелей по делу, со ссылкой на то, что они являются субъективным мнением, суд в то же время не указал, какими иными доказательствами, собранными по делу, опровергаются данные показания свидетелей. Суд не учел, что свидетели по делу в результате стечения обстоятельств воспринимают факты, имеющие значение для правильного разрешения спора, и являются носителями информации об этих фактах. Свидетели не высказывают суждения, включающие субъективную оценку относительно данных фактов.
Из положений статьи 69 Гражданского процессуального кодекса РФ следует, что свидетели не являются субъектами материально-правовых отношений и, в отличие от лиц, участвующих в деле, не имеют юридической заинтересованности в его исходе.
Между тем в нарушение статьи 198 Гражданского процессуального кодекса РФ в решении суда отсутствуют доводы, по которым суд отверг факты, изложенные свидетелями по обстоятельствам дела, кроме того, в решении суда не указано, в чем выражается заинтересованность свидетелей в исходе дела»[122].
В заключение еще раз подчеркнем, что при исследовании и оценке показаний свидетелей непременно следует также учитывать их индивидуальные особенности. Так, английский юрист XIX века Р. Гаррис специальную главу своего блестящего руководства по ведению гражданских и уголовных дел посвятил типам свидетелей и указаниям о приемах их перекрестного допроса. В частности, автор выделял следующие типы свидетелей:
Лжец; Зубастый свидетель; Неподатливый свидетель; Нерешительный свидетель; Нервный свидетель; Хитрец; Свидетель, который частью говорит правду и частью лжет; Решительный свидетель; Свидетель «складная душа», соглашающийся со всяким, кто задает ему вопросы; Правдивый свидетель; Щетинистый свидетель; Сыщик по призванию.
К каждому из перечисленных типов свидетелей и конкретному свидетелю допрашивающий, если он желает способствовать установлению действительных обстоятельств дела, должен подобрать особый подход, учитывающий психологические особенности конкретного свидетеля[123].
В качестве «замечательнейшего», по его мнению, примера не так уж редко встречающихся свидетелей-лжецов Р. Гаррис приводит дело знаменитого Claimant (истца) Артура Ортона и его сообщника лжесвидетеля Люи[124].
Показания свидетелей суд оценивает каждое в отдельности и в совокупности с другими исследованными по делу доказательствами, руководствуясь положениями ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ. В данном отношении определенный интерес представляет следующее дело.
Приказом генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация “Иркут”» инженер отдела 42 В. был уволен с работы за систематическое неисполнение трудовых обязанностей и допущенные прогулы. В связи с этим уволенный обратился с иском к ОАО о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарных взысканий, а также о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, причиненного незаконным увольнением.
В исковом заявлении В., в частности, указал, что прогулов он не совершал, и в обоснование своего утверждения просил о допросе ряда свидетелей, а также представил адресованную его непосредственному руководству объяснительную записку. Решением Иркутского областного суда в иске В. было отказано.
Отклоняя кассационную жалобу В. и оставляя решение Иркутского областного суда без изменения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в своем определении верно обратила внимание на следующее.
В материалах дела имеется объяснительная записка истца о месте его нахождения и выполненной работе 28 февраля 2001 г.
На этой же объяснительной имеются записи свидетелей Калинчева Н. А., Апарина А. С., Шутова В. А., Тараканова А. М. о том, что в течение рабочего дня 28 февраля 2001 г. они видели В. на его рабочем месте.
Суд обоснованно критически оценил показания указанных свидетелей, которые не отрицали, что такие записи они сделали на объяснительной истца после ознакомления с ее содержанием, а в судебном заседании дали непоследовательные показания.
Начальник управления режима Ведерников В. В. в судебном заседании пояснил, что при беседе с ним в марте 2001 г. по фактам прогула истца 28 февраля и 2 марта 2001 г. указанные свидетели не могли конкретно что-либо объяснить. Этого обстоятельства в суде вышеуказанными свидетелями не отрицалось.
Свидетель Купцов Ю. В., непосредственный руководитель В., показал, что 28 февраля 2001 г. на работе в течение всего рабочего дня он истца не видел и, несмотря на его требования, объяснений по этому поводу В. до издания приказа не давал.
При таких обстоятельствах суд сделал правильный вывод о совершении истцом прогула 28 февраля 2001 г. Правильным является и вывод суда о совершении прогула истцом и 2 марта 2001 г.
Данный факт подтверждается свидетелями Рябец А. А. и Сергеевым А. С., показавшими, что 2 марта 2001 г. с 14 до 17 часов они не могли получить аппаратуру, закрытую в помещении истцом. После 16 часов свидетель Тараканов сообщил им, что В. с работы ушел. Таким образом, оценив показания свидетелей Калинчева Н. А., Апарина А. С., Шутова В. А., Тараканова А. М., каждое в отдельности и в совокупности с другими исследованными по делу доказательствами, суд первой инстанции признал их недостоверными. Событий, о которых они записали на объяснительной записке истца и о которых показали в суде, свидетели на самом деле не наблюдали[125].
При оценке показаний свидетелей, в том числе имеющихся в них противоречий, суд должен, кроме всего прочего, учитывать характер их отношений со сторонами, а также разного рода субъективные особенности конкретного свидетеля. Так, в суде рассматривалось дело по иску Полянского к Полянской о признании брака недействительным. Свидетель Буравова С. Н. в судебном заседании 14 февраля 1995 г. показала, что свадьба соседа Полянского Ю. Л. была очень странной. И после свадьбы истец всю работу по дому продолжал делать сам. Она никогда не видела, чтобы ответчица стирала либо убирала в квартире. За квартиру платил Полянский. Свидетель никогда не видела, чтобы стороны вместе куда-либо ходили, даже в магазин. У свидетеля сложилось впечатление, что брак с целью создания семьи заключался лишь одним Полянским Ю. Л.
Позднее ответчицей было представлено адресованное суду заявление свидетеля Буравовой С. Н., датированное 10 апреля 1995 г. В заявлении содержалась просьба еще раз допросить ее в судебном заседании, так как свои показания 14 февраля 1995 г. она якобы давала «под давлением истца Полянского Ю. Л.». Несмотря на то что подача такого рода заявлений ГПК РФ не предусмотрена, суд приобщил заявление к материалам дела и просьбу свидетеля удовлетворил. При повторном допросе свидетель дала противоречивые показания. С одной стороны, она пояснила, что в судебном заседании 14 февраля 1995 г. она «не давала ложных показаний», т. е., по существу, их подтвердила. С другой же стороны, С. Н. Буравова заявила, что ее прежние показания были даны под влиянием истца, с которым у нее «отвратительные» отношения, а с Ольгой, т. е. с ответчицей, напротив, «хорошие».
На этот раз свидетель показала, что супруги Полянские «вместе ходили по магазинам. Оба стирали белье. Ответчица варила варенье».
Оценивая показания свидетеля Буравовой С. Н., суд в решении записал следующее: «В показаниях… свидетеля имеются определенные противоречия, однако эти противоречия не носят принципиального характера. Ответчица Полянская О. В., которая в течение нескольких месяцев проживала в коммунальной квартире, не могла с определенной периодичностью не стирать своих личных вещей. Могла она варить и варенье. Однако это вовсе не означает, что с истцом ответчица вела общее хозяйство. В то же время суд не может не отдать предпочтения показаниям свидетеля, данным в судебном заседании 14 февраля 1995 г. Они последовательны, логичны, находятся в полном соответствии с иными материалами дела. Что же касается позднейших показаний Буравовой С. Н., то они находятся в определенном противоречии не только с ранее данными ею показаниями, но и с иными добытыми по делу доказательствами, из которых со всей очевидностью следует, что общего хозяйства стороны не вели. При оценке показаний этого свидетеля суд не может не учитывать также ее испортившихся отношений с истцом, а равно возраста свидетеля. По мнению суда, только возрастом свидетеля, которой исполнилось 85 лет, объясняются некоторые фантастические утверждения С. Н. Буравовой. Они заключались в том, что истец “похищает у нее продукты”, а у покойной соседки по коммунальной квартире якобы “украл вставную челюсть”. И с оценкой судом показаний свидетеля Буравовой С. Н. трудно не согласиться».
В заключение данного раздела книги позволим себе привести обширную цитату из блестящей работы П. Сергеича (П. С. Пороховщикова) «Уголовная защита». Впервые опубликованная свыше ста лет тому назад, в 1908 г., она до сих пор не утратила своей актуальности в связи с наличием в ней ряда весьма ценных советов, помогающих юристу правильно работать с судебными доказательствами.
«Можно ли изобличить недобросовестного свидетеля», – вопрошает П. Сергеич? Чтобы справиться с ловким лжецом, надо обладать и проницательностью, и находчивостью. Этому научить нельзя. Но существует прием, нередко достигающий цели и при некотором навыке доступный всякому. Свидетель удостоверяет известное событие. Ряд быстрых вопросов о месте, времени и участниках происшествия не может затруднить его, если он показывал о том, что было. Но если он лгал, ему придется измышлять ответ на все новые вопросы; а при этом условии немногие сумеют уберечься от противоречия. Он понимает, что ему нельзя останавливаться, чтобы сообразить, не окажется ли его ответ несогласным с тем, что им сказано ранее, и это сознание может выдать его. «Предположим, – говорит английский адвокат Кокс, – что свидетель показал, что в такой-то день он имел такой-то разговор с известным лицом. Вы не можете опровергнуть этот факт непосредственно; ему стоит только настаивать на своем заявлении, и сколько бы ни продолжался допрос, он ни к чему не приведет. Но трудно предположить, чтобы такой свидетель сумел предусмотреть все возможные подробности события. Спросите его, где происходил разговор? В котором часу? Кто еще присутствовал при свидании? Сидели или стояли разговаривавшие? Откуда пришел свидетель к месту встречи? Кого встретил по пути? Во что был одет? Во что был одет его собеседник? Громко или тихо шел разговор? Ели, пили ли собеседники, и что именно? Не входил ли кто-нибудь во время разговора? Сколько времени они провели вместе? В каком направлении разошлись? С кем встретился свидетель на обратном пути? Когда пришел домой? и т. д., смотря по обстоятельствам. При этом следует по возможности спрашивать о таких подробностях, о коих уже упоминалось в других показаниях. Этим путем вам иногда удастся изобличить лжеца не только его собственным противоречием, но и устами других свидетелей. Когда такие вопросы сменяются с надлежащей быстротой, свидетель не имеет возможности приспособлять ответы к своему первоначальному рассказу. Вопросы не должны, конечно, следовать в естественном порядке обстоятельств места и времени: свидетель тогда будет лгать так же легко и быстро, как вы будете его спрашивать. Спрашивайте вразбивку так, чтобы предыдущий вопрос отнюдь не намекал на последующий».
Эти указания, конечно, вполне применимы и у нас. Можно добавить, что в подобных случаях допустимы мимоходом и наводящие вопросы, если их разрешает председатель. Представим себе двух лжесвидетелей в таком же положении, как изображено выше.
Доведите свидетеля до непринужденной, пожалуй, дружеской беседы с вами и спросите:
– Ну что ж? Немножко закусывали при разговоре?
– Как же, закусывали, – почти всегда ответит свидетель.
– А что кушали?
– То и то.
– Немножко и водки было?
Вероятно, окажется и водка. Дальше будет легко спрашивать: откуда была водка? кто принес? где купили? кто подавал? сколько выпили? сколько заплатили? и т. д. Приведите и другого собеседника в столь же благодушное состояние и спросите:
– Что ж? Разговор без всякого угощения был или самовар поставили?
Или свидетель запнется, или на столе окажется самовар.
– А не было ли водки?
Этот вопрос надо задать таким тоном, по указанному выше общему правилу, чтобы свидетелю показалось, что водка для защитника нужна. Тогда ответ будет:
– Водки не было.
Если ответ будет более удачный (для свидетеля), те же вопросы о том, кто пришел? откуда? и проч., наверное, приведут к противоречию между свидетелями. Не следует только начинать вопросов со слов: «Не помните ли, свидетель?», как принято у нас. Свидетель, разумеется, говорит: «Не помню». В книге Гарриса подробно разобран и тот случай, когда «вымышленное обстоятельство бывает вплетено по уговору свидетелей в ряд действительных событий»[126].
В тех случаях, когда вымышленное обстоятельство бывает вплетенным по уговору свидетелей в ряд действительных событий, задача участника процесса – гражданского, арбитражного или уголовного – как раз и заключается в том, чтобы помочь суду разобраться, в каком фрагменте показаний свидетеля идет речь о действительных, а в каких – о вымышленных обстоятельствах дела. Не последнюю роль в этом играет правильно избранная участником процесса (в первую очередь представителем стороны – адвокатом) тактика допроса свидетеля.