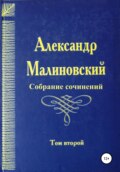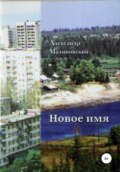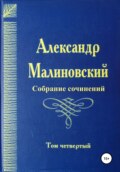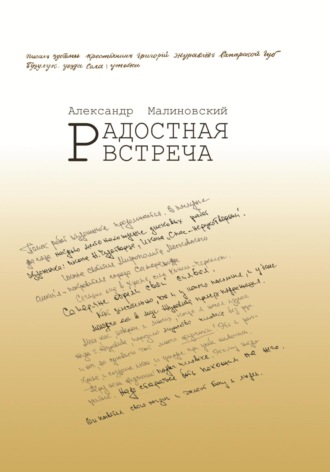
Александр Станиславович Малиновский
Радостная встреча
В школьном музее
…Ребятишки, прознав, что в школьном музее появилась боевая сабля, организовали набег. Но неудачно: школьное начальство приняло меры – музей временно закрыли. Экспонаты разнесли по разным закуткам. Потом многие из них исчезли. И теперь я держу в руках лишь худенькую папку с материалами о художнике.
Увы, такая вот судьба, как это ни печально, уготована всем любительским музеям. Либо их разграбят, либо случится пожар. Или, по недомыслию маленького, но непобедимого чиновника, будет что-то перемещено, переоборудовано, перевезено, просто утрачено или выброшено во имя других, мнимо больших и важных дел. И ни копий вам, ни репродукций.
Я не виню школьное начальство, и сам-то во многом опоздал.
Подлинные экспонаты должны храниться в государственном музее. Там они защищены значительно надёжнее.
Похвальны, конечно, усилия членов историко-краеведческого кружка Утёвской средней школы по увековечению памяти своего земляка. Усилия похвальны, а результат? Собрать в одно место, чтобы потом одним махом всё сразу развеять по ветру… Конечно же здесь сработала подспудно и атеистическая пропаганда. Учитель, однозначно, должен был быть у нас неверующим, а тут заниматься с ребятами «иконописцем», «богомазом»? Непрестижно всё это было, непонятно официальным властям. А представить Григория Журавлёва без его икон невозможно!
Напрасно я пытался отыскать хотя бы нечто, похожее на опись того, что хранилось в школьном музее и что было туда передано после смерти Кузьмы Емельяновича. Этого нет. Более того, меня повергло в уныние, когда я узнал, что залежи переписки краеведа Данилова с земляками, выпускниками школы, организациями районного и союзного масштаба были просто выброшены как ненужные. Человек много лет вёл интенсивную работу по сбору сведений об известных земляках – и всё пущено по ветру. Выходит, напрасно целые поколения школьных краеведов трудились над сбором материалов. Ребята давно выросли. Другие теперь заботы у Любы Распутиной, Вали Коротковой, Лены Подусовой, Лены Бакановой – былых активисток краеведческого музея. Я представляю их состояние, когда они, придя в школу, вместо музея увидели то, что от него осталось: тоненькая чиновничья папка с помятыми листочками.
Кого обвинять в содеянном? Кузьма Емельянович! Вы мечтали открыть музей в левой половине дома, где жил Григорий. И не успели этого сделать.
Может, нам повезёт больше, чем вам.
«Утёвская мадонна»
У этой иконы – особая история. В шестидесятых годах я впервые увидел её фотокопию, сделанную жителем села Утёвка, выпускником средней школы Владимиром Игольниковым. Годом позже увидел и сам оригинал. Мне кажется, душа художника-самоучки более всего проявилась в этой небольшой картине-иконе. Тогда я впервые услышал, как её называют в народе: «Утёвская мадонна».
На иконе небольшого формата изображена крестьянка в белом платке с младенцем на руках. Лицо простое, типично заволжское. Большие тёмные глаза. На губах чуть наметившаяся улыбка. Нет ни тени церковности. Но всё же она воспринимается как икона.
Насколько я понимаю, на Руси иконы не придумывались иконописцами. Они являлись миру. И уже потом эти явления разворачивались рукотворно в искусство, тиражировались и т.д. Эта икона Григорию Журавлёву явилась, это чувствуется. Уже потом может, он как художник додумывал детали. Но святое отношение к женщине-крестьянке – это от природы его.
В этом слиянии канонизированного и простого, осознанно или нет, заложена (как мне показалось) позиция обострённо чувствующей жизнь души. Надо сказать, что из всех приписываемых кисти Журавлёва икон эта – единственная такого рода.
Весной 1991 года со съёмочной группой Самарского телевидения, окрылённый возможностью наконец-то запечатлеть эту икону и владелицу её на плёнку (мы готовились сделать небольшую телепередачу о Журавлёве), я постучал в слабенькую калиточку дома номер восемнадцать по улице Чапаевской. Из дома вышла такая же слабенькая, как калиточка со скрипучим голосом, пожилая женщина – Таисия Ивановна Подлипнова, моя бывшая школьная учительница математики. Оказывается, она дальняя родственница владелицы иконы Подусовой Александры Михайловны.
Я внутренне воодушевился. Мне везёт! Уж моя-то учительница даст нам рассмотреть всё подробнее и снять на плёнку. Но всё оказалось сложнее. Нас выслушали на пороге дома и сказали, что надо посоветоваться с другим родственником, который приехал из Самары. Вышедший во двор пожилой мужчина тут же заявил, что Александра Михайловна больна и в дом он никого не пустит. Вынести икону во двор, чтобы мы могли её посмотреть, он отказался. По всему видно было, что здесь последнее слово за ним. Мы сделали несколько попыток выяснить, когда можно будет посмотреть икону. Всё было безуспешно.
Помню отчаянную горечь в душе. Я привёз за сто вёрст съёмочную группу, знаю, что многие утёвцы очень хотят посмотреть эту икону, и ничего не могу сделать.
Мы тогда уехали ни с чем.
…И вот сегодня, 23 февраля 1992 года, я вновь у знакомой калитки. Меня манит этот дом. Не могу, приезжая в своё село Утёвка, не думать о Журавлёве и его «Мадонне».
Я пришёл один. Тайно надеялся, что одного да ещё в праздник меня встретят более приветливо. Не калитку, а дверь открыла незнакомая старушка. Пригласила в дом. В доме ещё двое: молодой человек и пожилой с приветливым лицом мужчина. Через минуту всё становится понятным. И я чувствую крайнюю досаду.
Оказывается, полгода назад Александра Михайловна Подусова умерла. Чуть позже умерла Таисия Ивановна Подлипнова. Встретившие меня приветливые люди – новые жильцы дома.
Упавшим голосом спрашиваю, не знают ли они что-либо о судьбе двух икон Журавлёва, бывших в этом доме, одну из которых называют «Утёвская мадонна».
Да, знают. Иконы забрал родственник из Самары, но адреса его у них нет…
Потихоньку затеялся разговор. Старушку зовут Елена Тимофеевна Мальцева, ей восемьдесят лет. Она певчая из церковного хора Троицкого храма. Пожилой мужчина – её сын. А вот младший из семьи, внук – псаломщик, Александр Евгеньевич Мальцев. Он служит в Троицком храме. Приехали они из Ташкента, где он и его бабушка служили в церкви Александра Невского. Пригласил их в Утёвку настоятель Троицкого храма отец Анатолий. Спрашиваю, не скучно ли после большого города жить в провинции?
Светлея лицом, старушка отвечает:
– А почему должно быть скучно? Я родилась и жила долго в тутошних местах, в Зуевке. Не стало здесь церквей, подалась по белу свету. А теперь у нас и родина есть, и храм.
Не скучно, как я понял, и мужчинам. Я успел, пока сидел в горенке, обогреться и телом, и душой. Настолько всё достойно и приветливо. А заодно и прошёл маленький ликбез о вере перед ликами святых, глядевших на меня со стен такой низенькой, но светлой избёнки.
Когда, прощаясь, поблагодарил за приём. Псаломщик сказал в ответ на моё «спасибо»:
– Во имя Бога.
Отрадная волна прошла в душе. Странно было. Я в который раз потерпел неудачу в своих поисках, но не было горечи. Не было и обиды на мою учительницу математики. Было такое ощущение, когда вышел на улицу, что я люблю весь мир, всех людей. Такими, какие они есть.
Шагая по морозному снегу, размышлял: кто же всё-таки Григорий Журавлёв? Что в нём главное?
Он – живописец. Житель и уроженец села Утёвка. А поскольку иконопись у нас в стране стала страницей истории, живописи вообще, то уникальный случай с Григорием Журавлёвым должен быть интересен не только его землякам, а и за пределами села.
Кроме всего, Григорий Журавлёв – это явление не только в иконописи, но и в истории Самарского края.
Закономерно, что ноги сами привели меня в дом отца Анатолия. И вот мы сидим за столом и ведём беседу.
…Оказывается, отец Анатолий бывал у владелицы иконы Александры Михайловны Подусовой. Видел «Утёвскую мадонну». Александра Михайловна ему говорила, что очень любит икону и бережёт её как семейную реликвию. Никогда её из дома выносить не давала. Хорошо помнила, как привозили Григория Журавлёва к ним в дом, когда он принимал заказ на икону. Его внесли и посадили за стол. Ребятню выпроводили на улицу, но она видела, как взрослые сидели за столом, разговаривали. Ей было тогда лет шесть, то есть это происходило в самом начале века… Запомнила, как забавно художник пил из стакана, беря его одними зубами!
Вот пока и вся история «Мадонны». Пока.
Я думаю, у неё будет продолжение.
Дом Журавлёвых
«Не в меньшей мере благородно поступил и Филипп Афанасьевич Гришаев. Дело в том, что он в 1928 году купил дом в селе Утёвка (Самарская улица), в котором жил и трудился до последних дней своей жизни Григорий Николаевич Журавлёв. Вместе с домом перешла в собственность Гришаева и икона работы Григория Николаевича. В беседе со мной Филипп Николаевич сказал, что икону с большим желанием отдаст в краеведческий музей.
Более того, он заявил, что ту половину своего дома, в которой жил и трудился Г.Журавлёв, согласен отдать под музей краеведения».
Это выдержка из статьи К.Е. Данилова, напечатанной в районной газете «Ленинский луч» 10 июля 1966 года, когда началась работа по сбору материалов о Григории Журавлёве.
Захотелось побывать в доме, где жил художник и откуда его провожали в последний путь.
…Стоит себе обычный для утёвских улиц пятистенный дом на Самарской улице под номером восемнадцать. Смотрит на улицу своими пятью окнами. Рядом, через дорогу, наискосок – Троицкий храм. Он возвышается величаво огромным сказочным шлемом древнего русича. Захожу в дом, здороваюсь. Нынешний хозяин его, старик Николай Андреевич Бокарёв, приветливо подаёт руку. Мы не знакомы, но, когда называю своего деда и отца, принимает как своего. В деревне так: вместо визитной карточки достаточно назвать имя твоего деда либо кого-то из родственников постарше тебя.
Дом крепкий, деревянный. Внутри разделён на две половины. Правая несколько больше – в три окна, левая – в два. В этой, левой, и жил художник. В правой – его брат Афанасий Николаевич. Светло. Солнечно. На стене фотографии. На одной – хозяин. Охотно говорит о Журавлёве. Но знает всё через третьи руки. Сменились несколько хозяев, и ничего ни в комнате, ни на «подловке», ни в подвалах из личных вещей Журавлёвых нет.
– А откуда, – спрашиваю, – знаете, кто где жил?
– Дак, старик Корнев говорил, он его помнит.
Удивительное дело происходит, когда собираешь материал в сёлах. Можно годами искать и не находить желаемое, а можно, споткнувшись о неожиданную фразу, сразу оказаться счастливчиком…
Далее я уже не мог быть спокойным. Попрощавшись, в сопровождении сына Бокарёвых шёл вдоль домов всё по той же Самарской улице. И наконец вот он, дом Корнева.
В гостях у старика Корнева
Это второй после моего деда Ивана Дмитриевича Рябцева человек, который общался с Григорием Журавлёвым и с которым мне довелось не спеша поговорить. Всю нашу беседу (она длилась около часа) я записал на магнитофонную плёнку и сейчас попытаюсь в этой главке дать основное. Это, может быть, несколько непоследовательно, так как я сохранил разговор без какой-либо обработки. Если читатель захочет послушать и голос рассказчика, и всё, что не попало в эту главку, то плёнка хранится в моём домашнем архиве, среди самых дорогих для меня вещей.
Завораживает голос не утомлённого жизнью девяностолетнего старика. Кстати, он не заметил и не понял, что я включил магнитофон. Потом мы вместе послушали запись. Она ему понравилась.
У меня была с собой фотография обоих Журавлёвых: Григория и его брата Афанасия. Афанасий сидит на стуле, Григорий стоит рядом, на своих култышках-ногах. Тёмная его рубашка свисает почти до пола. Сидящему своему брату Григорий, стоя, достаёт головой едва до переносицы. От фигуры художника, его взгляда исходит такое ощущение физической мощи и воли, что сразу вспоминаешь богатырский облик храма Святой Троицы и удивляешься их похожести.
Я молча показал фотографию Николаю Фёдоровичу. Он с ходу назвал обоих по имени-отчеству.
– Он лёгонький был, маленький. Его принесут мужики в церковь, он сидит и зорко на всех посматривает.
– А сколько вам было лет, когда Григорий помер?
– Я с тысяча девятьсот первого года. Вот, считай. Он умер в тысяча девятьсот шестнадцатом. Похоронили его около церкви в ограде. Там могила была. В ней уже были похоронены двое: церковный староста Ион Тимофеевич Богомолов и священник Владимир Дмитриевич Люстрицкий. Могилу разрыли и установили третий гроб.
– Большой гроб был?
– Нет, короткий гробик. Но широкий и высокий.
– Николай Фёдорович, а вы сами видели, как Григорий рисовал?
Старик опускается на колени перед стулом и поясняет:
– А вот так и рисовал. Держа кисть в зубах, стоял на полу перед маленьким особым столиком.
– Как же он обучался?
– Вначале земский учитель Троицкий помогал. В Самаре – художник Травкин. Мало ли добрых людей. Потом сам.
– Он рисовал красками?
– И красками, и углём. Писал всякие письма, прошения по просьбе сельчан. У него часто в избе кто-нибудь да бывал. Приветливый был человек!
– Ну, а как вот с бытом его, кто за ним ухаживал?
– Да ведь вначале матушка его, дед, а потом, до самой смерти – брат Афанасий. Он был искусный чеканщик. В столярной мастерской, которая от отца им досталась, он, брательник-то, мастерил деревянные заготовки для икон, готовил краски, мало ль чего ещё?.. Он вместе с Григорием обучался в Самаре. И в церковь, и на базар, и в баню, и на рыбалку, всё он – брательник его доставлял.
– А на чём возил его брательник?
– Были у него лошадь-бегунок и тарантас. Ему дал их самарский губернатор после того, как Григорий был у царя.
– Он был у царя?! Точно?
– Так говорили, и я слыхал. Утверждать не буду. Народ лучше знает. Дали упряжь, тарантас, лошадь и пожизненную пенсию. За что дали? Говорят, что рисовал портрет всей царской семьи. Каково! Хороший был мужик, Григорий. Его все любили.
– А за что любили?
– Весёлый был, шутить умел. Мужики, особенно певчие, рады были его брать с собой. Часто его уносили и приносили на руках. Раза два мы, ребятня, на Рождество ходили к нему славить. Интересный. Взяв в зубы пастуший кнут, размахивался и хлопал им с оглушительным звуком. Умел красиво, мастерски расписываться.
– Николай Фёдорович, как хоронили художника? С почестями либо кое-как?
– Что ты, мил человек, с уважением, с попами. Его все почитали. Я сам не видел, но говорили тогда, что он помогал строить церковь, расписывал её. Уважаемый человек.
– Кому помешала церковь, – спрашиваю, – коли её начали ломать, а иконы и роспись почти совсем уничтожили?
– Кому-кому? Время такое было. Мешала, видать, красота вершить неправедное. Укоряла молча. Её и того… в распыл, значит, за это.
От Николая Фёдоровича я впервые услышал, что в селе Утёвка были две действующие церкви. Потом в областном архиве я отыскал сведения об этом. Дмитриевская церковь, на месте которой позже возвели деревянное здание Дома культуры (его сейчас уже нет), была построена тщанием прихожан в 1810 году, а в 1870-1875 годах расширена. Здание было каменное. Каменными были колокольня, ограда и сторожка. Престола было два: главный холодный во имя Великомученика Дмитрия Солунского и придельный тёплый во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского.
Указом Священного синода от 4 марта 1885 года положено быть в ней двум священникам, дьякону и двум псаломщикам. Около этой церкви был большой базар. Храм Святой Троицы построили тщанием прихожан в 1892 году. Здание каменное, с такой же колокольней, холодное. Престол во имя Св. Живоначальной Троицы. При церкви была небольшая библиотека. В приходах имелись школы. При Троицкой церкви она была открыта в 1892 году. Школа грамоты при Дмитриевской церкви открыта была в 1895 году. Земско-общественная школа – в 1842-м. Всё село было разбито на два прихода. Оказывается, тот край села, который примыкает к реке Самарке, славен был богатыми купцами, торговавшими зерном. А доставляли зерно по реке Самарке на баржах. Сам старик Корнев несколько раз ходил этим маршрутом.
Припомнил он и такой эпизод: лопнул колокол в храме, заказали новый. Везли его от станции «Грачевка» до посёлка Красная Самарка на лошадях. Колокол весил двести пятьдесят два пуда двенадцать фунтов, другой поменьше – восемьдесят пудов.
Я было высказал сомнение по поводу веса колоколов, но старик уверенно его отклонил. От посёлка Красная Самарка колокол несли на руках. Вручную поднимали на колокольню. Желающих ударить в колокол было много. Каждый, кому посчастливилось это сделать, тут же жертвовал деньги. Звон новых колоколов слышен был в окрестных сёлах Бариновке, Покровке.
– Что двигало, – спрашиваю, – людей на такие труды? Ответ последовал такой, каким я его и ожидал:
– Вера!
* * *
…Конечно, можно предположить, что вокруг имени Григория Журавлёва сложилось немало легенд, и здесь надо всё внимательно отбирать. Но не могу не привести выдержки из документа, подписанного К.Е. Даниловым в июле 1975 года. Оставляю впрочем и за собой право на поиск более убедительных подтверждений изложенных фактов.
Вот эти строки:
«О необыкновенном художнике стало известно царствующей фамилии дома Романовых. В этой связи Григорий Николаевич был приглашён Николаем II во дворец…
Николай II пожизненно назначил ему пенсию в размере двадцати пяти рублей в месяц и приказал Самарскому генерал-губернатору выдать Журавлёву иноходца с летним и зимним выездами.
В последней четверти века (1885-1892) в селе Утёвка по чертежам и под непосредственным руководством Журавлёва была построена церковь, а также по его эскизам была произведена вся внутренняя роспись.
На пятьдесят восьмом году своей жизни Григорий Николаевич Журавлёв скончался от скоротечной чахотки и по разрешению епископа Михаила Самарской епархии похоронен в ограде церкви, которая явилась его детищем».
Думаю, что можно говорить не о «непосредственном руководстве Журавлёва» при постройке церкви, а о его непосредственном участии как художника.
…Бытует легенда (её мне рассказывали несколько человек), что по пути из Петербурга, где он писал портрет царской семьи по заказу царя, Григорий Николаевич попал к циркачам. Они возили его полгода по России. Показывали публике как диковинку. Еле вырвался…
По страницам газет
В разное время на страницах газет мелькали короткие, но сенсационные для рядового читателя сведения о художнике-самоучке. По сути, они повторяли одно и то же. С одной стороны, это объясняется тем, что мало в то время находили нового, с другой – естественным желанием новых людей, которые впервые близко прикоснулись к судьбе Григория Журавлёва, обнародовать, закрепить в газетной строке хотя бы то, что есть. Отсюда и перепевы.
Перечислю газетные статьи на 1990 год, в котором я начал писать эти заметки.
Можно думать, что одной из первых газетных публикаций в советское время была заметка в нефтегорской районной газете «Ленинский луч» от 25 мая 1966 года под названием «Письма из Югославии». Затем последовали: «Крупицы большого таланта» в той же газете от 10 июля 1966 года К. Данилова, «Григорий Журавлёв – живописец из Утёвки» в областной газете «Волжская коммуна» автора А. Праздникова от 5 февраля 1987 года и, наконец, «Забытое имя» в «Волжской коммуне» автора Р. Чумаш от 17 октября 1987 года. Номера этих газет сохранились в моём домашнем архиве. Была публикация в газете «Литературная Россия». Я её читал лично в присутствии К. Данилова, если не ошибаюсь, где-то в начале 1966 года. Этого номера потом я не нашёл3.
Впрочем и за границей была опубликована статья в издающемся в Белграде на материалах агентства печати «Новости» журнале «Земля Советов».
Я пишу эти заметки и ловлю себя на мысли, что вот где-нибудь подрастает молодой человек, в котором загорится искра, и ему, более усердному и удачливому, предстоит сделать больше, чем нам… Как сказал великий поэт: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся».
Заботы отца Анатолия
Он оказался очень молодым человеком, отец Анатолий (в миру Анатолий Павлович Копач). В первый день, когда мы познакомились, я его видел на богослужении и в светской одежде на строительной площадке. В храме работал только маленький придел с иконостасом, собранным с миру по нитке. Несколько икон возвращены из села Мало-Малышевка, куда они попали после закрытия утёвского храма. Когда-то в церкви Мало-Малышевки в военное лихолетье и я был крещён. Отец Анатолий назвал несколько икон, находящихся в иконостасе Троицкого храма, которые могут принадлежать кисти Журавлёва. При этом он сделал оговорку, что в написании некоторых из них и росписи на стенах храма художнику могли помогать его ученики. У Журавлёва их было двое. Икону «Господь Саваоф» принесла какая-то старушка и, не сказавшись, оставила в храме. Икона «Жены Мироносицы» привезена из села Мало-Малышевка. Рядом с ними находятся «Крещение Господне» и «Воскресение Христово». Икону «Царь Давид» с изображением псалмопевца Давида с арфой в руках подарил когда-то школьному музею Владимир Борисович Якимец, житель села Утёвка. Он утверждал, что она написана Журавлёвым. Икону «Спаситель Благословляющий» подарила Мария Пестименина, правнучка Ионы Богомолова – попечителя храма. С Марией Пестимениной меня познакомил отец Анатолий. Заказчик и исполнитель похоронены рядом. Храм строился двадцать лет. Иона Тимофеевич Богомолов, прадед Марии Емельяновны Пестимениной, был всё время его попечителем. Он умер в 1915 году, через год – Григорий Журавлёв. Семью Марии Емельяновны раскулачили, и она долго жила на чужбине. Но место захоронения своего прадеда помнила хорошо. И показала его нам с отцом Анатолием уверенно.
Она мне и разрешила порыться в жалких остатках архива, который когда-то собирал К.Е. Данилов.
Я сидел около раскрытого сундука с остатками пожелтевших бумаг, перебирал их, а она рассказывала спокойно и отрешённо, как их раскулачивали и высылали из Утёвки.
Потом, вдруг спохватилась, словно боясь, что второй такой встречи у нас уже не будет, позвала на улицу, к Храму. И там вновь мы оказались на месте, пока ещё никак не обозначенном, захоронения художника и попечителя.
– Ты знаешь, сынок, ведь, когда закрывали церковь, иконы со стен срывали баграми. Много икон увезли, никто не знает куда. Икону «Спаситель Благословляющий» Григорий писал по просьбе моего прадеда, народ её сохранил.
Пристально посмотрев мне в лицо, сказала:
– А ведь тех людей, которые баграми срывали красоту, святых наших, я знаю. Они живы. Прошлый раз на вечере в клубе в президиуме сидела одна старушка из Самары, как ветерана пригласили. Она была комсомолкой и орудовала тогда в храме с такими же. Хотела я к ней подойти спросить, чего же это она делала тогда и как она теперь живёт, да подумала: Бог ей судья.
Позже, уже в доме, священник за чаем рассказывал, что храм был закрыт в 1934 году. Отца Гавриила пытались брать несколько раз, но каждый раз звонарь при подъезде «воронка» успевал дать призывный звон и народ вставал на защиту своего священника. В конце концов верёвки звонарю обрезали. Отца Гавриила забрали. Старый храм сломали и сделали гараж. Новый же храм намеревались взорвать, разрушили верхнюю часть колокольни, но дальше почему-то отступили, ломать не стали. Не осталось и следов от церковной ограды, от колодца. Когда храм превратили в склад, тут уж красота не выдержала. Роспись стала осыпаться и большей частью пропала совсем.
– Собираемся восстанавливать церковную ограду, могилу Григория Журавлёва, – говорит отец Анатолий. – Обычно в храмах при строительстве предусматриваются подвалы, где хранятся иконы. Возможно, что-то при закрытии храма было спрятано там. Я разговаривал с прихожанами. Их родители свято верили, что всё вернётся на круги своя. О подвале знали только два-три человека, так что и его, и могилу теперь будем пытаться искать специальными неразрушающими методами. Нужна техническая помощь.
У священника много забот. Он депутат районного Совета, ездит по сёлам, старается как можно ближе быть к прихожанам. Его здесь любят.
У храма пока нет практически никаких подсобных помещений. Нет сносного освещения вокруг него. Но есть уже свой хор певчих, некоторые приезжают из села Бариновка. На прошлой неделе я попал в храм в родительскую субботу. Поминали усопших. Не забыли и Журавлёвых.
«У Бога все живы», – так меня поучали богомольные старушки.
«Как приду в церковь, поставлю свечку, помяну своих и – праздник на душе».
Моя матушка, Екатерина Ивановна Шадрина, тоже зачастила в храм.
– В душе что-то по-новому ворохнулось, – говорит она, светлея лицом.
«А я и помянуть не могу своего внучка-афганца: некрещёный он. Не Богов, значит, и – ничей», – услышал я на выходе из храма.
Какой политбеседой ответишь на это?
Спрашиваю отца Анатолия, как он относится к художнику Журавлёву.
– Иконопись – это служение Христу. Он не закопал свой талант, а оживотворил его и принёс на службу своему народу. Люди помнят это. Не скудеет рука дающего, она будет возблагодарена.
Чувствуется, молодой священник много читал, многое видит по-своему. Невольно сравнивая его со светскими сверстниками, натыкаюсь на мысль, что дремучее невежество наше в религиозных и экологических знаниях – это две составляющие того провала, который ведёт нас к уродству души и тела.
Во время нашего разговора раздался телефонный звонок. Отца Анатолия вместе с женой Ольгой приглашали в гости к себе домой знакомые.
На мой вопросительный взгляд ответил:
– Пастырь, не знающий свой народ, не пастырь.
Он считает, что в общении с людьми идёт взаимоочищение.
Горько переживает, что молодёжь погрязла в мате, скверне и прочих грехах. Разучилась деревня нормально разговаривать.
– Апостол послал своих учеников в дома прихожан и, если вас приняли, то способствуйте соединению с Богом.
Уже на ходу вспоминает, что времени остаётся мало, а он обещал к концу недели дать статью в районную газету. Озабочен, что запущено в селе кладбище. Кладбище – тоже сфера забот церкви. А на столе у него лежат листочки с эскизами памятника Григорию Журавлёву, которые нам предстоит обсудить.
Мария Фёдоровна Качимова, певчая из хора, рассказывала мне, что отец Анатолий в телогрейке на морозе освобождал забитые досками окна храма. Горы мусора, вывезенные с того места, где сейчас иконостас, тоже дело его рук. Конечно, пастырю сейчас трудно. Ему приходится самому заниматься стройкой и возрождением храма.
Я смотрел на прихожан в храме и думал: «Но ведь это одиночки. Их мало. Мало верующих осталось, а из тех, кто приходит сюда, много просто любопытных, неверующих. Какой же путь надо преодолеть отцу Анатолию, чтобы восстановить разлад между Богом и моими односельчанами? Сказал же Пушкин, которого я считал почему-то до того большим безбожником, что религия создала в этом мире искусство и поэзию, всё великое и прекрасное. Если это так и если не будет у религии будущего, что будет с нашей душой, с искусством? Со всеми нами?..»