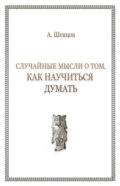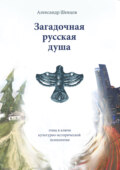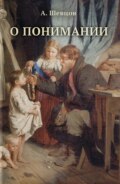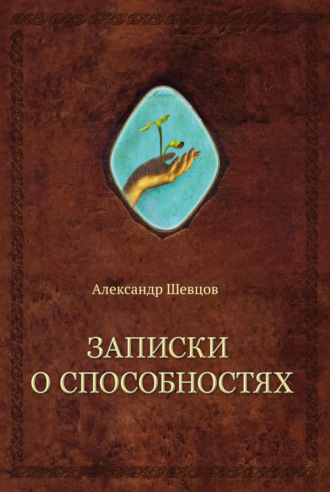
Александр Шевцов (Андреев)
Записки о способностях
Заключение
Новые русские способности
Новые русские учебники психологии либо повторяют хорошо забытые шутки советских психологов, либо, как делал академик Дружинин, вовсе выбрасывают этот раздел из своих учебников.
Тогда же, когда они вынуждены говорить о способностях, как тот же Дружинин в книге с названием «Психология общих способностей», о русской психологии способностей не говорится ничего, советской отводится страница, от силы две. Зато на всю большую книгу разворачивается то, что ввел в 1977 году академик Петровский – рассказ о том, как делают способности в Америке…
В целом же приводятся два определения способностей – Рубинштейна и Теплова. Иначе говоря, способности либо психические свойства, обеспечивающие успешность деятельности, либо это психические особенности личности, тоже обеспечивающие успешность.
Я же, на основании проделанного исследования, могу предположить, что тема эта так исхожена нашими учеными, что ничего нового, кроме давно забытого на Западе, они о ней сказать не могут. Предмет исчерпал себя, и даже непонятно, как защитить по нему диссертацию…
При этом непроизвольно рождается вопрос: есть ли вообще такой предмет психологии, как способность. Не является ли она предметом исключительно языковедческим, иначе говоря, не есть ли это лишь способ говорить о том, как личность может делать дела?
Однако я еще не заглядывал в то, что о способностях говорили раньше.
Слой второй
Исследования
Учебники, безусловно, – очень важное свидетельство того, как ученые представляют себе свой предмет. Но в учебниках помещается то, что готово для всеобщего употребления; кухня, где эти блюда готовятся, на общее обозрение не выносится. В сущности, в учебниках отражается либо общественный заказ, либо заказ Власти. А наука остается где-то внутри и довольно часто невостребованной.
Безусловно, наши советские ученые были «искренними марксистами», что значит, что они очень старались угодить властям. Но при этом они все же были учеными. А значит, должны были хоть как-то говорить и о действительности. В том числе, и о действительности способностей.
Искажения, вносимые идеологией, то есть дополнительными целями, не могли не накладывать свой отпечаток на их поиск, но поиск был. Искажения же не так уж сложно выделить в отдельные культурно-исторические слои, если понимать, ради чего они вносились.
Глава предварительная
Одаренность Гальтона
Наша современная научная психология не вырастала из русских корней, она – детище европейского духа. Как писал в 1999 году в самом начале своей «Психологии общих способностей» академик Дружинин:
«Практически все основные отрасли современной фундаментальной психологии возникли в конце XIX века: экспериментальная психология познавательных процессов – в работах Г.Фехнера, Г.Гельмгольца, И.Мюллера, дифференциальная психология – в работах Д.Кэттела, Ф.Гальтона, социальная психология – в работах Э.Дюркгейма, В.Вундта, В.М.Бехтерева и пр.
Не была исключением и психология способностей. Можно сказать, что экспериментальная психология способностей и психодиагностика – близнецы, а их отец – Френсис Гальтон…» (Дружинин,с.7).
Как к именитым иностранцам затесался рефлектолог Бехтерев, я не очень понимаю. Впрочем, он действительно пытался применить свой «энергетический монизм» к социальным вопросам, но чтобы считаться отцом-основателем социальной психологии!..
В общем и целом, русские мало что сделали для психологии и должны удовлетвориться ролью покупателей на этом рынке идей и книг. В отношении способностей вся наша психология так или иначе вырастает из трудов Гальтона (1822–1911), которого Дружинин считает гением. Поэтому, хоть с ним и спорили и даже отрицали, наших авторов стоит рассматривать в отношении к этому английскому исследователю.
Гальтон был двоюродным братом Дарвина, и под воздействием его теории видов, распределившей все существа по стреле естественного прогресса от примитивных к человеку, решил проделать сходную операцию с людьми, распределив их относительно врожденных способностей.
Свои первые публикации он осуществил в конце шестидесятых годов девятнадцатого века. Его слава началась в 1869 году с большого исследования «Наследственность таланта. Ее законы и последствия». В России она была издана в 1875 году с небольшими, но вполне оправданными сокращениями. В 1883 году Гальтон издает главный труд, который в том же году очень кратко пересказывается в журнале «Русское богатство» под названием «Исследование человеческой способности и ее развития».
Других публикаций гения и отца психологии способностей в России не было…
Это дает мне основание думать, что наши психологи плохо его знают, а если и знают, то либо читали его в оригинале, что сомнительно, либо по этим двум публикациям. Но вернее было бы предположить, что в самом начале психологи действительно читали эти два издания Гальтона, а потом они стали библиографической редкостью, а современные психологи читали не Гальтона, а то, что о Гальтоне писали их предшественники.
А что писали о Гальтоне наши ранние психологи? Итог спорам о Гальтоне подвел в 1984 году академик и директор Института психологии Академии наук Борис Федорович Ломов (1927–1989). В прекрасном исследовании сложностей современной психологии, очень полно описавшем всю правящую парадигму этой науки, – «Методологические и теоретические проблемы психологии» – он писал:
«В психологии сложились две диаметрально противоположные точки зрения по вопросу о сущности и происхождении способностей человека.
Одна из них, берущая свое начало от Ф. Гальтона, утверждает, что способности полностью определяются «генным снаряжением» индивида. Процесс их развития рассматривается лишь как развертывание генетической программы…
Позиция, объясняющая природу и развитие способностей человека полностью его генотипическими особенностями, не находит научного подтверждения и вызывает резкую критику со стороны не только психологов-марксистов, но и других прогрессивных психологов» (Ломов, с. 376–377).
Понятно, что после такого приговора психологи Гальтона могли чтить, но не читали… Тем не менее, именно перевод Гальтона стал культурным явлением в нашем психологическом сообществе и заложил определенный язык рассуждения о способностях, возможно, не очень соответствующий языку самого Гальтона. Поясню.
Нашим психологическим сообществом принято, как это видно в «Большом психологическом словаре» Мещерякова и Зинченко, узнавать «способности» в английских словах abilities, aptitudes, capabilities, а Гальтон использует слово faculty, что в гораздо большей степени означает дар, чем способность. Или, как дает Харрапский словарь английского языка – special ability, то есть особую способность.
Иначе говоря, Гальтон не говорит о способностях в том смысле, в каком их понимают современные психологи. Он говорит о чем-то своем, что лишь было понято так, как удобно науке.
Поэтому я рассматриваю эти русские переводы книг Гальтона как вполне самостоятельные от их автора произведения, и не важно, что в действительности хотел сказать Гальтон. Пока мне важно, как его понимали у нас.
Основные понятия своей «психологии способностей» Гальтон выложил в «Наследственности таланта». Ни о каких «генотипических особенностях» он там не говорит, хотя существуй это понятие в его время, наверняка так бы и сказал. Как он сам пишет в Предисловии, если верить переводчику, однажды он был поражен мыслью о том, «как часто способности, по-видимому, переходят по наследству» и «первый пытался разработать этот предмет статистически» (Гальтон, 1875,с.1–2).
Очевидно, что он говорит о тех самых «особых способностях» или даре, который, что особенно важно для Гальтона, делает человека выдающимся в глазах общественного мнения. Но пойду последовательно. Первая или Вступительная глава начинается с постановки задачи, еще очень близкой к той, что решал Дарвин:
«В настоящей книге я намереваюсь показать, что природные способности человека являются у него путем унаследования, при таких же точно ограничениях, как и внешняя форма и физические признаки во всем органическом мире.
Следовательно, подобно тому как, несмотря на эти ограничения, с помощью тщательного подбора нетрудно получить такую породу лошадей или собак, в которой быстрота бега представляла бы качество не случайное, а постоянное, или добиться какого либо иного результата в том же роде, – точно также было делом вполне осуществимым произвести высоко даровитую расу людей, посредством соответствующих браков в течении нескольких поколений» (т.ж.с.3).
Так начиналась естественнонаучная революция…
Способом выявления этой «особой способности», как я уже сказал, Гальтон избрал общественное мнение:
«В расположении моих доказательств я придерживаюсь следующей общей системы: прежде всего я стараюсь показать, что высокая репутация составляет довольно верное мерило высокой даровитости» (т.ж.с.4).
И далее он исследует несколько общественных слоев, от самого верха власти через судей до университетских гребцов, каждый раз пытаясь показать, что занятое ими место верно оценивает их дар. Возможно, это и верно, если только оставаться в рамках английской истории и не обращаться к собственной.
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
над нами царствовал тогда…
Какое количество одаренных русских людей не получило признания, было оттерто не только от власти, но и от того дела, которым хотело заниматься! Скольких людей несправедливо опозорили и стерли из исторической памяти даже тогда, когда Гальтон пишет эти строки. Чего уж говорить о советских временах!
Дар далеко не всегда получает справедливую оценку общественного мнения, а чаще остается им просто незамеченным. Особенно это видно сейчас, когда те, кто рвутся к власти, вовсе не заинтересованы ничем, кроме битвы за места. И все, что можно сказать про тех, кто получил признание общественного мнения сейчас, что у них точно какая-то особая способность, весьма особый дар, без обладания которым в эту грязь ни один человек с душой не сунется!
Когда задумываешься о природе того «особого дара», который может рассчитывать на признание, невольно приходит мысль, что мы живем в двойном мире. В одном живут люди, в другом – существа с особыми способностями, которые рвут этот мир на куски. Оказаться «пригретым славой» в таком мире можно лишь нечаянно…
Тем не менее, для Гальтона «возвышение человека над общим уровнем других людей может считаться мерилом природной даровитости» (т.ж.с.7). И это определенно означает, что он говорит не о способностях, а о вполне определенной «особой способности», позволяющей «классифицировать людей по их репутации».
Тем не менее, Гальтон наблюдал и умел наблюдать. Многие основания его рассуждений взяты из жизни, и их нельзя было не учитывать:
«Я совершенно не допускаю гипотезы, иногда высказываемой прямо, а еще чаще подразумеваемой, преимущественно в рассказах, писанных для назидания детям, которая утверждает, будто все родятся на свет почти одинаковыми и что единственными факторами, создающими различие между тем и другим мальчиком или тем или другим взрослым человеком, являются прилежание и нравственные усилия над собою.
Я самым безусловным образом отвергаю предположение о природном равенстве между людьми…
Я вполне признаю важное значение воспитания и различных общественных влияний на развитие деятельных сил ума, так же как я признаю действие упражнения на развитие мышц руки кузнеца, – но не более» (т.ж.с.15).
Я определенно знаю про себя, что, сколько бы ни упражнялся, никогда не смогу стать великим музыкантом или пловцом. Есть вещи, которые мне не даны, хотя я мог бы развить в себе некоторые способности и в этих делах, вкладывайся я в их развитие. И это тоже наблюдение над действительностью. Мы не равны.
Признание этого факта разрушает здание естественной науки, хотя и не с очевидностью. Но именно в ответ на такое утверждение и была последователями Гальтона разработана теория генетических особенностей, утверждающая, что все различия лежат в телах, точнее, в генах.
Как видите, сами ученые пришли однажды к выводу, что это неверно. Должно быть что-то еще. Для меня это что-то вне тела, я психолог и ищу ответов в душе. Гальтон был поражен успехами естественной науки, поэтому, обнаружив, что ответы не в теле, он сбегает в статистику. Она чем-то подобна идеальному миру сознания…
Он обнаруживает, что одаренность можно оценивать в баллах, как это делалось в его время на экзаменах по математике, и принимается считать, благодаря чему рождается метод тестов, столь излюбленный нашими психологами, поскольку создает иллюзию объективности. То есть бездушности…
Другой важнейшей заслугой Гальтона можно считать то, что он ввел понятие «специальных способностей», подхваченное наукой. Но ведь используемое им слово и так означало специальную способность. Специальная специальная способность не могла быть простым понятием. Поэтому в определение стоит вчитаться:
«…как мало отличие, достигаемое в одной из названных областей, или в какой-либо другой отрасли умственной деятельности, может считаться результатом чисто специальных способностей. Эти способности во всех приводимых нами примерах являются скорее результатом соединения усилий разносторонних дарований, которыми были наделены такие люди» (т.ж.с.25).
Термин «специальные способности», безусловно, был заимствован последующей психологией у Гальтона, но вот понятие в него вложили иное и очень примитивное: есть общие способности, и есть способности, соответствующие специальным видам деятельности. Они-то и называются специальными.
Русский язык не выдерживает выражений, вроде «специальные виды деятельности». Это не по-русски! Значит, явное заимствование. И очень простенькое, даже примитивное заимствование. Специальная деятельность – специальные способности!
А что говорит Гальтон? Что у людей бывают особые способности, некий дар. Но и его бывает недостаточно, чтобы занять выдающееся место в какой-либо отрасли умственной деятельности. Для этого надо сочетание особых способностей, то есть даров. Именно такое сочетание даров и называет он Особой способностью.
Очевидно, эта мысль была для него самого открытием, поразившим его воображение. Поэтому он посвящает способностям, в смысле faculties, то есть особых даров, исследование, вышедшее в 1883 году и в тот же год кратко изданное в России в журнале «Русское богатство». В переводе оно называлось упрощенно, но странно «Исследование человеческой способности и ее развития». Почему не способностей?
Потому что переводчик чуял, что речь идет не о способностях, как таковых, а именно о той самой особой способности занимать выдающиеся в общественном мнении места. Это исследование Гальтон начинает с утверждения, продолжающего предыдущую книгу:
«Богатство нации именно и состоит в разнообразии типов и способностей у элементов, входящих в ее состав» (Гальтон, 1883, с.367).
Иначе говоря, богатеет та страна, которая раскрывает не свои недра, а те дары, что скрываются в людях. В этой работе Гальтон придумал новые объективные методы исследования человека. К примеру, именно там он рассказал, что можно выводить некий исходный физический облик нации, накладывая фотографии разных людей одну на другую. Так стираются различия и выводится некое усредненное лицо…
Гораздо важнее, что именно здесь психология способностей впервые заговорила о деятельности или «способности к работе»:
«…Гальтон переходит к исследованиям энергии, которую он определяет, как «способность к работе». Она есть мера полноты жизни; чем больше энергии, тем больше обилие жизни, и, наоборот, идиоты слабы и ленивы.
Гальтон упоминает, что в своем исследовании «о наследственности таланта», он уже доказал, что люди мысли получили свой дар замечательной энергии по наследству от отцов и дедов. Теперь он убедился в том же, относительно людей других профессий.
«Энергия есть атрибут (принадлежность) более высокой расы и ей благоприятствует естественный подбор, более всех других качеств. Это свойство должно быть более всего развиваемо в человечестве с целью улучшения расы» (т.ж.с.370-1).
Энергия, конечно, очень ученое словечко. Мы бы сказали, жизненная сила или работоспособность. Но в сущности это одно и то же. Главное, что Гальтон опять прав в своем наблюдении. Лев Толстой не зря сказал однажды, что гений – это один процент одаренности и девяносто девять труда, иначе, работоспособности.
Дар надо развивать. Для этого надо гореть и много трудиться.
У Гальтона было много ошибок, он напрочь не отличал инстинкт от культуры и воспитания, но вопросы, поставленные им, до сих пор не отвечены, а значит, остаются вехами на том пути, который вынужден будет проделать всякий, кто захочет раскрыть свои способности.
Глава 1
Эндопсихика Лазурского
Ученики Александра Федоровича Лазурского (1874–1917), видные наши психологи Мясищев, Ананьев считали, что именно он был основателем советской психологии способностей. В действительности, Лазурский писал о личности, о характерах, но не писал о способностях. Нужно проявить немалое желание и сообразительность, чтобы найти у него учение о способностях.
Я воспользуюсь подсказкой Б.М. Теплова, которую тот дает в работе 1941 года, где он довольно жестко выявляет ошибки Лазурского:
“Но принципиальная его ошибка и здесь заключается в стремлении рассматривать “отношения” и “наклонности” (последнее понятие у Лазурского приблизительно соответствует обычному понятию способности) независимо друг от друга. “Наклонность” – понятие центральное для эндопсихики…” (Теплов, 1982, с. 134)
Что такое эндопсихика Лазурский изложил в работе, с названием “Классификация личностей…” Зачем нужно классифицировать личности, Лазурский не объясняет, и остается только предположить, что он, вслед за Гальтоном, задумал сделать в психологии то же самое, что и Карл Линней в растительном мире, а Дарвин в животном. Без четкой постановки прикладной задачи, ради которой нужно хорошо различать виды личностей, такая работа, скорее всего, будет бессмысленной.
Тем не менее, она была сделана. Исходное положение всей этой классификации, явно относит ее предмет к числу биологических наук:
“В основу нашей классификации положен принцип, огромную биологическую и философскую важность которого едва ли кто-нибудь станет отрицать в настоящее время, именно принцип активного приспособления личности к окружающей среде, при этом понятие “среды” берется нами в самом широком смысле этого слова, включая сюда, следовательно, не только вещи, природу, людей и человеческие взаимоотношения, но также идеи, духовные блага, эстетические, моральные и религиозные ценности и т. п.” (Лазурский, 1982, с. 180).
Эта сама собой разумеющаяся “важность для биологии” показывает, что Лазурский в данном случае не психолог, хотя и пишет о личности. В этом он сильно напоминает своего учителя Бехтерева и предшественников – Павлова с Сеченовым, для которых психология была своего рода анекдотом, по странной случайности родившимся в недрах физиологии. Все, что требуется от такого исследователя, – честно служить своей госпоже, засовывая непокорную голову науки о душе обратно в вещество.
Естественно, понятие о способностях и даже одаренности было у Лазурского вполне биологизаторским:
“Приспособление человека к окружающей среде может быть более или менее полным, глубоким и всесторонним, причем степень и объем этого приспособления определяются, с одной стороны, благоприятными или неблагоприятными внешними условиями, а с другой (и это самое важное) – тем прирожденным запасом физических и духовных сил, который в общей своей совокупности носит название “степени одаренности” (там же).
Запас физических и духовных сил есть степень одаренности. Это Гальтон с его энергией, которая и есть главная способность, которую следует развивать в нации. Такое впечатление, что Лазурский не хотел отдавать должное предшественнику, и потому так невнятен в определении целей, ради которых разрабатывает свою классификацию. Но в целом он явно продолжает работу, начатую Гальтоном.
“Анализируя и сравнивая между собой те бесконечно разнообразные по содержанию и по степени сложности проявления, из которых строится наше представление о человеческой личности, мы можем разбить их на две большие группы. Во-первых, проявления, свидетельствующие о большем или меньшем развитии у данного человека тех или иных психологических (психофизиологических) элементов личности, а также о способах взаимного соединения этих элементов… Такого рода проявления мы будем называть в дальнейшем изложении эндопсихикой, так как они выражают внутреннюю взаимозависимость психических элементов и функций, как бы внутренний механизм человеческой личности” (там же, с. 181).
Термин “эндопсихика” Лазурский придумал вместе с Семеном Франком в 1912 году, а вот “внутренний механизм личности”, похоже, его собственное изобретение. Увидеть личность в виде механизма можно лишь в том случае, если ты всего человека видишь биомашиной. Либо ты хорошо понял природу мышления, осознал, что оно отличается от разума тем, что состоит из жестких образцов и из них же создает личность.
В силу такой своей природы, личность оказывается действительно машино-подобным устройством в нашем сознании. Но Лазурский в такие тонкости не вдавался. Он был последователем французских материалистов, и для него машиной был сам человек.
Это значит, что когда Лазурский говорит, что “эндопсихика составляет ядро человеческой личности”, – он говорит, что ядром человеческой психологии является механизм. И он вместо души.
Но что такое этот механизм? Из чего он состоит, что в него входит и как он работает? Лазурский не говорит об этом, но из некоторых его высказываний можно сделать вывод, что это как раз способности.
“Отношение между личностью и окружающей ее средой, а вследствие этого и отношение между эндо- и экзопсихическими элементами личности бывает на разных уровнях далеко не одинаковым…
Подчиняя себе слабую, разрозненную психику малоодаренного человека, среда накладывает на нее свой отпечаток, насильственно приспосабливая ее к своим запросам и требованиям и очень мало считаясь с эндоособенностями каждого отдельного индивидуума.
Благодаря этому часто получается значительное несоответствие между основными задатками и способностями данного человека, с одной стороны, и усвоенными им профессиональными навыками, взглядами и способами деятельности – с другой” (т.ж., с. 186–7).
Иными словами, среда может искажать судьбу человека, записанную в виде задатков и способностей, заставляя его жить и заниматься не тем, для чего он был предназначен.
Люди более сильные “обладают гораздо большей способностью приспособиться к окружающей среде, найти в ней свое место и использовать ее для своих целей. Более сознательные, обладающие большей работоспособностью и инициативой, они выбирают себе род занятий, соответствующий их склонности и задатками…” (т.ж., с. 187).
Хочется отбросить все эти чрезмерные эндосложности и сказать проще: те, у кого больше силы, способны остаться верными самим себе, несмотря на давление внешней среды. Но в таком случае оказываешься перед вопросом: что же есть я сам, которому стоит оставаться верным? Те самые задатки и способности? Но тогда это нечто гораздо большее, чем предрасположенность к какой-то деятельности.
Это даже не охватить понятием судьбы. Точнее, это судьба, вписанная в меня, как в книгу, которую я должен прочитать своей жизнью…
Лазурский, точнее его теория эндопсихики, была разгромлена в 1941 году Тепловым, который прямо заявил, что “никаких эндопсихических, то есть чисто внутренних проявлений личности, содержания которых не определялось бы отношением человека с тем или иным объектом действительности не существует” (Теплов, 1941, с. 134).
Что значит, что все внутреннее, то есть как раз задатки и способности – плоды внешних воздействий.
Лазурский определенно был в чем-то не прав. Точнее, истина была где-то за его представлениями, но в какую сторону надо было идти, чтобы ее нащупать? Прочь от энодопсихики или, наоборот, сквозь нее? И сквозь биологию?
Для такого пути способности надо было признать чем-то, что существует в нас до деятельности, хотя и может быть раскрыто с ее помощью. Но если что-то существует до деятельности, оно существует до рождения. А это опасно, это может привести к душе.
Советская психология шла в другую сторону.