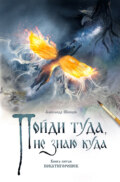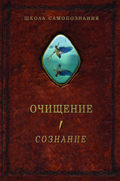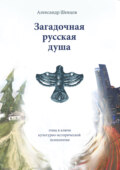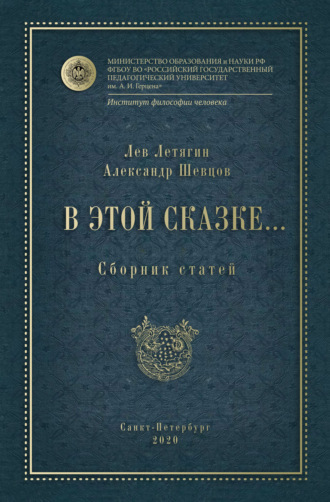
Александр Шевцов (Андреев)
В этой сказке… Сборник статей
Избушка Бабы-яги
Этот разговор об особенностях русской волшебной сказки я бы хотел начать с одного психологического наблюдения, хотя оно может быть основанием и для некоторых философских обобщений в рамках современной теории познания.
Наблюдение это, на первый взгляд, вполне житейское: очень часто у нас отсутствуют вопросы там, где им полагается быть. Я это вижу даже так: есть места, предназначенные для вопроса. В сущности, там уже стоит вопрос, но мы его не задаем. Выглядит это как места в мире, но думаю, они в нашем сознании, в Образе мира.
Более всего это похоже на ту психологическую слепоту, которая создается под гипнозом: человека усыпляют и внушают, что, проснувшись, он не будет видеть одного из присутствующих. Так называемое, постгипнотическое внушение. Его будят, он просыпается и не видит этого человека, который стоит, к примеру, у окна. Но когда испытуемому предлагают подойти к окну, так что по пути он обязательно столкнется с невидимкой, он его обходит!
Этот маневр кажется странным, даже ему самому. Поэтому, когда испытуемого начинают расспрашивать, почему он так ходит, человек начинает придумывать самые неожиданные объяснения и даже лжет о том, что у него закружилась голова или он хотел что-то рассмотреть на стене сбоку.
Это искусство рационально объяснять свои странности необходимо разуму, чтобы сохранить уверенность в своем здоровье. Иначе он попадет в состояние стресса, который сильно осложнит жизнь. Можно назвать это защитным механизмом сознания.
Но странности загипнотизированных очевидны и бросаются в глаза. А вот то, что мы по жизни постоянно не видим вопросов там, где они должны быть, совсем не очевидно. Но стоит только допустить, что эти вопросы уже есть, что они прямо перед нашими глазами, когда мы хотим подойти к некоему «окну», но мы их не видим, как беспокойство просачивается в душу.
В этом мире повсюду расставлены вопросы. Те, кто их видит, находят окна, двери и пути. Остальные становятся жертвами мошенников и обходят «пустые места», но придумывают рациональные объяснения, чтобы не бросались в глаза ни их странности, ни то, что они живут хуже, чем могли бы.
Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Иначе говоря, сказка исходно создается для обучения, и, как я полагаю, изменила человеческий разум не меньше, чем наука, появившаяся на пару тысяч лет позже.
Как сказка меняла разум человека современного вида, предмет особого исследования. Но на примере сказки можно видеть вопросы, которые есть, но не задаются нами. А значит, можно учиться вообще видеть «пустые места», где прячутся невидимки, по всей нашей жизни.
Вот пример такого очевидного вопроса, который мог бы задать любой русский человек, потому что это «пустое место» знают все. Герой волшебной сказки отправляется в свой поход, въезжает в дикий лес и подъезжает к избушке Бабы-яги. И дальше он должен сказать:
– Избушка-избушка, встань по-старому, как мать поставила: ко мне передом, к лесу задом!
И избушка поворачивается, чтобы наш Иван мог в нее войти.
Уже в «Морфологии сказки» (1928 г.) В. Я. Пропп убедительно доказал, что волшебная сказка рассказывает о молодежной инициации, используя инициационные мифы. То есть о том, как подростков в возрасте 12–16 лет отправляли в лес для обретения волшебных помощников, чтобы получить права взрослого, то есть стать полноправным членом общины, жениться и сесть на царство, то есть стать хозяином собственного дома.
Сказочная избушка Бабы-яги имитирует «лесной дом» инициаций, который должен «проглотить» юношу, как страшное чудовище. Его даже плели из сучьев и веток так, чтобы он был похож на зверя или змея, откуда у избушки птичьи лапы.
Если не забывать, что отголоски обряда дожили в русской глубинке до двадцатого века, что зафиксировано этнографами, то его участники – простые деревенские парни. И вот рождается первый вопрос: они что, не видели изб? Никогда в них не входили и не знают, как это делается? Они не подходили к избам с задов или не с той стороны, где вход, не обходили и не входили в двери?
Иначе говоря, почему надо требовать, чтобы избушка повернулась, а не обойти ее? Этот вопрос очевиден, он напрашивается, он тут есть! Но мы все спокойно принимаем, что «так надо»! И это отношение к необъяснимым странностям переходит у большинства из нас в жизнь.
А вот такой сильный исследователь, как В. Я. Пропп, разглядел и задал этот вопрос. Он оказался способен видеть странность в привычном и вгляделся в «пустое место».
«Но отчего же не обойти избушки и не войти с той стороны? Очевидно, этого нельзя. Очевидно, избушка стоит на какой-то такой видимой или невидимой грани, через которую Иван никак не может перешагнуть. Попасть на эту грань можно только через, сквозь избушку, и избушку нужно повернуть, «чтобы мне зайти и выйти» (Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – СПб.: Изд. СПБУ, 1996, с. 59).
Избушку нельзя обойти. Сказка определенно об этом знает, хотя и не считает нужным говорить. Наверное, для тех, кто ее создавал, это еще само собой разумелось. Этот лес, на границе которого стоит избушка, непроницаем, как стена. Пройти в него можно, только повернув избушку. Это не лес, а, как говорит сказка, «тьма кромешная».
Нет таких лесов на Земле. Значит, перед нами иносказание, которое нечто скрывает. Пропп предполагает, что это мир мертвых, где живут ушедшие предки, щуры или пращуры, которые, как известно, помогают своим живым потомкам, оберегают их. Но это и место обитания просто духовных сил и сущностей, могущих вредить, но и оберегающих нас. Поэтому они и могут быть волшебными помощниками сказки.
Таким образом избушка не просто вход в мир мертвых, в этом я не согласен с Проппом, но место перехода в Мир иной или даже в Иные миры. Впрочем, Пропп сам это говорит, может быть, не осознав до конца:
«Отсюда хижина имеет характер прохода в иное царство» (т. ж. с. 64).
Это «иное царство» русских волшебных сказок оказывается местом «шаманских» путешествий наших предков. Туда ходят за силой и особыми способностями. Этот взгляд на лесную избушку и сам лес после Проппа стал общепринятым в науке в силу своей очевидности.
Очевидно и то, что все искатели мистических откровений и сил рассматривают те миры, что открываются герою сказки в лесу, чуть ли не охотничьими угодьями. А множество шаманов, колдунов и магов только что организованные туристические группы туда не водят. Впрочем, и одиночки пытаются проникнуть в эти царства на свой страх и риск с помощью ЛСД, психоделических грибов, медитации или религиозных практик.
В мир волшебных сил пролегает нахоженная тропа и идет она именно через тот поворотный пункт, который называется в сказке избушкой.
Но именно перед этой очевидностью, перед этим окном в мир волшебных сил, я ощущаю пустое место, взывающее к вопросу.
Вопрос прост: через эту избушку пролегла тропа в иные миры, и наши герои постоянно туда ходят. А ходит ли через нее кто-нибудь оттуда в наш мир?
И первое, что рвется: нет, мы такого не знаем! То есть мы, конечно, можем домысливать что угодно. Но знает ли об этом сказка? Рассказывает ли она не только о пути туда, но и о пути оттуда? Однако этот вопрос не просто требует способности видеть то, что не видят другие. Для ответа на него нужно определенное знание сказки и способность вести рассуждение.
Начну с рассуждения: если мы действительно хотим учиться у сказки, она не должна быть ложью во всех смыслах, она должна хранить какие-то древние знания. А это значит, что сказка для нас опирается пусть на иной, мифологический, но действительный образ мира, и должна либо допускать, что дорога всегда ведет в обе стороны, либо иметь объяснения односторонности движения.
Таким образом, этот вопрос не случайный. И не будем забывать разработанное А. Ф. Лосевым понятие абсолютной мифологии: научная картина мира – это ведь тоже определенная мифология!
Этот вопрос имеет отношение к онтологии самого сказочного пространства и позволяет рассматривать мифологический образ мира как архаичную часть сознания современного человека. А это значит, что мифологический образ мира должен быть вполне совместим с естественнонаучной, физической картиной мира.
Как магия задала когда-то основные понятия науки, так и мифологический образ мира живет внутри физической картины мира, делая ее полноценной. И он важен для современного человека, поскольку позволяет решать определенный вид задач, которые уже недоступны современному разуму.
Безусловно, это важный и даже философский вопрос, но его надо рассматривать особо. В рамках же этого исследования достаточно будет сказать, что эта дорога в иные миры вполне хоженая и населенная. И не надо будет долго сидеть на ее обочине, чтобы увидеть, как мимо проплывает какая-нибудь тень из иного мира, решившая поохотиться в нашем.
Но сначала надо настроить видение. Поэтому зададимся следующим вопросом: что обнаруживает наш герой, пройдя сквозь избушку или опустившись в какое-нибудь провалище?
Сказка говорит: а там мир как мир, солнышко светит, люди живут. Также он находит разные царства, в них царицы или царевны, на которых можно даже жениться. Люди как люди, разве что можно их вместе с царством свернуть в колечко…
Это рассказывает сказка. А что говорят этнография и миф? А вот они видят то же самое несколько иначе. В этнографических записях, вроде быличек, человек может попадать к лесным людям, но пока он не вошел в их мир, они для него звери или птицы. А вошел – и это такие же люди, как и он сам. И то же самое мы обнаруживаем в архаичных мифах разных народов.
Иными словами, человек, родившийся в животной среде, долго осмысливал свои отличия от животных, больше обнаруживая сходство. И далеко не сразу он начал бороться со своей животной природой, что для нас уже совершенно естественно. Вероятно, это заслуга античной философии, откуда было позаимствовано христианством.
Но мифологическое мышление вовсе не так надменно по отношению к нашим животным предкам. Оно однозначно считает, что человек происходит из животного мира, разные народы от разных животных предков, разных зверей и птиц: кто-то дети бизона, кто-то – люди выдры. И гордится близостью к ним, как греки гордились родством с богами.
Впрочем, и греческие боги легко обращались в разных животных, как обращались ведические боги индуизма или боги германской Эдды. Так что мы можем предположить, что человекоподобный облик они тоже принимали постепенно, а где-то в истоках могли быть и животными, даже если миф и забыл об этом.
Почему-то сказковедение не очень охотно глядит в эту сторону. И А. Афанасьев, создавая свою классификацию сказок, выделяет раздел сказок о животных как своего рода забавных баек для самых маленьких. Но не выделяет раздела мифологических сказок, то есть сказок, не имеющих классических черт волшебной сказки, а при этом являющихся более древними, чем сказка.
А между тем, сказки о животных – это отнюдь не шутки и не анекдоты. Вероятно, это древнейшая часть всего сказочного корпуса, осколки мифов, сохранившиеся с самых первых времен.
Так вот, если мы примем, что, проходя в пространство дикого леса, герой должен обнаружить там то, что естественно для леса, то есть зверей, то видение там людей станет лишь способом объяснить необъяснимое, то есть рационализировать необъяснимые странности.
Разум объясняет невидимок, которых мы обходим, чтобы не сойти с ума. И так же он объясняет то, что способен понимать своих звериных предков и говорить с ними тем, что они тоже «людя». Именно эта способность разума позволять понять превращение всего во все.
Это очень сходно с тем, как разум переворачивает изображение на сетчатке глаза. Известно, что на сетчатку изображение попадает перевернутым. Но видим мы окружающее не вверх ногами, Разум исправляет ошибки оптики, переворачивая изображение и читая его так, чтобы оно соответствовало окружающим вещам.
Однако, когда в ходе экспериментов людей заставляли долго ходить в переворачивающих изображение очках, разум однажды подстраивался и переворачивал его, так что мир снова становился привычным. Зато без очков человек начинал видеть мир перевернутым. Впрочем, недолго. Разум вскоре снова подстраивался под действительность.
Вот так и восприятие звериных миров. Попадая туда, герой сказки, былички или мифа сначала видит зверей зверями. Затем изображение «переворачивается», и он начинает видеть их людьми. Но стоит отойти подальше, и люди оборачиваются, то есть превращаются обратно в зверей.
Однако и звери тоже могут оборачиваться в людей. Например, лягушка, если будет выполнен обряд оборачивания, может стать царевной. А лебедушки, прилетая купаться на заповедные луга, могут обернуться девицами, если скинут свое оперение. Иными словами, сказка знает, что звери также оборачиваются в людей.
Похоже, это очень древнее наблюдение, потому что волшебство происходит, если приглядеться к языку, как вращение: обернуться, обратиться, оборотничество, превратить, превращение. Для мифологического мышления вещь или сущность, даже знакомые нам, одновременно есть нечто иное. Иное в нем присутствует постоянно, но с некой другой стороны. Надо только уметь его видеть и поворачивать нужной стороной к восприятию.
Попробуем проделать упражнение настройки восприятия. Для этого примем очевидное условие: в лесу живут не люди, а звери. Но звери эти – те же люди, только до вращения. Что может быть осью вращения? Ось может быть внутренней, и тогда человек должен перекувыркнуться через голову. Или внешней, тогда кувыркаться надо через нож или пенек. Можно просто удариться о землю, хотя это «просто», конечно же, совсем не просто.
Похоже, избушка тоже может быть осью. Но эта ось вокруг, как ступица колеса, она не просто вращается, она вращается с героем, после чего он получает доступ в лес, как в мир, в котором живут другие людя.
Сказки о животных описывают мир, где живут звери до обращения в человека, но живут они людя как людя. Поэтому, читая сказки, к примеру, про лису и волка, мы узнаем в их поведении совершенно человеческие черты. Обычно это воспринимается как остроумное народное иносказание. Вот короткий вариант всем знакомой сказки «Лисичка-сестричка и волк», у Афанасьева No№ 1–7:
«Ехал лесом мужичок со снетками. Лисица накрала снеточков у мужика, склала в кувшинчик, да и села под стог пообедать. Бежит голодный волк.
«Кума, кума, что ты ешь?» – говорит он, увидав лису. «Снеточки», – отвечает она. «Дай-ка мне!» – «Сам налови». – «Да я не умею», – говорит волк. «А вот кувшин, надень на хвост, да и пусти в прорубь». Послушался волк, а лисица говорит про себя: «Ясни, ясни на небе звезды! Мерзни, волчий хвост!»
Сама побежала в деревню, попалась в одной избе в квашню головой и подняла тревогу. Бежит лисица из деревни прямо на волка, а за лисицей народ. Волк от страху ну рваться, а хвост-от примерз; насилу полхвоста оторвал. Нагоняет волк лисицу в лесу, а та прикинулась хворой. «Ах, кум! – говорит. – Всю головушку избили, мочи нет идти». – «Так садись, кума, на меня», – говорит волк. Вот и едет лисица на волке, сама попевает: «Битый небитого везет!» – «Что ты, кума, говоришь? – спрашивает волк. «Брежу, куманек!» – отвечает лисица, а сама, воровка, допевает: «У битого гузка болит!»
Вот те сказка, а мне кринка масла».
Записей этой сказки много. Она была широко распространена, и поэтому ее знали разные сказители и много рассказывали. Но и много забывали. Это признак древности, когда-то миф был полным. Благодаря этому его можно восстановить целиком.
В более развернутом варианте, у Афанасьева это номер первый, все начинается с того, что живут в доме дед и бабка, и однажды бабка берется печь пироги, а дед отправляется, условно говоря, из дома в лес за добычей – ловить рыбу.