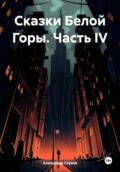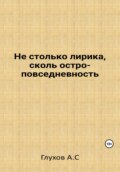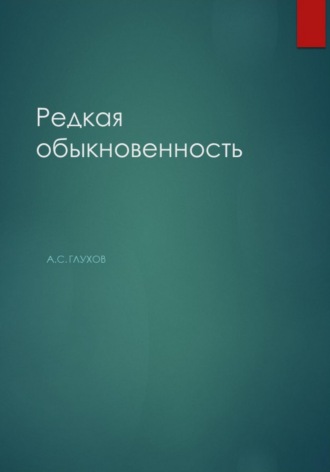
Александр Сергеевич Глухов
Редкая обыкновенность
Как осознать душе и телу,
Среди бесчисленных явлений,
Что жизнь бесследно пролетела
Для многих тысяч поколений?
Темными вечерами поздней осени, под угрюмые завывания ветра, или монотонный шум дождя за окном, лежа(обычно) на диване, я мечтал написать рассказ о моем хорошем знакомом. Одолевали меня эти мысли и фантастически длинными вечерами раннего русского лета, где-нибудь на даче, либо у костра (люблю, грешным делом, посидеть у огонька, под жужжание комаров и щебет птиц среди юной зелени). Таких вечеров почти нигде не встретишь. Немного похоже в Канаде и Скандинавии, ну, отчасти в Шотландии и Дании…
С утра начиналась повседневная жизнь, она затягивала своими нескончаемыми проблемами и все писательские потуги забывались, или откладывались. Так проходили месяцы и годы, планету сотрясали катаклизмы и локальные войны, интернет захватывал мир, а телевидение все больше деградировало. Оставалось с грустным сожалением признать неосуществимость затеи… Но жизнь! Неожиданный зигзаг, с кульбитом, предоставил мне массу свободного времени. Первые два года своего вынужденного безделья, я усиленно отсыпался. Звучит странновато, но часов по пятнадцать, а то и все восемнадцать проводил в постели, причем, реально спал. Мне удалось до такой степени выспаться, что отступили даже тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, вернулся юмор, а интерес к жизни вспыхнул с новой силой. Сдружился я к тому времени с двумя юными стариками (пенсионерами) Сергеем Михайловичем Румянцевым и Александром Васильевичем Глаголевым, в просторечии Серегой и Саньком. Их жизнерадостность и юморная языкастость не признавала ни каких границ. Серега знал сотни, а то и тысячи озорных эпиграмм и четверостиший, сам нередко сочинял. Мне рифма также не чужда. Бывало, он начнет, я продолжу. Санек больше слушал, да посмеивался. Множество хулиганских частушек и стишков (полуматерно-сатирических) выдали мы дуэтом. Потом стал сочинять один, даже составил маленький сборничек: «Откровения из барака, сарая и прочих шалашей». Однако по прошествии маленького промежутка времени понял, что одного юмора маловато, тесно мне в нем. За месяц было написано «Плавское Евангелие» – полушутливая поэма, хорошо встреченная слушателями и несколько стихотворений. Промелькнули еще два месяца. Жгучее желание написать в прозе о моем приятеле, захватывало меня все сильнее. Посоветовавшись с моими старичками и получив их одобрение, я приступил к повествованию…
Его звали Виталий Михайлович Королев. Сын агронома и санитарки психоневрологического интерната, он родился вторым ребенком в семье (была еще старшая сестра), когда председателем президиума верховного совета СССР досиживал престарелый маршал Ворошилов. Вскользь заметим, что девичья фамилия матери Виталика звучала почти величественно – Кутузова.
Заранее прошу извинение за склонность отвлекаться в сторону, увы, имею такую слабость – сообщать попутные детали.
День его рождения – 10 июня. Отцвели сады, облетела сирень. В парке – бывшем имении князей Оболенских поднимался на крыло выводок птенцов и шумел пионерский лагерь. Два общественных сада, один – школьный, другой – интернатский- послесталинская всеобщая мода, радовали глаз юными зелеными яблонями и грушами…
Конец пятидесятых – короткий промежуток, но целая эпоха в сознании страны, которая называлась тогда Советским Союзом. Целинная помпа потихоньку сдувалась. Строился грандиозный Байконур, каскады гидроэлектростанций, возводились домны и «хрущевки» – символ того времени. Сергей Павлович Королев приступил к «лунной программе» и пилотируемой космонавтике, для чего привлек будущего знаменитого конструктора – двигателиста Алексея Михайловича Исаева. В спорте блистали Гарринча и юный Пеле, Игорь Тер-Ованесян и Юрий Власов…
А на улице Перспективной, где поселился наш герой, не было ни одного старика. Это не информация к размышлению и не предложение делать выводы, а обычная констатация факта. Вот старушек, тех хватало. Вечерами они усаживались на лавочки и что-то долго и не слишком громко обсуждали. По всех улице слышались детские голоса. Народ собирался в доме шеф повара интерната Анатолия Сергеева смотреть единственный на улице телевизор, еще с линзой перед экраном, привезенный из Москвы его мудрой и доброй тещей. Повсюду пели свежую на то время песню «Подмосковные вечера».
Среди изобилия (слово то какое!) калек, в основном безногих – обычный итог войны, сильно выделялся своим острым языком Дмитрий Ряжнов, которого до самой смерти называли Митькой, причем называли все, независимо от пола и возраста. Этот Митька и объявил, разливая водку по стаканам: «Ну вот, Король родился!».
Так и хочется вильнуть в сторону и описать балагура Митьку, который не утратил в «сталинское» время болтливость и некоторые другие качества, тем более что он этого стоит. Впрочем, стоят этого и многие другие, а я пишу о Виталике, так, что, продолжим.
Пока герой, радостно чмокая усиленно сосет молоко, я приведу общие сведения о деревне и его семье.
В восемнадцати километрах к югу от Егорьевска, на старом Рязанском почтовом тракте расположилось ранее село, а потом необыкновенная деревня Колычево. В селе, основанном бог весть когда, имелось не менее трех церквей и огромный женский монастырь Казанской богоматери. Почему точно неизвестна дата основания, ответ незатейлив – письменные данные позволяют заглянуть лишь до XYI века, а из земли регулярно извлекают изделия века XIII…
О монастыре основательно рассказал Александр Соллертинский, в своей книге 1910 г. (московская губернская типография), а все истории о кладоискательстве, связанные с монастырем, расскажу отдельно, в других произведениях, ну, возможно, вскользь упомяну и в этом, но далее.
Монастырь и церкви закрыли и спустя десять лет, в 1928 году открыли, как сказали бы прежде – богоугодное заведение – дом инвалидов. В чью темную или светлую голову залетела подобная мысль, мне неизвестно, но сие учреждение перевернуло жизнь деревни коренным образом, спасло от дикой колхозной коллективизации и позволило благоденствовать населению все годы советской власти, на фоне других соседних деревень. Сельцо Лаптево со своим имением и грандиозным парком (бывшее дворянское гнездо) объединили с Колычевом, оставляя за деревней название последнего.
На время рождения Виталика в Колычеве имелись: речка, две школы и сельсовет. Иной человек усмехнется: «Что за глупое перечисление?» А вовсе не глупое – школ и сельсовета давно уж нет и речка в иные годы (начиная с 1972) совсем исчезает. При доме инвалидов, в последствии психоневрологическом интернате, создали довольно мощное подсобное хозяйство. Возможности позволяли – интернат напрямую подчинялся МООСО – Старая площадь 4 в Москве, а директор разъезжал на автомашине ЗИМ.
Отец Виталика – Михаил Дмитриевич Королев, высокий шатен с мягким характером, в бытность свою, председателем сельсовета недалекого соседнего села Раменки, древнейшего в районе, польстился на должность агронома подсобного хозяйства, ничуть не пожалев о таком шаге впоследствии. На его месте девять человек из десяти отказались бы сменить карьерно-паразитическую деятельность на реальную работу в сельском хозяйстве. Однако тут было два но. Первое – он был неисправимым идеалистом, второе, более важное – в интернате никто не указывал, когда и что сажать и сеять и на какую глубину пахать. Подобные указания спускались с самого верхнего этажа власти кретиническими болванами, которые в сельском, да и любом другом хозяйстве смыслили как макаки в астрономии. Конечно, в хрущевские, гораздо более мягкие времена, чем предыдущие, карательных мер к ослушникам не применялось, но лучшим и передовым руководителем считался тот, кто первым вспахал и посеял, пусть даже в мерзлую землю, и загубив урожай.
Было еще два плюса в выборе Михаила Дмитриевича: жена работала в интернате, а интернат вел большое жилищное строительство для своих работников – очень удобно, когда дом и работа рядом, а ни на какую другую работу мать Виталика не соглашалась…
Пришли шестидесятые годы. Улица Перспективная грандиозно расстраивалась. Повсюду слышался стук топоров и молотков, звук двуручных пил и ножовок. Бригада казенных плотников азартно крала паклю и продавала частникам. Жили весело и нетрезво.
Виталик – крепкий бутуз – осторожно ходил на неокрепших ножках. Когда сестра Люда водила его за ручку, и они медленно брели мимо домов, бойкие на язык соседи громко и не без ехидства восклицали: «Вот, молодой агроном гуляет». Специфика деревни в полной мере отражалась на жителях. Соседствовали вперемешку деревенская забитость, районная непосредственность и столичный шарм. Сто первый километр приютил множество столичных штучек при интернате. Настоящих сумасшедших водилось не так много, это позднее они стали прибывать массово. А бывшие московские гранд-дамы, прекрасно разбирающиеся в мехах и ювелирных украшениях, легко переходящие в общение между собой на иностранные языки, немыслимые в обычной деревне, здесь считались почти за обыденность, с легким налетом экзотики. Меня так и тянет отвлечься в сторону и описать некоторых из них, держащихся строго и прямо, не взирая на возраст, сумевших через столько лет и событий сохранить «породу». Ладно, один только блиц – штрих. Как-то в мае, когда радость жизни «пенится в крови», на тропинке за бывшем поповским домом, что петляет среди буйной растительности вдоль речки, бывшие гимназистки устроили поэтические чтения. Полились негромкие строки (читали не на публику, для себя) Блока Бальмонта и Гумилева. Митька, который всю жизнь проработал кочегаром в бане-прачечной, что располагалась рядом с тропинкой, сидя за поленницей долго слушал. Спустя какое-то время он кряхтя поднялся, скрипя протезом и своим мощным баритоном продекламировал Ивана Баркова. Надежда на то, что дамы смутятся и убегут не оправдалась. Гордые старушки переглянулись, пожали плечами, перешли на немецкий язык и медленно удалились…
Ребята в Колычеве делились на две части, в неравных пропорциях. Большую часть составляли драчуны, отпетые хулиганы, которые кое-как, с двойки на тройку учились в школе. Меньшая часть училась на четверки и пятерки. Многие из них не курили и почти не матерились. Общим увлечением, почти религией был спорт. Хулиганы с непременными рогатками, стреляющими колотым чугуном, частенько «подлавливали» отличников и под легкий матерок поколачивали их, но не сильно, а скорее для профилактики. Ребятам этим едва исполнилось по тринадцать и пятнадцать лет, а юношей в наличии (как и девушек) не имелось. Сказалась война. Рожденные до 1940 и после 1945-го ходили косяками, а детей войны, либо не появившихся на свет, либо умерших в младенчестве давно уж оплакали матери и несостоявшиеся матери старые девы…
Десятилетие началось неординарным годом. Партийные газеты, а какие в те годы не являлись партийными? Подвал за подвалом, статья за статьей печатали «эпохальные» с «историческими» решения коммунистической верхушки…
Я, грешным делом, отвлекусь и наплюя на «историческую» чепуху, напомню те события. Генерал-полковник Каманин, в строжайшем секрете, набирал первую группу в отряд космонавтов. В далеком Конго убили Патриса Лумумбу, а в России умерли два великих человека – поэт Борис Пастернак и академик Игорь Курчатов. Не хочу о кукурузе, но придется: прячась в ее густых зарослях, юный оболтус Володька Варфоломеев впервые подстрелил из рогатки ворону. В головах ребят этот «подвиг» остался главным в году. Володька носил прозвище Тарзан. Он гордо пронес через полдеревни трепыхающуюся птицу и кинул на траву у ног Виталика. Тот, борясь с любопытством и трусостью, пытался схватить ворону, но тут же, с визгом убирал руки…
Дальше время побежало пошустрее. Полет Гагарина, вынос тела Сталина из Мавзолея, оскудение магазинных полок, первая женщина – космонавт, введение талонов (почти карточек) и Карибский кризис занимали в те годы деревенский народ не меньше, чем кражи комбикорма и замужество первой красавицы – Людмилы…
Виталик подрастал послушным ребенком. Эта характерная черта сопутствовала ему практически всю жизнь. Он частенько бегал к отцу на работу по Парковой – самой прямой и ровной улице, которая вела от Перспективной к подсобному хозяйству. Устойчивое прозвище король уже прилипло к нему…
Ребячью гордость улицы составляли шесть ее больших луж. Кстати, расположение деревни следует немного описать. Колычево раскинулось между тремя холмами, которые возвышались на севере – в сторону Сазоново и Егорьевска, на западе – сторону станции Пески и на востоке в сторону Шатуры и Черустей. Главная улица – Зинаиды Самсоновой протянулась вдоль речки Щеленки, пересекаясь с ней почти посередке, у самого интерната, строго на юг. На запад резко вверх устремилась Садовая, она же Старая деревня, гнездо отъявленных хулиганов и бывших «зеков». На восточный холм взбиралась легкими зигзагами, напоминающими «затухающие колебания» Перспективная, которая в вертикальном разрезе походила на синусоиду. На улицах Самсоновой и Садовой луж, увы сыскать было невозможно, на Парковой прозябала одна и та мелкая, зато уж перспективная имела блестящий набор на любой, самый привередливый мальчишеский вкус. С весны до поздней осени детвора насыпала плотины, копала канавы, пускала ручейки, строила кораблики с парусами и без. Лужи благодаря детским усилиям сообщались между собой системами протоков и благодаря наращенным бортам никогда не иссякали, что приводило в постоянное недовольство взрослое население, а водителей в ругательную ярость. Как сейчас помню, что никакими окриками и угрозами невозможно было оттащить увлекшихся пацанят от любимого занятия. Все мокрые и перепачканные, носились как угорелые со стащенными из дома лопатами, не отзываясь на призывные крики родителей и лишь Виталик, едва заслышав голос матери, – Лидии Петровны, мчался сломя голову домой…
Валерий Брумель установил тогда феноменальный мировой рекорд в прыжках в высоту – 228 см. Ребята постарше, в подражание ему стали устраивать между футбольными матчами (почти ежедневными) соревнования по прыжкам в длину и высоту. Восьмиклассник Вовка Афонин улетел аж на 5 м 56 см, а в прыжках в высоту некоторые одолели 145 и 150 см, не такой ужплохой результат для 14-15-ти летних…
А в недалеком селе Раменки закрыли церковь. Повсюду полушепотом рассказывали страсти о тамошнем попе, что он якобы, шпион и держал на колокольне передатчик (полная чушь, конечно) …Каждая семья в Колычеве имела, как говорилось, «своего дурака». Так назывались неглупые и работящие больные интерната, которые ежедневно ходили строго к определенным хозяевам, выполнять различную работу по дому, или около него. В моей семье таких было даже двое.
Володя – молодой мужик лет 25-26-ти, колол и пилил дрова, копал землю, носил вязанки сена и пропивал свою пенсию с моим отцом. Среднего роста, блондин, мускулистый и сильный, симпатичной внешности, без признаков умственной отсталости на лице, но, далеко не умный, он в лепешку расшибался за то, что его запросто принимали и три раза в год сажали за праздничный стол – на Пасху, Троицу, и «октябрьскую» (7 ноября). Второй, старый дед Иван Лисицин. Я не знаю и, скорее всего никогда уж не узнаю его настоящей биографии. Из его слов выходило, что он -тульский промышленник, чуть ли не миллионер. Мне теперь не вспомнить массы деталей, из его рассказов. Отчетливо остался в моей памяти один эпизод. Дед, позанимавшись со мной (еще не школьником) шахматами и французским языком надолго задумался и заплакал. Понятно, мне, пяти-шестилетнему несмышленышу показалось это странным. На удивленный вопрос: «Дед, ты почему плачешь?»,
Старый Иван, промокнув слезы носовым платком, горько промолвил глуховатым голосом: «Умру я, ничему тебя научить не успею». Тогда и я по детской глупости заревел: «Я тоже умру-у-у!» Дед успокоился, взял себя в руки и долго меня утешал…
А в семье Виталика подобных работяг и воспитателей не держали. Дом Королевых значительно возвышался над остальными, стоя в середине улицы с правой стороны, если идти от речки, грибоварки и магазинов. Кроме трех магазинов, чайной и «кабаре», как называли пивнушку-закусочную с хорошим по тем временам буфетом, жизнь кипела в клубе, библиотеке и на почте. Во втором клубе – интернатском, проводили по большей части скучные официально-казенные мероприятия. Предлагаю небольшую экскурсию. Мимо больницы и пекарни пройдем не задерживаясь, как не представляющих интереса; у магазинов и «кабаре» скользнем взглядом по вечно сидящим и выпивающим близ оных заведений калечным воинам и по деревянному мосту дойдем до бывшего монастыря, что на западной стороне улицы. Вдоль стен, слегка напоминающие кремлевские, дошагаем до грандиозной колокольни. Ее построили за год до коронации Николая II, по проекту рязанского губернского архитектора Саблера. От этой махины эклектического стиля, прежней высотой 83 м 84 см, в описываемые события около 75 метров (без части шатра и купола), а ныне около 80 м, свернем налево, к востоку. И если пройти от колокольни, либо мимо клуба, или двухэтажного здания почты, а также, библиотеки с сельсоветом – все три тропинки сойдутся. Сливаются они во владениях Кости Таракана – кузнеца и пилорамщика в одном лице. На бревнах пилорамы тоже, как правило, выпивают. Далее на восток следует между фруктовыми садами, а потом мимо школы и парка, расположенных по левую руку, полудорога – полутропа, вплоть до Парковой улицы. Свернем налево, на Парковую, пройдем 300 метров до дома Степана Молоканова, свернем направо и через сто метров мы у цели, около высокого дома Королевых. А если обойти Парковую улицу «по задам», сразу окажемся у их голубятни, единственной в Колычеве. Есть еще короткая тропинка наискосок через парк, а, если от магазинов взбираться вверх по перспективной, то расстояние окажется еще меньше. Теперь прошмыгнем в симпатичную калитку с навесом и окажемся около длинной застекленной террасы. В дом то нас скорее всего не пустят – если хозяйка – Лидия Петровна на месте, но, если на дворе теплое время года, в открытое окно мы увидим непрезентабельного вида радио. Оно стоит на прибитой к стене полочке и постоянно работает. Радио тех лет заставляло завороженно слушать его часами – если было время. Романтическая музыка, лирические песни, литературные чтения; умели шельмы, не то, что сейчас интеллектуально-импотентные деграданты… В углу, на подставке виднелся телевизор. Да, за считанные годы они распространились, как поганые грибы, но, днем эти телеки не работали – не хватало материала, специалистов и т.д.…
Подоспели интересные времена. Летом, наша сборная по футболу заняла лишь второе место на чемпионате Европы, против золота предыдущего первенства. На олимпиаде в Токио, Юрий Власов странно и неожиданно проиграл Леониду Жаботинскому. Однако, все остальное затмила октябрьская отставка Хрущева, как раз под праздник «Покров».
Наступила знаменитая эпоха Брежнева. Но, к одному событию, стоявшему по значению не ниже принудительного ухода генсека на пенсию, я, пожалуй, вернусь… Главный деревенский праздник – «козырной», это без сомнения Троица. Двух-трехдневный загул подразумевается само собой, с массой гостей, пьянками, песнями и мордобоем. С утра и часов до шести празднуют дома, а вечером с гармошками и гитарами высыпают пьяными и полупьяными компаниями на улицы. По всей деревне весело, шумливо и интересно. Дети в гулянии принимают живейшее участие. Тем вечером, Виталик, я и еще пять шесть ребят задержались на площади перед воротами бывшего монастыря – большим архитектурным сооружением – смеси готики, барокко и русского церковного стиля 17 века, напротив школы-интерната для глухонемых. Нас привлек спор троих не слишком «поддатых» мужчин о том, кто лучший певец в стране и певица, и какая песня самая – самая.
– Только Кобзон, остальные – не то. А какие песни» «А у нас во дворе» что стоит, а «Куба – любовь моя»! – горячился кудрявый круглолицый блондин, не местный, но частенько приезжающий к родне.
Борис Ксенофонтов – будущий известный физик, доктор наук, сын конюха Семена из ближайшей деревни Сазоново, не соглашался:
– А как же Анофриев, Хиль со сверхпопулярной «Если радость на всех одна»? А Майя Кристалинская?
Со старой деревни показалось стадо подсобного хозяйства. Пригонять его следовало чуть позднее, но пастух, тоже человек пьющий, он и так бедолага, еле дотерпел до вечера. Гуляющие неохотно расступились. Часть из них, человек двадцать – двадцать пять, в том числе и Виталик, отошли к воротам и проходной интерната, другие же встали вдоль забора школы глухонемых. Их было не более десятка и среди них известный местный силач, почти знаменитость – Аржанкин. Не стоит думать, что в Колычеве и окрестностях силачей не водилось, таких хватало, даже с избытком. Особенно выделялись сибиряк Константин Маковский и Юрка Гусев по прозвищу «Ермак», которые выглядели внешне раза в полтора помощнее Аржанкина, но абсолютно уступали ему в силе. Тот, при росте 170 см имел напоминающее орангутанга сложение и вес около 115 кг. Возможно, при определенных обстоятельствах, из него получился бы великий штангист. Он на спор шутя поднимал за передок колесный трактор ДТ-20, причем, не отрывал чуть-чуть от земли, а именно поднимал сантиметров на 40-50. Куражась, он запросто валил быка «Мишку», не менее тонны весом…
Сейчас этот богатырь, пьяненько ухмыляясь, стоял, прислонясь спиной к штакетнику забора. Он лишь назывался штакетником, имея в сечении 45х90 мм. Откуда такая точность? Отвечу – сам, когда подрос, измерял его отцовским метром. Очень мне нравится все мерять, но об этом позднее…
Бык «Мишка», высмотрел своего давнего обидчика, взял несколько левее и, замерев, несколько секунд глядел на него вполоборота. Затем, наклоня голову, забил копытом.
– Ну иди, иди, башку тебе сверну – пробасил Аржанкин вальяжно и довольно миролюбиво. Расстояние в 2-3 метра бык преодолел за долю секунды. Забор выдержал удар – силач, стоящий около столба, на стыке мощнейших жердей-поперечин, медленно осел, ругаясь:
– Ну, тварь, завтра я тебе рога поотшибаю. Подоспевший пастух хлестнул «Мишку» яростно, с матерщиной, едва не задев людей. Многие ничего не поняли. Пять шесть женщин охнули, прислоняя руки к груди. Виталик кинулся бежать выражением ужаса на лице, в сторону своего дома, но не ближней дорогой, через парк, а по улице, к магазинам и далее. Витька «Балон», парень чуть постарше, слегка вздорный, крикнул ему:
– Стой! Давай досмотрим.
Виталик, не реагируя, мчался дальше.
– Испуганного короля словами не удержишь – это произнес Митька Ряжнов, который в такую минуту не утратил юмора и афористичности.
«Балон», под впечатлением увиденного и напуганный голосом одноногого Митьки, рванул вслед за Виталиком.
Аржанкин прожил еще неделю…
Искушение подталкивает меня на очередной анжамбеман, не в поэтическом, конечно, а в более широком смысле. История эта будет неполная и осталась в памяти именно с комичным продолжением, хотя трудно сочетать трагедию со смехом.
На следующий день решили пустить быка «Мишку» на мясо. Виталик, все что видел рассказал отцу, с красочным описанием – он это умел еще тогда. Однако случилась скверная незадача – на второй день «Троицы» на работу мало кто вышел. А Виталику было уже обещано Михаилом Дмитриевичем, в самых решительных выражениях, что негодяй бык, непременно поплатится за свой поступок.
Юный Королев сидел у окна конторы подсобного хозяйства, с детским любопытством ожидая предстоящее, почти ритуальное убийство виновного животного. Часа полтора отыскивали по всем деревенским закоулкам хоть какого-нибудь трезвого палача-исполнителя. Нет, разумеется, никто не отказывался, даже выражали пьяное желание расправиться с «Мишкой» голыми руками, но, дальше слов, дело не шло. В итоге, самым трезвым оказался Митька.
Кто он был этот эпический герой, весом 91 килограмм, вместе с деревянной ногой?
Я не видел его ни разу пьяным, или курящим, этого полу богатыря, способного повторить подвиги древних. Он не разрывал пасти львам, за неимением таковых, но к4ошек придуши вал легко, а при чистке деревенских сортиров, обходился без помощи реки (в отличии от Геракла), довольствуясь обыкновенным черпаком. Слова эти я пишу не ради хохмы и юмора, а, всего лишь констатируя факт его собственной инициативы… Так и не довелось мне узнать откуда он родом, есть ли родственники, имел ли профессию и где потерял ногу? Его манера говорить уверенным непререкаемым тоном, многих отталкивала, в том числе и меня и сейчас я сильно жалею, что ни разу не общался с ним, что называется по душам. Когда он приходил к нам за яблоками, то никогда их не просил, а командовал: «Вон с той яблони и вот с этой, да не жадничай», сам при этом подобно Гераклу, подпирал не свод, конечно, а забор… Теперь судьба подкинула ему подвиг Тесея. Деревенским, Митька не был явно, скотины собственной не держал, но имел небольшой участок, который сам перекапывал, не глядя на деревянную ногу (остальные старались свои участки пахать). К его достоинствам следует отнести дар рассказчика и приколиста. Много лет спустя, когда он уже переехал с семьей в Егорьевск и даже после смерти его, большинство деревенских жителей вспоминали с ностальгией Митькины афоризмы и хохмы, а также были едины во мнении, что все местные острословы – его ученики и последователи…
Михаил Дмитриевич, оглядев одноногого кандидата, который уверенно прихромал на подсобное хозяйство, удовлетворенно заявил:
– Ну, я вижу ты меня не подведешь. Надо заколоть двух поросят и быка заодно. Расплатимся мясом…
Я не стану долго описывать его битву с коварными животными, о которой подробно описано в другом произведении. Полугерой схватил свой знаменитый колун, с метровой ручкой, наотрез отвергнув нож и намертво уложил небольшого шестимесячного поросенка ударом по голове. Второй, крупный кабан получил удар острием колуна в лоб и лишь слегка оглушенный, визжа на все окрестности, кинулся в заросли лопуха и крапивы. Выманить его назад не сумели. Разгоряченный Митька храбро приступил к убиению быка, которого заранее вывели и поставили между трактором ДТ-54 и деревянными санями к нему, ровно напротив окошка, у которого сидел любопытный Виталик. Поединок длился не более 5 секунд, в течении которых был нанесен удар и инвалид, с несвойственной ему прытью оказался под гусеничным трактором. Листья осины, у сенного сарая, слабо колыхались на едва заметном ветерке.
Быка с поросенком пристрелил через час Константин Маковский. Весь этот час острослов и полубогатырь, давал грозные советы из-под трактора.
Когда Виталик побежал потрогать мертвого быка, Митька Ряжнов уже отряхивался от пыли и мазутной грязи. Он глянул свысока на «агрономенка», поднял указательный палец и выдал очередной перл:
– Не оскудела Русская земля…
Что он хотел этим сказать, так и осталось загадкой…
Ползло, шло и мчалось время. Пролетали метельные и снежные зимы, проносились вёсны, со своим разливом, ярким солнышком и юной зеленью. Даже лето, которое казалось Виталику бесконечным в своем начале, довольно быстро заканчивалось. События менялись как в калейдоскопе. Реформа Косыгина, которая вскоре принесла наполнение прилавков магазинов, выход в открытый космос Алексея Леонова, смерть великого однофамильца Виталика. Никто не заметил столетний юбилей водки Менделеева и странную смерть, почти как у нищего, одного из богатейших людей планеты Асафа Джаха, которая произошла через два года после водочной даты. Страна хорошела на глазах, готовились с помпой отмечать пятидесятилетие революции. В этой череде дат и событий постепенно складывался характер Виталика.
Он рос послушным, доверчивым и мнительным одновременно. Точные науки давались ему легко и без напряжения, а вот с родным русским языком, возникали постоянные проблемы, впрочем, у его сестры Людмилы тоже. Учительница – Татьяна Ивановна ворчала, но заветную тройку ставила всегда…
Михаил Дмитриевич выписывал на семью сразу четыре газеты: «Правду», «Пионерскую правду», «Труд» и «Известия». Пресса, за исключением «Пионерской правды» вяло побрехивала о столетнем юбилее продажи Аляски. Королев старший садился за газеты сразу после окончания рабочего дня и не менее двух часов, а то и более, внимательно и с комментариями просматривал их. Виталик, в такие часы, спешил в сарай, где внизу находился курятник, а наверху ворковали голуби. В потайном месте сарая он прятал рогатку, которую сам тщательно смастерил из бинтовой резины.
Деревенские нравы к тому времени смягчились. Рогатки имели практически все и лишь некоторые ребята из культурных или ханжеских семей их прятали и не выставляли напоказ. Первое послевоенное поколение по большей части служило в армии, по меньшей сидело в тюрьмах и лишь один Борис Ксенофонтов успешно учился, готовясь к аспирантуре…
Виталик, схватив заветную рогатку, помчался на другую сторону улицы, на деревенские «зада», где шла успешная стрельба по бутылкам, но был перехвачен строгим Митькиным баритоном:
– Стой, Король! Иди сюда.
Виталик, с видимой неохотой подошел к одноногому говоруну, вальяжно развалившемуся на скамейке. Стих ветерок, солнце клонилось к северо-западу, где высился густой лес.
– Чего, дядя Мить?
– Чего, чего? Ты ж сын агронома, культурным должен быть. Называй меня полным именем.
Виталик озадачился:
– Как это?
– Ну как, как? Витя, допустим – Виктор, а Митя…
Юный Королев торопливо и вопросительно бухнул:
–Миктор?
– Дубовая твоя башка, Бубновый.
Виталик еще не осознал, что получил дополнительное прозвище, которое приклеится к нему на много лет вперед. Он хотел уже идти дальше, но коварный инвалид удержал его, рассказав очередную басню:
– Ты знаешь зачем винт на самолете?
– Чтобы летел.
Митька поднял кулак и с самым серьезным видом, веско произнес:
– Дурень! Винт нужен, чтобы летчику не было жарко. Если винт остановится, знаешь, как он сразу вспотеет…
После грандиозного военного парада на Красной площади 7 ноября, в честь полувекового юбилея революции, наступила зима.
На замерзших прудах начались хоккейные поединки. По двое нападающих в командах, бегали по льду на коньках –«гагах», как их тогда называли, остальные, в том числе вратари – в обычных валенках. О покупных клюшках даже не мечтали, обходились самодельными. Процесс изготовления начинался с кражи штакетника, желательно из комля березы, в котором делался пропил и вставлялась пятислойная фанерина, тоже краденая. Затем, стык и сам кусок фанеры обматывали черной тряпичной изоляцией…