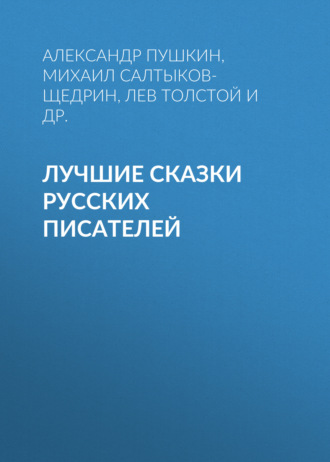
Александр Пушкин
Лучшие сказки русских писателей
Ветер и солнце
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.
Сказал, – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпа́л бедного путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть.
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.
– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.
Охотник до сказок
Жил себе старик со старухою, и был старик большой охотник до сказок и всяких россказней.
Приходит зимою к старику солдат и просится ночевать.
– Пожалуй, служба, ночуй, – говорит старик, – только с уговором: всю ночь мне рассказывай. Ты человек бывалый, много видел, много знаешь.
Солдат согласился.
Поужинали старик с солдатом, и легли они оба на полати рядышком, а старуха села на лавку и стала при лучине прясть.
Долго рассказывал солдат старику про свое житье-бытье, где был и что видел. Рассказывал до полуночи, а потом помолчал немного и спрашивает у старика:
– А что, хозяин, знаешь ли ты, кто с тобою на полатях лежит?
– Как кто? – спрашивает хозяин, – вестимо, солдат.
– Ан, нет, не солдат, а волк.
Поглядел мужик на солдата, и точно – волк. Испугался старик, а волк ему и говорит:
– Да ты, хозяин, не бойся, погляди на себя, ведь и ты медведь.
Оглянулся на себя мужик, – и точно, стал он медведем.
– Слушай, хозяин, – говорит тогда волк, – не приходится нам с тобою на полатях лежать; чего доброго, придут в избу люди, так нам смерти не миновать. Убежим-ка лучше, пока целы.
Вот и побежали волк с медведем в чистое поле. Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит:
– Давай съедим!
– Нет, ведь это моя лошадь, – говорит старик.
– Ну так что же что твоя: голод не тетка.
Съели они лошадь и бегут дальше, а навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит:
– Давай старуху съедим.
– Как есть? да ведь это моя жена, – говорит медведь.
– Какая твоя! – отвечает волк.
Съели и старуху.
Так-то пробегали медведь с волком целое лето. Настает зима.
– Давай, – говорит волк, – заляжем в берлогу; ты полезай дальше, а я спереди лягу. Когда найдут на нас охотники, то меня первого застрелят, а ты смотри: как меня убьют да начнут шкуру сдирать, выскочи из берлоги, да через шкуру мою переметнись, – и станешь опять человеком.
Вот лежат медведь с волком в берлоге; набрели на них охотники, застрелили волка и стали с него шкуру снимать. А медведь как выскочит из берлоги да кувырком через волчью шкуру… и полетел старик с полатей вниз головой.
– Ой, ой! – завопил старый, – всю спинушку себе отбил.
Старуха перепугалась и вскочила.
– Что ты, что с тобой, родимый? Отчего упал, кажись, и пьян не был!
– Как отчего? – говорил старик, – да ты, видно, ничего не знаешь!
И стал старик рассказывать: мы-де с солдатом зверьем были; он волком, я медведем; лето целое пробегали, лошадушку нашу съели и тебя, старуха, съели. Взялась тут старуха за бока и ну хохотать.
– Да вы, – говорит, – оба уже с час вместе на полатях во всю мочь храпите, а я всё сидела да пряла.
Больно расшибся старик; перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.
Лиса и козел
Бежала лиса, на ворон зазевалась, – и попала в колодец. Воды в колодце было немного: утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова; идет, бородищей трясет, рожищами мотает; заглянул, от нечего делать, в колодец, увидел там лису и спрашивает:
– Что ты там, лисонька, поделываешь?
– Отдыхаю, голубчик, – отвечает лиса. – Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь.
А козлу давно пить хочется.
– Хороша ли вода-то? – спрашивает козел.
– Отличная! – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь; здесь обоим нам место будет.
Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил, а она ему:
– Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел – всю обрызгал.
Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца.
Чуть было не пропал козел с голоду в колодце; насилу-то его отыскали и за рога вытащили.
Михаил Ларионович Михайлов
(1829–1865)
Лесные хоромы
Шел лесом прохожий да обронил кузовок. Обронил и не хватился, и остался кузовок у дороги.
Летела муха, увидала, думает: «Дай загляну, нет ли чего съестного». А в крышке как раз такая дырка, что большой мухе пролезть.
Влезла она, съестного не нашла: кузовок пустой, только на дне хлебных крошек немножко осталось. «Зато хоромы хороши! – подумала муха. – Стану в них жить. Здесь меня ни птица не склюет, ни дождик не замочит».
И стала тут муха жить. Живет день, живет другой. И вылетать не надо: крошек еще всех не переела.
Прилетает комар, сел у дырки, спрашивает:
– Кто в хоромах? Кто в высоких?
– Я, муха-громотуха, а ты кто?
– А я комар-пискун. Пусти в гости!
– Что в гости! Пожалуй, хоть живи тут.
Не успел комар пробраться в кузов, а уж у дверей оса сидит:
– Кто в хоромах?
Те отвечают:
– Двое нас: муха-громотуха да комар-пискун, а ты кто?
– А я оса-пеструха. Будет мне место?
– Место-то будет, да как в дверь пройдешь?
– Мне только крылышки сложить: а я не толста, везде пройду.
– Ну, добро пожаловать!
Она – в кузов, а у двери уж опять спрашивают:
– Кто в хоромах? Кто в высоких?
– Муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, а ты кто?
– А я слепень-жигун.
– Зачем?
– Да к вам побывать.
– Милости просим! Да пролезешь ли?
– Как не пролезть! Только немножко бока подтяну.
Пролез и слепень в кузовок.
Пошли у них разговоры.
Муха говорит:
– Я муха не простая, а большая. Порода наша важная, ведет род исстари. Везде нам вход открытый. В любой дворец прилетай – обед готов. Чего только я не ела! Где только я не была! Не знаю, есть ли кто знатнее меня!
– Кажется, и мы не из простых! – говорит оса. – Уж не передо мною бы хвастаться! Я всем взяла: и красотой, и голосом, и нарядиться, и спеть мастерица. Все цветы меня в гости зовут, поят-кормят. Не знаю, есть ли кто на свете наряднее да голосистее! Посмотрела бы я!
– А меня не пережужжишь, – сказал слепень.
– Да у тебя приятности в голосе нет. У меня голос тонкий, – говорит оса.
– А у меня и тоньше и звонче! – пискнул комар.
И пошли они перекоряться.
Только слышат, опять кто-то у дверки возится.
– Кто там? – спрашивают.
Никто не отзывается.
– Кто у терема? Кто у высокого?
Опять ответа нет.
– Кто нас тут беспокоит? Мы здесь не сброд какой-нибудь, а муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, да слепень-жигун.
Сверху не отвечают.
– Надо бы взлететь да посмотреть! – крикнули все в один голос.
– Я первая не полечу, я всех знатнее, – говорит муха.
– Я первый не полечу, я всех голосистее, – говорит комар.
– Я первая не полечу, я всех наряднее, – говорит оса.
– Я первый не полечу, я всех сильнее, – говорит слепень.
И пошел у них спор: никто лететь смотреть не хочет.
Вдруг в хоромах стало будто темнее.
– Что это за невежа нам свет заслоняет? – крикнули все.
– Да ведь это, никак, паук свою сеть заплел, – сказал комар.
– Ах, и в самом деле! – загудели все. – Как нам быть? Что делать? Надо поскорее выбираться! Покамест еще сеть не крепка, прорвемся.
– Мне первой, – кричит муха, – я всех знатнее!
– Мне первой, – жужжит оса, – я всех наряднее!
– Мне первому, – пищит комар, – я всех голосистее!
– Мне первому, – гудит слепень, – я всех сильнее!
И пошел у них опять спор. Чуть до драки не доходило.
Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою паутину. А как согласились, кому за кем лететь, все в ней и засели.
Два Мороза
Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали.
Говорит один Мороз другому:
– Братец Мороз – Багровый нос! Как бы нам позабавиться – людей поморозить?
Отвечает ему другой:
– Братец Мороз – Синий нос! Коль людей морозить – не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело: никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге.
Сказано – сделано. Побежали два Мороза, два родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут – кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает – дунут, словно бисером ее всю унижут.
Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком – мужичок.
Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.
Мороз – Синий нос, как был помоложе, говорит:
– Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорей дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, – ничего. Он же, никак, дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю.
Мороз – Багровый нос только подсмеивается.
– Молод еще ты, – говорит, – братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай покамест!
– Прощай, братец!
Свистнули, щелкнули, побежали.
Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга – что?
– То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, – говорит младший, – а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!
Старший посмеивается себе.
– Эх, – говорит, – братец Мороз – Синий нос, молод ты и прост! Я его так уважил, что он час будет греться – не отогреется.
– А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?
– Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить! Он-то ежится, он-то жмется да кутается; думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за него – чуть живого в городе из повозки выпустил! Ну, а ты что со своим мужичком сделал?
– Эх, братец Мороз – Багровый нос! Плохую ты со мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал – заморожу мужика, а вышло – он же отломал мне бока.
– Как так?
– Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он все не робеет – еще ругается: такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало; принялся я его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо – не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, как быть? А мужик все работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу: скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди же, – говорю, – вот я тебе покажу себя!» Полушубок весь мокрехонек. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик свое дело да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать – все слова перебрал, что нет их хуже. «Ругайся, – думаю я себе, – ругайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удовольствовался – выбрал полено подлиннее да посучковатее, да как примется по полушубку бить! По полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз – выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.
– То-то!
Волга и Вазуза
Большая река Волга, которую русский народ зовет и матушкой, и кормилицей, и малая речка Вазуза, про которую знают только в тех местах, где она протекает, вышли из земли по соседству одна с другой малыми ручьями и заспорили, кто из них будет больше, кто сильнее, кому будет почет и старшинство. Спорили-спорили, да как друг дружку не переспорили, так и решили на том, чтобы лечь им вместе спать, и которая раньше встанет да прежде прибежит к Хвалынскому[127] морю, та и больше и сильнее, той и почет и старшинство.
Легла Волга спать, легла и Вазуза. Волга заснула, а Вазуза не спит – думает, как бы ей Волгу обогнать. Поднялась она ночью потихоньку, выбрала дорогу попрямее да поближе и шибко-шибко пустилась с гор по долам к морю Хвалынскому.
Проснулась Волга на заре и пошла себе ни тихо, ни скоро, а средним своим ходом. Нечего было ей днем ни плутать, ни мест выбирать, и догнала она Вазузу у города Зубцова и грозно на нее напустилась за ее обман.
Много Вазуза за ночь пути пробежала, немало ей было труда себе дорогу торить, изустала она, измучилась, да как увидала Волгу, что та и полна, и широка, и силы в ней много, испугалась, притихла, назвалась меньшей ее сестрой и стала просить:
– Прими меня, Волга, к себе на руки, снеси меня в синё море!
Не попомнила Волга зла, взяла Вазузу и понесла ее в глубокое море Хвалынское, только с тем уговором, чтобы бессонная Вазуза по веснам ее раньше будила.
И держит Вазуза уговор крепко и верно: Волга еще спит, а она уж пробуждается от тяжелого зимнего сна и бежит к старшей сестре и зовет:
– Вставай, Волга! Пора!
Николай Алексеевич Некрасов
(1821–1877/78)
Генерал Топтыгин
Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Ямщичок обратный;
Не спешит, трусит слегка;
Лошади не слабы,
Да дорога не гладка —
Рытвины, ухабы.
Нагоняет ямщичок
Вожака с медведем:
«Посади нас, паренек,
Веселей доедем!»
– Что ты? с мишкой? – «Ничего!
Он у нас смиренный,
Лишний шкалик за него
Поднесу, почтенный!»
– Ну, садитесь! – Посадил
Бородач медведя,
Сел и сам – и потрусил
Полегоньку Федя…
Видит Трифон кабачок,
Приглашает Федю.
«Подожди ты нас часок!» —
Говорит медведю.
И пошли. Медведь смирен,—
Видно, стар годами,
Только лапу лижет он
Да звенит цепями…
Час проходит; нет ребят,
То-то выпьют лихо!
Но привычные стоят
Лошаденки тихо.
Свечерело. Дрожь в конях,
Стужа злее на ночь;
Заворочался в санях
Михайло Иваныч,
Кони дернули; стряслась
Тут беда большая —
Рявкнул мишка! – понеслась
Тройка как шальная!
Колокольчик услыхал,
Выбежал Федюха,
Да напрасно – не догнал!
Экая поруха[128]!
Быстро, бешено неслась
Тройка – и не диво:
На ухабе всякий раз
Зверь рычал ретиво;
Только стон кругом стоял:
«Очищай дорогу!
Сам Топтыгин-генерал
Едет на берлогу!»
Вздрогнет встречный мужичок,
Жутко станет бабе,
Как мохнатый седочок
Рявкнет на ухабе.
А коням подавно страх —
Не передохнули!
Верст пятнадцать на весь мах
Бедные отдули!
Прямо к станции летит
Тройка удалая.
Проезжающий сидит,
Головой мотая:
Ладит вывернуть кольцо.
Вот и стала тройка;
Сам смотритель на крыльцо
Выбегает бойко.
Видит, ноги в сапогах
И медвежья шуба,
Не заметил впопыхах,
Что с железом губа[129],
Не подумал: где ямщик
От коней гуляет?
Видит – барин материк,
«Генерал», – смекает.
Поспешил фуражку снять:
«Здравия желаю!
Что угодно приказать,
Водки или чаю?..»
Хочет барину помочь
Юркий старичишка;
Тут во всю медвежью мочь
Заревел наш мишка!
И смотритель отскочил:
«Господи помилуй!
Сорок лет я прослужил
Верой, правдой, силой;
Много видел на тракту
Генералов строгих,
Нет ребра, зубов во рту
Не хватает многих,
А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..»
Прибежали ямщики,
Подивились тоже;
Видят – дело не с руки,
Что-то тут негоже!
Собрался честной народ,
Все село в тревоге:
«Генерал в санях ревет,
Как медведь в берлоге!»
Трус бежит, а кто смелей,
Те – потехе ради,
Жмутся около саней;
А смотритель сзади.
Струсил, издали кричит:
«В избу не хотите ль?»
Мишка вновь как зарычит…
Убежал смотритель!
Оробел и убежал
И со всею свитой…
Два часа в санях лежал
Генерал сердитый.
Прибежали той порой
Ямщик и вожатый;
Вразумил народ честной
Трифон бородатый
И Топтыгина прогнал
Из саней дубиной…
А смотритель обругал
Ямщика скотиной…
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(1826–1889)
Премудрый пискарь
Жил-был пискарь.
И отец и мать у него были умные; помаленьку, да полегоньку аридовы веки[130] в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать[131], так гляди в оба!»
А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется – везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха – в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь – и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.
А человек? – что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́[132], и, наконец… уду! Кажется, что́ может быть глупее уды? – Нитка, на нитке крючок, на крючке – червяк или муха надеты… Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!
Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – говорил он, – потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься – ан в мухе-то смерть!»
Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, – даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда – не знает. Видит, что у него с одного боку – щука, с другого – окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они – не трогают… «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла – никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни[133] в траву валить. Тут-то он и узнал, что́ такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково́, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают… Слышит – «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это – «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу – будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину – та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется – и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки – домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает…
И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь[134] в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!
Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!» – и стал устраиваться. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, – он будет моцион делать, а днем – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, Бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.
Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что́ в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды – и шабаш!
Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»
Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок – глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!
Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.
В другой раз только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул; не вышел из норы, да и шабаш.
И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, Господи, жив!»
Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не за́рились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»
И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется – только дрожит да одну думу думает: «Слава Богу! кажется, жив!»
Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили – то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется – вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.
Сколько прошло годов после ста лет – неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет…» А ну-тка, в самом деле, что́ бы тогда было?
Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»
Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка[135].
Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.
Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал, и умирал – дрожал.
Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?
И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».
Он жил и дрожал – только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?
Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы – может быть, как и он, пискари – и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!
И что́ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.
Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.
А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.
И вдруг он исчез. Что тут случилось – щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность – свидетелей этому делу не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?







