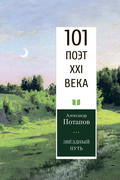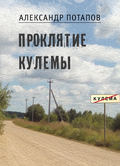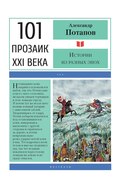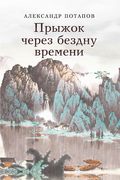Александр Потапов
По краю пропасти
– Это вы, гражданочка, не по адресу, у нас сельский райком, вот если бы он серпом…
Местные вспоминали, как во время приезда Хрущёва в Днепропетровск он ехал из аэропорта в открытой машине, и стоявшие на обочине люди кидали в машину букеты цветов, и почти в каждый был завёрнут булыжник, после чего Хрущёв заявил:
– В Днепропетровске народ некультурный.
К сожалению, пошли первые потери. Учившийся в одной группе с Андреем Вадим в конце пятого курса разбился на мотоцикле.
Особенно остро переживал Андрей смерть своего приятеля Юры Куличихина, с которым они почти все пять лет учёбы на лекциях просидели за одной партой.
Списки с фамилиями принятых на физтех с разбивкой по группам вывесили буквально накануне первого сентября – во всяком случае Андрей их увидел то ли тридцатого, то ли даже тридцать первого августа. Нашёл он их не сразу и спросил, где их искать, у какого-то парня, который стоял, прислонившись к заборчику. Тот пошёл показать, где списки, и, наверное, сам ещё раз хотел посмотреть на свою фамилию в этих списках. Оказалось, что они в одной группе, а фамилия его Куличихин.
Он уже успел отработать в колхозе по разнарядке из университета. Так они с Юрой познакомились и потом все пять лет учились в одной группе, были в очень добрых дружеских отношениях и почти всегда на лекциях старались сесть рядом.
Примерно такого же роста, как Андрей, может быть, на пару сантиметров выше, но с более мощным телосложением, говорившим о его немалой силе, он обладал спокойным уравновешенным характером и исключительно дружелюбным отношением к окружающим.
Андрей не раз наблюдал, как некоторые девчонки из их группы пытались его растормошить, даже разозлить, но он только добродушно посмеивался.
Жил Юра на Игрени, в своём доме вместе с родителями, хотя отца его Андрей ни разу не видел, скорее всего, они жили вдвоём с мамой. Синегин довольно часто бывал у них дома. Тогда телевидение только начинало развиваться, но телебашню уже построили. Игрень была всё-таки относительно далеко от неё, и Юра активно занимался конструированием телевизионных антенн.
Андрей жил почти рядом с телебашней, и сигнал принимался просто на кусок провода, но как радиолюбителю со стажем ему было интересно участвовать в разработке разных конструкций антенн, которые они испытывали у Юры дома.
Физически Куличихин был очень хорошо развит и прекрасно играл в волейбол. Когда началась специализация по видам спорта, Юра записался в волейбольную секцию и не изменил своему спортивному увлечению до конца учебы в университете.
Вообще, Юра был очень положительный человек. Когда у Андрея ещё ветер бродил в голове и он мало задумывался о будущем, если не сказать – совсем не думал, Юра уже твёрдо знал, что он останется жить в родительском доме, который он по-хозяйски обустраивал. Действительно: после окончания физтеха Юра распределился на «Южмаш». К несчастью, жизнь его оказалась очень короткой. Он неудачно упал с велосипеда, повредил себе внутренности – и уже в 1963 году его не стало.
Даже на выпускной фотографии у него грустные глаза, хотя в жизни он, как и все, и улыбался, и смеялся, и анекдоты рассказывал. Но всё же с самого начала его отличала некоторая взрослость.
У Андрея сохранилось фото ребят их группы на Днепре, когда несколько человек схватили одетого приятеля и как бы пытаются затащить его в воду. Есть на фото и Юра Куличихин – стоит, смеётся, держит парня за руку, но вся его поза наполнена снисходительностью к этим детским забавам.
Андрей Синегин был довольно сдержанным в общении с другими и немногословным. В застольных беседах никогда не был лидером, предпочитая слушать других. Тем не менее, в критических ситуациях умел проявить инициативу и, как говорят, взять в свои руки бразды правления. Эти его особенности в полной мере проявятся в его будущей, а пока только ещё начинающейся взрослой жизни.
Почти смертельное ДТП
Серёга умирал. Всего несколько минут назад он энергично крутил педали велосипеда, возвращаясь с работы по узенькой дорожке, протоптанной на высокой насыпи вдоль железнодорожного полотна. Он торопился, зная, что на этой дороге в любой момент мог появиться, как его все называли, ракетный поезд, который не останавливался ни при каких условиях и сметал всё, что могло оказаться у него на пути. Надежда была на то, что грохот поезда можно услышать заранее и успеть скатиться с насыпи, поэтому Серёга всё своё внимание сосредоточил на возможном появлении звуковой канонады поезда и не обратил внимания на какое-то негромкое тарахтение позади себя. И вдруг резкий удар сбросил его вместе с велосипедом с насыпи, он полетел кувырком и, уже теряя сознание, увидел удалявшийся в сгущавшихся сумерках мопед с двумя седоками.
Через некоторое время он очнулся, полежал, вспоминая, что же произошло. Он знал, что до их посёлка Зелёный дол уже недалеко, в другое время он и без велосипеда добежал бы отсюда за десять минут. Попробовал пошевелиться, надеясь вылезти на насыпь, но от резкой боли снова потерял сознание. Была тёмная холодная ночь позднего лета, но, находясь почти все время в полудремотном состоянии, Серёга не чувствовал холода, хотя одет был в лёгкую летнюю рубашку и брюки. Начало светать, и на насыпи появилась какая-то фигура. Увидев лежащее внизу насыпи тело, человек остановился, осторожно спустился с насыпи и, наклонившись, вдруг воскликнул:
– Серёга, ты?! Что с тобой?
Сергей услышал голос, хотел ответить, но губы не слушались. Увидев окровавленную одежду, человек торопливо проговорил:
– Ради бога, не умирай. Я сбегаю за ребятами и за машиной, доставим тебя в больницу. Я скоро, потерпи полчасика.
Сергей остался лежать один, уже совершенно теряя силы. Через полчаса послышался гул автомашины, и вскоре она подъехала, двигаясь по рельсам. Выскочившие из неё молодые ребята с носилками спустились с насыпи и осторожно погрузили Сергея на носилки, а затем носилки на багажник машины, и также по рельсам двинулись в посёлок. Поселковая больница стояла на краю посёлка. Когда парни внесли туда носилки, вызванный из дому главный врач поселковой больницы уже находился в палате, он быстро осмотрел пострадавшего и тут же начал отдавать распоряжения. Совершенно окоченевшего Серёгу отнесли в тёплую ванну, а в палате начали готовить место для операции.
Операция длилась несколько часов. Всё это время четверо парней, которые привезли Серёгу, молча сидели в коридоре больницы. Когда уставший врач, стягивая перчатки, вышел из операционной, ребята бросились к нему:
– Иван Данилович, ну, что с Серёгой? Будет он жить?
Хирург был немногословен:
– Будем надеяться на его молодой крепкий организм. Сейчас он спит.
Ребята потоптались на месте, не зная, что делать дальше, потом один из них вспомнил:
– Мужики, надо отцу Серёги Николаю Андреевичу сообщить о случившемся. Он ведь до сих пор ещё ничего не знает.
Николай Андреевич, получив известие, тут же помчался в больницу. Врача он уже не застал, тот поехал отсыпаться. Медсёстры сообщили ему, что обо всём случившемся доложено в Брянск и оттуда сегодня приедет областная врачебная комиссия для консультации и проверки. В заключение они показали ему палату, в которой лежал Сергей. Николай Андреевич издали посмотрел на бледное лицо сына, но никаких других изменений не заметил, с тяжёлым сердцем отправился домой, чтобы сообщить жене печальную новость.
Вечером Николай Андреевич снова пришёл в больницу, но со слов медсестры узнал только, что Иван Данилович сидит с врачебной комиссией и вряд ли скоро освободится. Поглядев издали на сына, увидел, что тот то ли спит, то ли находится в бессознательном состоянии.
На следующий день Николай Андреевич с утра отправился в больницу. Иван Данилович увидел его в окно, вышел на крыльцо, поздоровался и пригласил в кабинет. Не ожидая вопросов, начал подробно рассказывать:
– Николай Андреевич, у вашего сына тяжелейшая травма. Была очень сложная операция. Вчера, кстати, приезжала областная комиссия, допоздна разбирались, что и как сделано, заключение – операция проведена правильно, назначение лекарств тоже верное. Но Сергей потерял очень много крови, сделали ему переливание. Пришлось перебрать весь желудок и удалить селезёнку, она была совсем раздавлена. Сейчас у него кризис, поднялась температура, даём ему необходимые таблетки, ставим капельницы. Но всё будет зависеть от его организма. Через день мы прекратим давать снотворное, он придёт в сознание – можете с ним поговорить. Но всё-таки сначала зайдите ко мне.
Спустя два дня Серёга очнулся. Попробовал повернуться набок, но от резкой боли потемнело в глазах. Успокоившись, решил восстановить в памяти случившееся с ним кошмарное происшествие, но вспомнил только удалявшийся по вершине насыпи мопед с двумя расплывчатыми силуэтами на нём да разрозненные не связанные одна с другой смутные плохо различимые картинки.
Открылась дверь, в палату вошла медсестра, увидев открытые глаза Сергея, обрадовалась:
– Миленький! Пришёл в себя. Сейчас я пойду доложу Ивану Даниловичу.
Сергей слабым голосом с трудом произнёс:
– Как долго я здесь?
Медсестра, помедлив, сказала:
– Пятый день, – и тут же убежала.
Минут через пять появился Иван Данилович:
– Ну, привет, орёл! Голова кружится?
– Вроде нет, – неуверенно отозвался Сергей.
– Это хорошо, – одобрил Иван Данилович, – но температура у тебя ещё держится, так что постарайся особо не ворочаться. Если что надо, зови медсестру. Есть тебе пока ничего нельзя, можно чуть-чуть водички.
Он взял руку, пощупал пульс:
– Ну, что ж, пульс ровный, хотя и повышенный.
Чуть помолчал, погладил Сергея по руке:
– И настраивай себя на выздоровление, это сейчас самое главное. Таблетки таблетками, но в основном всё зависит от тебя.
К концу дня в палате появился Николай Андреевич, сел на стул возле кровати. Сергей почти виновато слабым голосом сказал:
– Вот, батя, какая ерунда со мной случилась.
Отец тяжело вздохнул:
– Мне твои ребята рассказали, как всё было. Что ж этот изверг даже не остановился?
Не ожидая ответа, он придвинул к себе второй стул, вытащил из сумки и разложил на стуле бритвенные принадлежности, сказал сыну:
– Давай я тебя побрею.
Сергей удивился:
– Батя, да зачем, скоро я сам смогу побриться.
– Ну, ты не бритый, надо побрить, – судорожно вздохнул отец.
Сергей вдруг увидел, что в глазах отца дрожат слезинки:
– Батя, да ты что, хоронить меня собрался? Вот увидишь, я непременно буду жить. Успокойся сам и маму успокой.
У него перехватило дыхание, он чуть помолчал и тихо добавил:
– Мне рассказали, что Иван Данилович пять часов делал операцию, не могу же я его подвести.
В дверь заглянула медсестра, и Сергей поманил её рукой. Медсестра зашла в комнату, за ней ещё одна. Сергей уже знал, что это практикантки из мединститута. Молоденькие девчонки нерешительно остановились у края постели больного. Сергей взглянул на них и спросил:
– Как долго у вас практика?
– Ещё два месяца, – недоумённо ответила одна из них, не понимая, к чему этот вопрос.
– Через месяц я приглашаю вас на танцы в наш клуб, – слабым голосом, негромко, но твёрдо проговорил Сергей.
От неожиданности девчонки онемели, зная, что этого больного недавно вытащили с того света и ещё неизвестно, выживет ли он. Выручил Николай Андреевич, поневоле улыбнувшись, он сказал:
– Ну, ты герой. Совсем девчонок перепугал, не знают, как себя вести.
Видно было, что Сергей устал от столь длинного разговора. Отец заметил это и добавил:
– Ты отдохни, а я пока тебя побрею, а то на танцы небритым неприлично идти.
В один из дней к нему в палату заявилась четвёрка приятелей, доставивших его в больницу. После обмена приветствиями, благодарностями и любезностями один из них сообщил:
– Серёга, тебя сбил и сбежал, оставив умирать, Колька Сысоев, это он ехал на мопеде с братом. Мы готовы принять к нему самые крайние меры, как ты на это смотришь?
Сергей отрицательно покачал головой:
– Не трогайте его, ребята, судьба или бог ему судья. Я знаю, что злое дело не остаётся безнаказанным, но я не хочу в этом участвовать и быть запятнанным чужой кровью.
Молодой организм Серёги всё-таки выдержал неожиданно свалившееся на него тяжелейшее испытание – и дней через десять ему разрешили вставать. Сначала на дрожащих ногах он делал несколько шагов и обессиленно опускался на кровать, но постепенно чувствовал себя всё более уверенно. Наконец Иван Данилович решил выписать его домой и на прощанье напутствовал:
– Через неделю придёшь ко мне на приём, посмотрим, как ты переносишь свободный режим. Теперь о том, как себя вести. Не лежи целыми днями. Надо потихоньку ходить и даже делать простенькие физические упражнения. Но смотри, не переусердствуй. Не дай бог, полезешь на турник или начнёшь поднимать гири. Все упражнения должны быть мягкими и не вызывать слишком сильную боль, хотя возникающая небольшая болезненность полезна, но небольшая. Усвоил?
Наставления Серёга, конечно, запомнил, но ещё лучше он помнил своё обещание девчонкам-практиканткам пригласить их на танцы. Установленный им месяц завершался, но пока что он не был в состоянии не то что танцевать, но даже просто устойчиво ходить, не опасаясь упасть. Месяца через полтора он всё же отправился в клуб. Находившиеся там приятели восторженно его встретили, бросились обниматься, а он только повторял:
– Ребята, не затискайте.
Закончив с объятиями, он огляделся. Оказалось, девчонки уже были здесь. Прежде, чем подойти к ним, попросил приятелей, с которыми вместе он играл в оркестре:
– Ребята, какой-нибудь медленный танец.
Подошёл к девчонкам, те не могли поверить своим глазам: по их понятиям – парень явился с того света. Пригласил одну, потанцевал, потом вторую. Даже медленный танец давался ему с трудом. Закончив танцевать, поблагодарил девочек и, обессиленный, но довольный собой, с чувством выполненного долга отправился домой.
Ещё месяц спустя, Иван Данилович, снова повторив свои наставления, окончательно закрыл ему больничный бюллетень.
Окончив школу в шестнадцать лет, Сергей сразу же устроился на работу учеником монтёра и вскоре стал полноправным членом бригады электриков, обслуживавших междугородную телефонную связь. Теперь после четырёх лет работы надо было срочно уволиться.
Увольняться ему пришлось бы в любом случае, потому что он затеял перевод из вечернего отделения института, где он закончил уже три курса, на дневной. Перевод он уже практически оформил, но ему предстояло сдать несколько обговорённых заранее дополнительных экзаменов, а отпущенное для этого время уже прошло. Уволился он быстро, в институте, посмотрев на больничный, ему сначала предложили оформить на год академический отпуск, но потом уступили его настойчивым просьбам и продлили срок сдачи задолженностей.
Упорства Серёге было не занимать, вскоре со своими долгами он рассчитался, даже умудрился сдать на повышенную стипендию, и пошла обычная студенческая жизнь. Учился он с интересом, радиотехника его с детства привлекала, а собранный им в шестом классе детекторный приёмник вызывал восхищение у приятелей. На четвёртом курсе он устроился работать на кафедру, небольшие деньги были хоть какой-то прибавкой к его повышенной стипендии. Жизнь в Москве была намного дороже их поселковой, но он не принимал помощи от родителей, которым на зарплату отца надо было содержать ещё двух его сестрёнок.
Тем временем учёба подходила к завершению. Пятый курс на исходе, а там полгода преддипломная практика, защита и – прощай, институт. Серёга был человеком практичным и ответственным. В семье он был младшим, родители были уже, по его понятиям, в преклонном возрасте, его долг – заботиться о них, значит, работать он должен на доступном от родительского дома расстоянии.
Кроме того, ещё в школе он положил глаз на шуструю быстроногую девочку по имени Валя, на год младше его. За это время убедился, что мысли всё время крутятся вокруг неё, значит, никто другой ему не нужен, поэтому самая пора жениться, тем более, что она одновременно с ним завершала образование в пединституте и, похоже, тоже относилась к нему неравнодушно. Не дай бог, распределение раскидает их по разным районам страны. Не откладывая решение в долгий ящик, заказал телефон Вали и после взаимных приветствий сразу же предложил ей:
– Валя, давай поженимся!
Ошалевшая от неожиданности, Валя быстро пришла в себя и через несколько минут показных раздумий согласилась.
К концу пятого курса они расписались. Скромную свадьбу с Валей отметили в студенческом общежитии с участием Серёгиных институтских приятелей и нескольких Валиных подружек. Со своими родителями отметили своё бракосочетание в узком кругу в домашних условиях.
На распределении Серёге предлагали разные города Сибири, Урала, Средней Азии, но в конце концов он остановился на подмосковном Фрязине, как наиболее близком к дому его родителей. Так он пришёл по распределению в Институт радиотехники и электроники Академии Наук. Причём диплом ему не выдали, обещали через год, а пока он получил справку, по которой его приняли на работу стажёром-исследователем. Такие в тот год были правила.
Походив по частному сектору города, они с Валей быстро нашли комнату, договорились с хозяевами и сразу же загрузили туда свои немудрёные вещи. Сложнее оказалось найти работу Вале. Школы во Фрязино оказались полностью укомплектованными, пришлось искать место в других окрестных городках. Дня через два Валя договорилась устроиться на работу в Пушкино. Ездить туда надо было сначала электричкой до Ивантеевки, а затем автобус подвозил её прямо к школе. В день, когда Валя первый раз отправилась в школу, Сергею пришлось уехать в экспедицию в деревню в Калужской области.
Так началась их с Валюхой, как называл Серёга жену, совместная жизнь.
Член-корром можешь ты не быть
Весь первый год учёбы в аспирантуре у Андрея ушёл на изучение с нуля английского языка, поскольку в школе и в институте он изучал французский, и сдачу кандидатского экзамена. Вера оставалась в родительском доме и продолжала работать на прежнем месте, и Андрей, как только появлялась возможность, забивал свой портфель мясом и колбасой и летел в Коломну. Через год у них с Верой родился сын, и Андрей решил, что настала пора формировать своё семейное гнёздышко.
Оказалось, что в подмосковном городе институт имеет свой филиал, который недавно образовался и набирал сотрудников. Андрей перевёлся в заочную аспирантуру и поступил на работу младшим научным сотрудником в лабораторию, которой заведовал Лев Тимофеевич Ремизов. Самым важным для Андрея было то, что ему тут же предоставили комнату в трёхкомнатной квартире.
К сожалению для него, Вера ещё год провела с маленьким сыном у родителей. Всё это время Андрей мотался на выходные в Коломну, загружая портфель продуктами, а в рабочие дни, возвращаясь поздно вечером с работы, укладывался спать, расстелив на полу газеты, а на них простынку, подушку и сверху одеяло. Мебель без Веры он не решался покупать.
Директором Института радиотехники и электроники АН СССР в то время был один из основоположников отечественной радиолокации академик Котельников Владимир Александрович, а заведующим отделом, в состав которого входила лаборатория Ремизова, другой мэтр отечественной радиолокации – тогда член-корреспондент, а позднее академик АН СССР Кобзарев Юрий Борисович. Научная школа по статистической радиотехнике и радиолокации, которая была создана ими в ИРЭ АН СССР, была выдающейся и давала неоценимые знания в этих областях.
Основной задачей лаборатории, которой сразу же пришлось заняться Андрею, было изучение свойств атмосферных радиопомех, для чего была создана специальная экспедиция для работы в натурных условиях. Буквально через неделю Ремизов сказал Андрею:
– Знаете, у нас в Калужской области, в деревне Лазино работает экспедиция, надо вам туда съездить, ознакомиться с обстановкой, а потом составим график проведения измерений в рамках выполняемой нами научно-исследовательской работы, основным исполнителем которой вам придётся быть. Людей у нас пока немного, но мы набираем народ, через год-полтора придут молодые специалисты, у нас уже есть разнарядка.
Так Андрей сразу же стал рабочей лошадкой полевых исследовательских работ. Поездки в экспедицию продолжались от двух недель до месяца, зато по возвращении он мог прихватить к выходным ещё пару дней, чтобы провести их с Верой и сыном.
Поначалу Андрей никак не мог понять, как ему совместить работу с аспирантурой, но потом оказалось, что материалы для диссертации, как правило, образуются при выполнении научно-исследовательских работ, так что среди сотрудников института популярным было изречение неведомого юмориста:
– Член-корром можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан.
Через год Андрей написал свой первый отчёт по научно-исследовательской работе, сделал по нему доклад на семинаре отдела, которым руководил Кобзарев, и негласно как бы утвердился в качестве полномочного члена научного коллектива. А вскоре Ремизов предложил ему стать заместителем заведующего лабораторией. Эта должность была сугубо общественной, никаких денег не добавляла, но как бы повышала статус специалиста. На всякий случай Ремизов прибавил ему к зарплате десятку.
Вскоре и Вера переехала во Фрязино и поступила на работу в конструкторский отдел того же института. И, наконец, начали появляться новые молодые специалисты. Первым после Синегина пришёл на работу в лабораторию Бекетов Сергей Вячеславович, выпускник Московского физико-технического института. Они сразу же сошлись с Андреем. Оказалось, что Бекетов родом из Запорожья, всего 80 км от Днепропетровска, так что сразу выяснилось, что у них масса взаимных интересов. Теперь отчёты по НИР они писали вдвоём, и это резко ускоряло работу. Появились у них и совместные публикации в академическом журнале их института «Радиотехника и электроника».
Прошло ещё полгода, и в лабораторию пришли ещё два новых сотрудника. После некоторого перерыва Синегин из экспедиции в Лазино, а Бекетов из короткого отпуска одновременно появились на работе. Заходят в свою комнату и видят, как какой-то новый парень возится в углу у окна с набором шестерёнок, пытаясь их состыковать одну с другой. Бекетов удивился:
– Привет! С чем это ты химичишь?
Парень улыбнулся:
– Лев Тимофеевич поручил мне запустить механический гармонический анализатор, но, похоже, одна шестеренка потеряна.
Андрей хмыкнул:
– И бог с ней. Давай лучше знакомиться. Андрей Синегин, – протянул он руку парню.
– Сергей Алексеев, – протянул тот свою в ответ.
– Мы с тобой тёзки, – подключился Бекетов. – Ты какой институт окончил?
– Авиационный, а ты?
– Я московский физтех, – отозвался Бекетов.
– А почему московский, а не просто физтех? – удивился Алексеев.
– Потому что он тоже, – Бекетов показал на Андрея, – окончил физтех, только днепропетровский.
– Не слышал про такой, – ещё больше удивился Алексеев.
– Скоро услышишь, – заверил Бекетов, – их там клепают каждый год по тысяче инженеров, скоро всю страну оккупируют.
– Пока только по четыреста, – успокоил Андрей, – к тому же трёх разных специальностей.
Прошло ещё немного времени, и в их коллективе появился ещё один сотрудник – Царёв Николай. Правда, в отличие от остальных, он был аспирантом, но ежедневно аккуратно появлялся на работе и практически ничем не отличался от других штатных сотрудников.
Все четверо сидели в одной комнате и, кроме повседневных рабочих обязанностей, были озабочены своими диссертационными делами, так что кто-то из них вскоре написал большими буквами и прикрепил к стене, как повседневное напоминание, этот же самый знаменитый лозунг:
– Член-корром можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан.
И покатилась их обыденная работа, основной частью которой было проведение экспериментальных исследований в полевых условиях. Все молодые, даже завлаб Лев Тимофеевич Ремизов едва подбирался к сорока, а остальные – сразу после вуза или техникума.
Работа в экспедиции была напряжённая, с круглосуточными дежурствами, ремонтом в полевых условиях ломавшейся техники, обслуживанием дизель-генератора, обеспечивавшего аппаратуру электричеством, поскольку располагалось всё это вдали от электричества.
Но и по возвращении из экспедиции приходилось много времени тратить на обработку накопленного экспериментального материала – многокилометровых записей на магнитных лентах и фотоплёнках, строить многочисленные графики, анализировать полученные данные и предлагать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Кропотливая и большей частью нудная работа.
Ну и, конечно, требовалась разрядка. Самый простой способ – выпивка. Не часто, но регулярно. Конечно, ходили в кино, посещали театры. Были и свои рекордсмены – завзятые театралы. Так, Лёня Протопопов даже свою двухкомнатную квартиру в Подмосковье поменял на комнату в Москве – только ради того, чтобы иметь возможность регулярно бывать в Большом театре.
Конечно, выпивка – не самый одухотворённый вариант времяпрепровождения, но, несомненно, самый распространённый. В то время основной проблемой было найти водку – не вообще, а именно тогда, когда она требовалась, поэтому на работе предпочитали использовать спирт. В институте и в лаборатории спирт был на строгом учёте. Выдавали только на определённые виды работ, расписывались в десятке ведомостей, составляли отчёт об израсходованном спирте.
Тем не менее ребята на любом применении спирта умудрялись хоть немного, но сэкономить, хотя это были, конечно, крохи. Другое дело при выезде в экспедицию. Там и контроль был слабее, и списать было проще. Но эта экономия обычно использовалась на более благородные, в какой-то мере даже общественные цели.
Так, в процессе подготовки к защите кандидатской диссертации Димы Добряка группа специалистов решила сделать из сэкономленного таким образом спирта коньяк. Нашли заводскую технологию, модернизировали её применительно к домашним условиям. Руководство всей процедурой взял на себя Юра Орехов, который и предложил основную операцию выдерживания в дубовых бочках заменить настаиванием на дубовых стружках. Стружку сделали из хорошего дубового стула, обработали стружку перекисью водорода и залили разведённым до крепости сорок градусов спиртом.
Поскольку никто не знал, сколько времени надо настаивать, оставался единственный способ – пробовать на вкус, в результате чего настаивавшийся спирт стал довольно быстро усыхать. Чтобы не ставить под удар карьеру зятя и обеспечить благополучное завершение защиты диссертации, Димина тёща сварила сорок литров самогона. Добавили ещё стружки, залили самогон – и процесс продолжился, пока все не пришли к единодушному мнению, что продукт готов.
Всё же, несмотря на все издержки домашней технологии, к защите литров двадцать самодельного коньяка было готово. Успех был огромный. Из всей лаборатории один только Лев Тимофеевич не был посвящён в тайны происхождения коньяка, но ему он, по всему видно, понравился. Нахваливая коньяк, поинтересовался:
– Где достали?
– Да у Димы знакомые оказались в конторе, где разливают коньяк, – Юра Орехов взялся объяснить таинственное происхождение такого большого количества золотистого напитка.
– А почему он без этикеток?
Действительно, коньяк красовался на столе в нескольких разнокалиберных бутылках.
– Так он же прямо с линии разлива, до упаковки, – не растерялся Юра.
Так вот, в условиях всеобщего спиртового дефицита в сейфе у Льва Тимофеевича всегда стояли две-три стеклянных банки с притёртой пробкой, в которых в качестве НЗ – неприкосновенного запаса – хранился спирт. В экстренных случаях Лев Тимофеевич доставал банку и отливал кому надо сто или двести граммов, при ближайшей возможности снова пополняя банку, поэтому про НЗ знали все.
Знать, конечно, знали, но тяжеленный сейф закрывался двумя ключами, и стоял он в кабинете завлаба, закрывавшемся специальным ключом. Ключи же от сейфа были только у Льва Тимофеевич, а от кабинета ещё и у Андрея – заместителя заведующего лабораторией.
И вот однажды возвращается Андрей из очередной экспедиции, и его тут же перехватывает техник Лёва Фёдоров:
– Слушай, надо что-то делать – Женьки Кущенко уже второй день нет на работе!
– Как нет? А домой ходили?
– Да ходили. На стук никто не отвечает, а телефона у них нет.
– А кто последним видел его?
– Да многие. Ну, и я тоже. С работы вместе шли.
– Поддатые?
– Ну, немного.
– А что пили?
– Спирт, конечно.
Женька Кущенко – мужик под два метра ростом и весом килограммов сто тридцать. Такого даже бутылка спирта не свалит, значит, случиться могло что-то серьёзное. Тем более, что склонностью к прогулам он не отличался.
– Слушай, Лёва, а может, он в аварию попал? Он никуда не собирался ехать?
У Женьки был запорожец – консервная банка. Когда Женька с трудом втискивался в него, бедный «запор» проседал почти до земли.
– Да ничего не говорил.
Пришлось Андрею собрать небольшую экспертную группу, обсудить ситуацию, договориться, что делать, и распределить поручения. Целый день до позднего вечера несколько человек обследовали все места, где, по предположениям, мог находиться Женька. Нанесли визит в милицию – за прошедшие два дня трупов в ближайшей окрестности обнаружено не было, вытрезвитель пустой, дорожных происшествий не случилось. Как видите, благословенное было время! Можно было радоваться, но Женьку-то найти не удалось!
На следующий день после беспокойной ночи Андрей с утра пришёл на работу. Не успел дойти до своей комнаты, как мимо него пронёсся пропавший Женька прямиком в комнату техников, и оттуда слышен его громкий, почти восторженный вопль:
– Мужики, где вы такую забористую штуку нашли?! Представляете, два дня дрых без просыпу! Ух, хороша, зараза!
У Андрея будто камень с души свалился. Слава богу, Женька нашёлся, живой и здоровый. Но теперь надо было разобраться, что же на самом деле произошло. Начал он аккуратно всех, кто, как ему казалось, мог иметь к этому отношение, допытывать, но без особого успеха, пока не взялся за Лёву Фёдорова. Андрей знал, что он не врёт. Мог чего-то не сказать, умолчать, но явную неправду говорить не будет. В конце концов, в результате его настойчивости Лёва всё и рассказал.
Оказалось, Лев Тимофеевич задумал перенести свой кабинет из одной комнаты в другую, недавно отремонтированную. Руководить операцией по перетаскиванию мебели поручил Лёве Фёдорову, а сам уехал на несколько дней в командировку.
Шкафы, столы, стулья перетащили быстро и подступили к тому самому тяжеленному сейфу, в недрах которого, как все знали, таились две, а может, и три банки спирта. Ситуация была соблазнительная, поскольку одна преграда в виде постоянно закрытого кабинета в данный момент отсутствовала. К тому же ни завлаба, ни его зама на работе в эти дни не было.